Текст книги "Flamma"
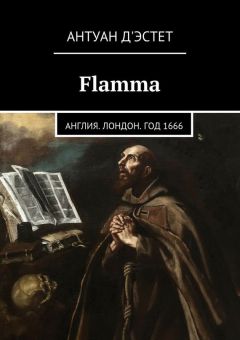
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Глава XXIX. Перемены
Несмотря на то что состояние здоровья архидьякона и его рассудок больше не вызывали беспокойства, епископ, принимая во внимание реставрацию Собора святого Павла, а следовательно и сокращение числа проводимых там служб, решил на время освободить Люциуса от обязанностей настоятеля. Благодаря этому обстоятельству у архидьякона появилось много свободного времени, которое он проводил, гуляя по улицам Сити, размышляя над словами Маргариты и прислушиваясь к двум внутренним голосам в любой ситуации друг другу противоречившим. Думал он и о том, с чего начать тот «путь познания», о коем упомянула однажды Маргарита, и…
– Господин Флам, – услышал архидьякон оклик во время одной из своих прогулок.
Он обернулся.
– Простите, сударь, а вы… – начал, было, Люциус, не узнавая обратившегося к нему человека, но тот подходил все ближе и наконец, архидьякон с непонятной смесью опаски и радости воскликнул: – Констебль Дэве!
«В беседе с ним нужно быть настороже», – тут же подумал Люциус, с беспокойством поглядывая на знакомого полицейского, но в следующее мгновение его лицо озарилось довольной улыбкой: – «Зато, если мне удастся перевести отношения с ним, хотя бы, в нейтральные, то вряд ли я найду человека более подходящего для того, что я задумал».
– Констебль Дэве, – повторил он, протягивая приблизившемуся полицейскому руку, и прямо в лоб спросил: – Надеюсь, вы меня больше не подозреваете?
Адам Дэве немного смутился.
– Н-не совсем, – протянул он.
«Хорошо», – решил Люциус.
– Но вы ведь не будете отрицать, – не слишком уверенным тоном добавил Дэве после короткой паузы, – что преступления прекратились аккурат с началом вашей болезни?
Священник нахмурился: «А вот это уже хуже».
– Не с началом болезни, а с распространением слухов о Падшем ангеле, – быстро нашелся он. – Согласитесь: опасения, порожденные пусть даже неподтвержденными слухами, всегда призывают к осторожности, а осторожному человеку гораздо сложнее стать жертвой преступления, чем человеку, погруженному в обыденность.
Констебль опустил голову.
– Да. Наверное, вы правы, – как-то быстро и без борьбы согласился он.
Люциус с недоумением взглянул на собеседника: в человеке, которого он видел перед собой сейчас, невозможно было узнать того проницательного и настойчивого полицейского, каким Дэве предстал перед ним 14 февраля возле Собора святого Павла.
«Хм, такая перемена может оказаться мне на руку», – подумал архидьякон, – «если только это не уловка».
И чтобы прояснить эту ситуацию Люциус вновь не стал искать обходных путей, а спросил прямо:
– Могу я узнать, констебль, почему вы окликнули меня?
Дэве, в который уже раз, замялся.
– Поговорить с умным человеком всегда приятно, – избегая смотреть в глаза священнику, проговорил он. – И я даже надеюсь пригласить вас в одно замечательное заведение, где наша с вами беседа, может статься, будет еще приятнее.
– Благодарю вас, – сухо отозвался на комплимент Люциус; слова констебля и его поведение весьма настораживали архидьякона, но он, тем не менее, решил идти до конца и поинтересовался: – А какое именно заведение вы изволили упомянуть?
Адам Дэве просиял, еще больше увеличивая своей радостью подозрения архидьякона, и взяв священника под руку, со словами…
– Пожалуйте сюда, ваше преподобие.
…увлек его к стоявшему на другой стороне улицы наемному экипажу. Люциус и Дэве уселись в карету, и последний, твердым голосом, наконец-таки напомнившим его прежнего, крикнул извозчику:
– На Тайберн, пожалуйста.
Услыхав название площади публичных казней, архидьякон вздрогнул, но потом, почему-то подумал: «Возможность взлететь дается только с риском упасть», и спокойно откинулся на сиденье экипажа.
***
Экипаж остановился на площади, названием которой простые лондонцы пугали своих детей, если те проявляли какие-либо дурные наклонности, а городские власти в свою очередь пугали простых лондонцев, если такие наклонности проявляли они. Но если угрозы простых горожан преследовали лишь воспитательные цели, то власти свои угрозы нередко доводили до собственно карающих действий, благодаря чему этой площадью можно было продолжать грозить и впредь.
– Сюда я бы отвел вас в феврале как убийцу, – сказал Дэве, указывая архидьякону на еще не убранный с площади, должно быть после недавней казни, эшафот, – а сегодня, – теперь он повернулся в сторону обшарпанного здания таверны с неудобочитаемой вывеской, – мы с вами будем дружески беседовать здесь.
Поборовший во время поездки свое беспокойство Люциус, отнесся к этим словам просто и без малейших признаков волнения. Он лишь неопределенно ухмыльнулся в ответ на довольно щекотливое замечание своего спутника, а затем, спокойно и уверенно, вошел вслед за ним в тесное, тускло освещенное помещение трактира (название которого так и не сумел прочесть), уселся на скамью у предложенного ему Адамом столика и весьма критично осмотрелся по сторонам. Архидьякону было с чем сравнивать, однако хаотично расставленные столы с грязными до серости скатертями; грубо сколоченные табуреты со скошенными ножками; влажные от пива, липкие от вина и жирные от жаркого скамьи, в сопоставлении с во всех отношениях безукоризненным убранством «Стар Инн’а», представали в заведомо невыгодном для того заведения, где сейчас находился Люциус, свете. А развязная и порой даже буйная толпа постояльцев, в дополнение к бьющему в голову запаху спиртного, и вовсе заставила архидьякона подивиться:
«В каком ужасном месте проводит время достойный констебль».
Одновременно с этой мыслью Люциус закончил осмотр помещения и перевел взгляд на Адама Дэве; тот сидел, подперев голову одной рукой, и постукивал по столу пальцами другой. Архидьякон какое-то время пристально смотрел в его чуть мутные глаза и наконец, все понял.
«Как же быстро меняются люди», подумал он.
А потом, несильно ударив по столу, приказал пробегавшему мимо слуге:
– Две бутылки вина… и бокалы, – а поглядев на засаленные кружки у посетителей по соседству, брезгливо добавил: – те, что почище.
При этом Люциус бросил на стол в оплату заказа крупную монету, и этот жест его оказался очень убедительным: все им запрошенное было весьма скоро подано. А еще через несколько мгновений, архидьякон, с нотками легкой печали во взоре, мог наблюдать, как Дэве откупоривает одну из принесенных бутылок и торопливо разливает вино в два, как ни странно оказавшихся действительно чистыми, стакана.
– У вас, наверное, сложилось обо мне плохое мнение? – проговорил Адам, перехватив взгляд Люциуса.
– О нет, уверяю вас, – успокоил его архидьякон, – люди порой так изменчивы, непостоянны, что устойчивому о них мнению я всегда предпочитаю сиюминутное впечатление.
– В таком случае сейчас я произвожу наихудшее, – заметил Дэве.
Люциус улыбнулся. Поначалу его беспокоила возможность продолжения начатого в феврале противостояния с Дэве; затем он расстроился тому, что констебль так опустился,… но в итоге все оказалось именно так, как ему и было нужно.
«Дэве больше мне не противник; и, к тому же, несмотря на свои низменный образ жизни, он сохранил остроту ума и ясность суждений», – решил архидьякон. – «Отлично!».
А вслух, продолжая разговор, произнес:
– И вы продолжите так думать, даже если я… предложу вам работу?
Дэве поднял на Люциуса удивленный взгляд.
– Работу?
– Да, – ответил тот, – я хочу узнать о судьбах герцога Бэкингема, Ребекки Эклипс, Жанны Обклэр, некоего конюшего Кристофера, Мортимера Култа и миссис Скин за последние два месяца. А также разузнать всё о Мери Сертэйн и об известном вам письме, в коем сообщалось о смерти барона Анкепа за два дня до! того, как она, в самом деле, его настигла.
Констебль даже присвистнул, услыхав этот поток имен, а потом ненадолго задумался.
– О Ребекке, – наконец заговорил Дэве, – я могу рассказать вам прямо сейчас. Ее семья живет здесь неподалеку и о ней тут известно всё, хоть этого всего не так уж и много: девочка повредилась рассудком и, как всякий страдающий подобным недугом, находится в Доме скорби.
Дэве подумал еще минутку.
– Что же до Бэкингема, – продолжил он, – то сплетни о вас герцог распускать перестал. Однако на вашем месте я бы не расслаблялся: свое поражение на дуэли и все былые с вами неурядицы он еще припомнит, и, хочу заметить, в самый неподходящий для вас момент. Бэкингем не замолчал – он всего только затих; опять же, если можно назвать затишьем кутежи и бесшабашные гулянья представителей золотой молодежи Лондона.
Архидьякон внимательно выслушал констебля и, когда тот замолчал, спросил:
– Значит, вы согласны?
– Разумеется, – усмехнулся Дэве, протягивая руку за деньгами, которые Люциус уже вынул из кармана, дабы оплатить только что полученные сведения. – Об остальных я сообщу вам позже.
Констебль залпом допил свой стакан вина и, не обращая внимания на стоявшую посреди стола вторую, даже непочатую бутыль, собрался уходить; архидьякон тоже поднялся с места и они, договорившись встретиться в этой же таверне через неделю, разошлись.
Глава XXX. Дом скорби
Словам Дэве насчет Бэкингема Люциус не придал никакого значения: герцога он не боялся. Зато весть о том, что Ребекка Эклипс более двух месяцев находится в приюте для ума лишенных его очень расстроила. И архидьякон решил навестить девочку. Уже в полдень следующего после разговора с констеблем дня он стоял перед Домом скорби и держал руку на мрачного вида дверном молоте, изображавшем голову демона. Трижды поднял он это олицетворение одержимости и трижды опустил его на высокие двери обители безумия, тут же, словно в отклик, услыхав за ними беспокойные завывания душевнобольных людей, среди коих даже не сразу уловил шум отодвигаемого с той стороны засова.
***
В Доме скорби архидьякона приняли с почтением, а один из смотрителей, узнав о цели его посещения, любезно вызвался сопроводить гостя в отведенное для Ребекки помещение. Он вел Люциуса по узким темным коридорам с расположенными по обе стороны унылыми каморками умалишенных. Все двери тут были обиты для крепости железом, а окна забраны частыми решетками, что делало это скорбное пристанище очень похожим на тюрьму, однако здесь многим наиболее спокойным и безвредным больным позволялось покидать свои «узилища» и выходить в коридор. И из одного конца его в другой медленно бродили безумцы с безвольно опущенными недвижимыми руками, шаркающими или волочащимися ногами и пустыми невидящими глазами, направленными в пустоту прямо перед собой.
Одним своим видом эти стены и заключенные в них, – ни живые, ни мертвые, – люди приводили Люциуса в шок потрясения, а изредка разрывающий монотонность не перестающих раздаваться отовсюду завываний и стука в стену, вопль, нагнетал на священника давящую тоску и болезненное уныние.
Тем удивительнее было услышать от одного из здешних обитателей такие красивые и осмысленные слова:
– Когда сильно любишь женщину, говоришь: «Я боготворю ее!», то есть дословно: «делаю из нее бога». И это не просто слова, ведь иногда, перед любимой женщиной действительно хочется преклонить колени – в каком-то священном порыве пасть пред ней ниц, восславить ее псалмом своей души, молиться ей, – произнес с виду абсолютно нормальный человек, приближаясь к Люциусу.
– Да… наверное, – только и смог промолвить тот, пораженный его ясным взглядом и, по чувственному, цветным голосом.
– Так может ли быть любовь к женщине настолько сильной, чтобы в творимых ею богинь уверовали не только сами влюбленные, но и все окружающие? – спросил незнакомец у архидьякона и, скользнув взглядом по его спутнику, как истинный мечтатель не стал дожидаться ответа. Он пошел дальше по коридору, дружелюбно раскланиваясь с не реагирующими на него больными (и, кажется, даже на кого-то из них за это обиделся), а потом исчез в одной из прилегающих к коридору комнатушек.
Люциус с неподдельным интересом проследил весь путь этого человека и вздохнул.
– Неужели подобные мысли простого романтика сочли безумием? – удивился он.
Смотритель, иронично поглядывая на священника, усмехнулся.
– Нет, ваше преподобие, – кощунством.
«Вот так Церковь оберегает свое ослепительное сияние от даже невольного инакомыслия», – пронеслась в голове архидьякона явно принадлежащая Люсьену дума.
– Значит не все здесь сумасшедшие? – содрогнулся он, от осознания того, что среди этого безумия живут и нормальные люди.
– Отнюдь, – отозвался смотритель. – Вот взять, например, этого, – он указал на выглядывавшего из-за дверного проема человека с полными смыслом глазами, – он не сумасшедший и даже не больной, а обычный дурень, каких в мире полным-полно.
– Дураков на свете не много, – отозвался тот, услыхав, что речь зашла о нем, – просто все они так хитро расставлены, что попадаются в жизни всегда и каждому.
Люциус вновь изумился, услыхав такое суждение из уст человека обитавшего в месте, именуемом приютом для умалишенных.
– Тогда отчего же он здесь? – спросил архидьякон, оглядываясь на оставленного позади, и не менее интересного, чем первый, персонажа.
– От того, что тут ему нравится больше, чем там, – ответил смотритель, указывая за окно. – Он – нормальный, и потому здесь он чувствует себя выше других, а в миру он, несмотря на все свои, надо сказать неоспоримые, достоинства – никто.
Люциус недоверчиво осмотрелся по сторонам:
– Неужели можно добровольно принять всё это?
– Поверьте, можно, – снова усмехнулся его спутник. – Однажды он даже покусал пытавшегося его выпроводить смотрителя, якобы доказывая этим, что он сумасшедший.
Люциус и его провожатый свернули за угол и в следующем, таком же узком, как и прежний, коридоре столкнулись с полускрюченным больным, который, устремив на архидьякона и сопровождавшего его смотрителя взор своих широко раскрытых, словно от постоянного страха, глаз, жалким голосом пролепетал: «Я больше не буду», и, опасливо озираясь, прошел мимо. А чуть дальше, в комнате слева по коридору, какой-то несчастный с бешено перебегающим с одного на другой предмет взглядом, бормотал какую-то несуразицу о пришедших за ним бесах, и, отбиваясь от пытавшихся его утихомирить смотрителей, с криками: «Сгинь, черть поганый», плевался во все стороны.
Что же до смотрителей, то их архидьякон видел по пути немало, и все они тоже были разными: кто-то относился к больным со всем вниманием, как к неразумным детям; кто-то был равнодушен и просто выполнял свою работу, а кто-то так и вовсе потешался над несчастными. Так в одной из комнат Люциус увидел сутулого старика, мерно раскачиваясь сидевшего на стуле и не мигая смотревшего в стену перед собой. Рот умалишенного был открыт и скопившаяся в нем слюна, медленно перетекая через губы, устремлялась к полу, на радость делавших ставки, – дотянется-недотянется, – смотрителей.
Но вот, наконец, провожатый архидьякона остановился у крайней, в конце коридора, двери и с осторожностью, дабы не издать лишнего звука, отворил ее.
– О, Ребекка, – прошептал он с умилением и сочувствием, заглядывая внутрь ее помещения. – Эта девочка действительно больна. И к тому же очень интересным помешательством, но… сначала обратите внимание на ее комнату.
Люциус внимательно осмотрел из-за плеча своего спутника всё помещение: четыре голых стены, стоящая посредине кровать и окно прямо напротив двери (наверное, единственное во всём приюте не зарешеченное) – были тем не многим, что мог отметить здесь даже самый дотошный глаз.
– Продолжайте, – сказал архидьякон.
– Так вот, – заговорил смотритель, кивая на сидевшую в кровати девочку, – она сидит посреди своей комнаты, из окошка падает луч солнечного света и утром, пока солнце поднимается, а полоса света на полу расширяется, Ребекка спокойна и едва ли не блаженна. Но стоит солнцу склониться к своему закату, а лучику света на полу сузиться, как несчастная девочка начинает нервничать. Сначала она, жалостливо поскуливая, передвигается поближе к окну, где остается больше света, но когда и там ее постепенно обступает темнота, она принимается выть, кидаться, то в одну, то в другую сторону и пытается расширить границы света, ладошками отодвинув тьму.
Люциус слушал смотрителя и, видя перед собой комнату, где должны были происходить описываемые события, очень живо себе их представлял. Однако что-то в этом рассказе его насторожило.
– Но ведь ее нашли в темном сарае, и тогда она боялась не темноты, а только теней, – наконец понял архидьякон, что не так в рассказе смотрителя; но в ответ на слова Люциуса тот только пожал плечами:
– Наверное, болезнь прогрессирует.
Зато девочка, сидевшая к ним спиной, вздрогнула, и это обстоятельство не укрылось от наблюдательности архидьякона. К тому же в это самое время туча заслонила собою солнце, и в комнате Ребекки стало темнеть, а Люциусу довелось воочию наблюдать описанные смотрителем проявления ее сумасшествия. Девочка действительно казалась безумной и творила безумные вещи, но проницательный архидьякон уловил в них некое подражание уже виденным в коридоре больным, а стремительно обогнув комнату и взглянув на Ребекку спереди, заметил в ее глазах мелькнувшую и мигом погасшую (или скорее – погашенную) искру осмысленности.
Из груди Люциуса вырвался вздох облегчения, но он подавил, подпиравшее к горлу радостным криком, ликование и спокойным, твердым голосом попросил смотрителя выйти, ненадолго оставив его с Ребеккой наедине.
– Ты помнишь меня? – спросил архидьякон у Ребекки, когда они остались одни.
Девочка, понимая, что ее притворство раскрыли, смущенно опустила глаза.
– Да, ваше преподобие, – виновато прошептала она.
***
Следующие пару минут архидьякон успокаивал обрадовано стучавшее в груди сердце, а Ребекка, не поднимая головы, молча, водила из стороны в сторону пальчиком по одеялу.
– Почему ты притворяешься безумной, дитя? – поинтересовался, наконец, Люциус.
Ребекка не ответила.
– Зачем тебе… – продолжал расспрашивать девочку священник, но не нашелся, что сказать и просто обвел комнату выразительным жестом, – …это?
– Дома не намного лучше, – по-детски ворчливо хмыкнула Ребекка.
– Но там ты свободна, ты можешь… гулять…
– Здесь я тоже гуляю. Днем меня иногда пускают во двор, а в коридорах всегда ярко освещают путь факелами из-за моей «боязни» темноты, – девочка усмехнулась и исподлобья сверкнула на Люциуса глазками, – это так забавно.
– А как же семья? – не отставал от нее архидьякон.
Личико Ребекки омрачилось набежавшей тучкой сожаления, но девочка, тут же, согнала ее.
– Они любят меня, – прошептала она. – И я их люблю… потому и ушла.
– Не понимаю, – проговорил Люциус. – У тебя есть дом, любящая и любимая семья,… почему ты предпочла всему этому полный сумасшедших Дом скорби – храму спокойного семейного счастья, выбрала обитель безумия?
– Чтобы всем нам было легче, – сказала Ребекка. – И потом здесь хорошо кормят, – успокоительно добавила она, видя, что весь облик архидьякона дышит состраданием и сочувствием к ней.
Но у Люциуса от этих слов, наоборот, навернулись на глаза слезы. Вспоминая наполненный необычайными событиями вечер, когда впервые увидел Ребекку, – какой живой и веселой она была тогда, – он не хотел поверить виденному теперь: грустной рассудительности десятилетней девочки из приюта умалишенных..
– Неужели ты задумала все это с самого начала? – сам не веря тому, что говорит, поинтересовался он.
– Нет, – покачивая головой, ответила маленькая Ребекка. – Поначалу я действительно могла показаться безумной, – я была очень напугана, – а потом меня страшно потрясли обитатели Дома скорби. Остаться я решила позже.
– Напугана? – удивился Люциус, но вновь обратив память к вечеру двадцать четвертого марта, спросил: – А что ты увидела за моей спиной в тот день?
– Охваченный пожаром город, – начала рассказывать Ребекка, но в голове Люциуса уже слышался, отвечавший на, тот же, вопрос, шепот Маргариты:
– Там…
…тень и свет играли властно,
Жарким пламенем объяв дома.
И было всё, как днем, мне ясно:
То Лондона грядущая судьба.
Архидьякон вздрогнул и нахмурился, а девочка, заметив, что он ушел в себя и не слушает ее, прервалась.
– Не расстраивайтесь из-за меня, святой отец, – подойдя к архидьякону, взяв его за руку и заглянув ему в глаза, проговорила Ребекка, решившая, что это она является причиной охватившей священника мрачной задумчивости. – Смотритель Павел, – тот, что ввел вас сюда, – очень добр ко мне, а дяденька, который все время рассуждает о любви к женщинам, часто рассказывает мне сказки. Мне здесь хорошо. А после беседы с вами стало еще лучше.
– А как же твоя семья? – в последний раз попытался образумить Ребекку Люциус.
Девочка хитро улыбнулась и, повернув его вопрос немного иначе, сказала:
– От разговора с вами и им станет легче. Навестите их.
И архидьякон сдался:
– Обещаю…
***
Люциус покинул комнатку Ребекки с чувством огромной тяжести на душе. Ему не удалось познать смысла в поступке этой девочки, как не удалось и уговорить ее вернуться домой. Но в коридоре, прямо у дверей ее комнаты, он столкнулся с развлекавшим Ребекку сказками мечтателем; тот светло улыбнулся архидьякону и сказал:
– Души женщин, – даже самых маленьких из них, – всегда в полете, а мужские, привязаны к земле и взлетают лишь настолько, насколько позволяет удерживающая их веревка.
Люциус посмотрел на него с недоумением.
– Однако ваши фантазии и рассуждения говорят о заоблачных далях ваших взлётов.
– Значит мой поводок длиннее высоты полета иной женщины, только и всего.
– Счастливец! – почти позавидовал священник. – Вы можете видеть их души свысока. А что делать остальным, знающим женщин много хуже?
– Просто не пытайтесь понять всех ее мыслей, – отозвался мечтатель, исчезая в комнате Ребекки, – а когда она просит чего-то странного, обязательно исполните ее желание.
– Обещаю… – вновь проговорил Люциус и ушел из Дома скорби уже с гораздо меньшим грузом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































