Текст книги "Flamma"
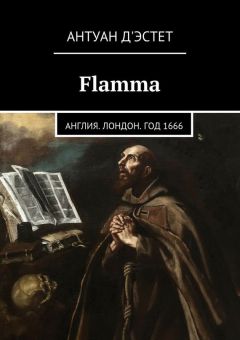
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Глава XVIII. Храм лицемерия
Предложенная «Отверженными» дилемма лишила архидьякона душевного равновесия и ясности мыслей: он боялся не найти выхода из сложившейся ситуации, он опасался необдуманных действии, он остерегался ошибок… ему требовался покой. Поэтому следующие несколько дней архидьякон провел в одиночестве своей кельи, почти не покидая ее, и лишь однажды, вняв просьбе причетника Павла, спустился к своим прихожанам. Он надеялся, что такая мелочь не сможет повредить ему, но когда узнал, зачем именно его позвали, когда увидел счастливо улыбавшуюся молодую пару и светлый лик упеленатого младенца, которого ему предстояло крестить, сознание чуть было не покинуло архидьякона.
Поддерживаемый обеспокоенным Павлом вернулся он в келью и, сразу же бессильно сев на кровать, страдальчески обхватил голову руками. А причетник растерянно смотрел на него и не знал, как следует поступить: он почему-то догадывался, что Люциусу не требуется доктор, что его недомогание имеет несколько иную природу.
– Что мне им сказать, ваше преподобие? – немного погодя, робко спросил Павел у замершего архидьякона.
Тот не отвечал: он был безмолвен, недвижен и, казалось, даже не слышал обращенного к нему вопроса. Но так только казалось.
– Смею ли я – убийца, – крестить невинное дитя? – отнимая руки от своего лица и устремляя на причетника взор блеснувших глаз, произнес Люциус.
Павел, пораженный его словами, отшатнулся: он, как и все в Лондоне (а быть может уже и за его приделами), был наслышан сплетнями о причастности архидьякона к ритуальным убийствам, но никогда, в том числе и сейчас, этому не верил.
«Признание это, лихорадочный бред или помутившийся рассудок?» – мелькнула в его голове недоуменная мысль. Однако возможность первого, тут же, была отметена вырвавшимся из его уст (и бывшим более чем недоверчивым) восклицанием:
– Убийца?.. вы?!
Теперь уже пришлось удивиться Люциусу. После своего визита в «Стар Инн» он был разбит и ему изменило обычное его хладнокровие – он позволил себе слабость и допустил глупость, по сути непростительные; он уже корил себя за малодушие, но Павел… Павел дал ему возможность все исправить.
– Я не считаю себя достойным совершать священные таинства, покуда имя мое остается запятнанным, – проговорил архидьякон, придавая сказанному прежде несколько иной смысл, – ибо не хочу пятнать людей мне доверяющих, той грязью, что приписывают мне люди меня подозревающие.
***
Случай с причетником ясно показал архидьякону насколько подорваны его внутренние силы и на какие оплошности он в таком состоянии способен. Однако отменять договоренную с епископом поездку в театр Люциус не стал, наоборот, он ожидал ее едва ли ни с большим нетерпением, нежели любивший такого рода развлечения прелат, ведь эта поездка, ранее задуманная как средство борьбы с распущенными Бэкингемом слухами, теперь могла послужить еще и средством для успокоения самого архидьякона.
И театр оправдал ожидания. Пусть это был не разукрашенный и раззолоченный «Глобус» с роскошными ложами, а всего лишь огороженная площадка под открытым небом с расставленными полукружьем рядами стульев, театр этот был прекрасен. Не видом своим, а царившим в нем настроением. В отличие от элитных опер и театров, в фойе которых властвовали чопорность и путы этикета, здесь бал правила безмятежная веселость. Лица окружающих стариков и детей, молодых пар и счастливых семей – словом всех, от мала до велика, сияли искренним удовольствием и, пробуждающей в сердце радость, приветливостью. Даже горе и слезы здесь воспринимались иначе, ибо наблюдались только на театральных масках и в сценках подобных тем, какую с умилением созерцал епископ.
Мальчик лет семи, выпрашивая что-то у родителей, больно кусал себе губы и плотно сжимал кулачки, заставляя себя плакать. При этом все выглядело так, будто он наоборот всячески старается сдержать слезы, и это только увеличивало сострадание к нему. А получив желаемое, сорванец мигом иссушил свои слезы, и на его по-детски хитрой физиономии вновь заиграла довольная улыбка.
Епископ от души засмеялся.
– Если лицемерие это грех, – весело проговорил он, – то мы находимся прямо в храме поклонения ему. – И, повернувшись к архидьякону, шутя, спросил: – Тебя это не смущает, Люциус?
– Нет, – улыбнувшись, ответил тот. – У каждого греха есть степень и влияющие на нее обстоятельства: это как «грабить богатых, чтобы раздавать деньги бедным» или скажем, «ложь во спасение».
Действительно, окунувшись в атмосферу добра и радости, архидьякону наконец-таки удалось выбросить из головы угнетающую философию «Отверженных»; и он задумался:
«К чему разделять мир на черное и белое, когда в нем присутствуют не только сотни оттенков серого, но еще и целый спектр радужных цветов?».
***
Кто-то объявил о скором начале представления, и народ поспешил к расставленным для него стульям. Туда же направились и оба священника.
Епископу хотелось занять место поближе к сцене, но архидьякон, которого, пожалуй, даже больше чем спектакль, интересовали собравшиеся здесь люди, настоял на том, чтобы сесть в последних рядах. И не прогадал…, перед ним раскинулась целая жизнь: маленький мальчик угостил свою столь же малого возраста соседку конфетой; хорошенькая девушка лет семнадцати игриво потрепала волосы своего восьмилетнего братца; молодой человек, двумя рядами выше, с нежностью посмотрел на эту девушку; а рядом с ним обменялась мимолетным поцелуем, тут же стыдливо покраснев, немолодая уже пара.
Даже сердце в груди как будто бы становилось больше от созерцания этих сияющих добром и любовью лиц, но и среди них не все были счастливы. На следующем перед Люциусом ряду и немногим от него левее сидел, выделяясь своим понурым видом, Кристофер – тот самый грум, что так недавно провожал архидьякона до входа в «Стар Инн». Он был взволнован и чуточку бледен, а взгляд его, в отличие от остальных, был направлен не на сцену, где артисты приготовляли свой нехитрый реквизит к предстоящему спектаклю, но куда-то в сторону – в самую гущу зрителей.
«Жанна Обклэр», – догадался Люциус даже раньше, чем увидел ту на кого смотрел молодой конюх.
И с души архидьякона снова исчезла легкость. Грусть одного, – пусть мало, но знакомого человека (тем более что эта грусть, как думал Люциус, отчасти была и его виной), – пересилила веселье всех окружающих; он помрачнел, но уже через мгновенье понял, что это не самый неприятный сюрприз: на стул рядом с Кристофером опустился… Мортимер.
– Сударь, у вас больно угрюмый вид для столь чудного места, – усаживаясь, обратился сектант к Кристоферу; и с видом демона-искусителя прибавил: – Не случилось ли у вас какого… несчастья?
Последнее слово он произнес, чуть повернувшись и криво улыбнувшись Люциусу, словно хотел показать: «Этот человек выбран мной неслучайно». Но архидьякон не принял содержавшегося в этой улыбке вызова, он надеялся узреть крах сектанта о чистоту чувств Кристофера и решил не вмешиваться… пока.
– Нет, сударь, – отвечал тем временем молодой человек. – Благодарю вас за участие, но я напротив очень счастлив или… – его глаза подернулись мечтательной дымкой, – …почти.
– Хм, – пробормотал «Отверженный», неторопливо отворачиваясь от Люциуса. – Как же обманчивы бывают внешние проявления наших чувств. Впрочем, и намерений тоже. Однако вы явно…
Договорить Мортимеру не удалось: в готовившуюся начаться борьбу за душу Кристофера неожиданно (даже для архидьякона) вступил епископ.
– Оставьте, господин Култ, – просто, но с каким-то внутренним сознанием своего превосходства сказал он. – Разве вы не видите: молодой человек влюблен.
Кристофер смущенно покраснел; а удивлению Мортимера так и вовсе не было придела: очень немногие знали фамилию главы «Отверженных», чтобы он мог предвидеть подобное.
– А могу я узнать, кто вы? – спросил он, на миг даже позабыв о своей жертве.
– Разумеется, – с прежней самоуверенностью ответствовал прелат. – Только для этого нужно хотя бы изредка посещать храмы и соборы города. Я – епископ Лондонский.
Мортимер улыбнулся. Как ни странно, но прозвучавший титул только обрадовал его: в глазах сектанта он придавал предстоящему противостоянию какой-то мистический оттенок.
«Итак, глава секты „Отверженных“ и первосвященник официальной церкви Лондона», – с удовлетворением сильной личности получившей достойного соперника подумал Мортимер. – «Прекрасно!».
А вслух, дабы попробовать силы в противоречии, произнес:
– Думаю, ваше преосвященство ошибаетесь, называя любовью страсть.
– Любовь мягкими волнами чувств обволакивает сердце и душу, страсть же беспросветной пеленой затуманивает рассудок – их невозможно перепутать, – отозвался прелат, но смотрел он при этом на Кристофера, ясно давая понять сектанту, что вступил в этот разговор отнюдь не ради собственного (и тем более не ради Мортимерова) удовольствия. Однако «Отверженный» сделал вид, что не замечает пренебрежительного к себе отношения со стороны священников.
– Я вижу, у церкви на сей предмет весьма поверхностные взгляды, – усмехаясь, отметил он. – А вы что скажете, сударь?
Кристофер, погруженный в созерцание красавицы Обклэр, не отвечал. Но и молчание продлилось недолго: сектант с епископом, словно черт и ангел, принялись внушать ему с разных сторон противные друг другу мысли.
– Страсть согревает нас пылкостью желаний.
– Но и сама скоро сгорает. Вместе с чувством.
– А любовь… она только душит.
– Да, порой мучительно медленно, но всегда приятно.
Кристофер все еще молчал, и могло даже показаться, что он не слушает своих навязчивых соседей, но от наблюдательности Люциуса не укрылись признаки испытываемого молодым человеком легкого внутреннего трепета, говорившего о том, что слова, все же, находят в его душе свой отклик.
Как бы то ни было, препирательства «Отверженного» и епископа рано или поздно должны были перекинуться с общего на частное и коснуться уже непосредственно Кристофера. Что собственно и произошло, когда Мортимер задал ему несколько бестактный вопрос:
– И что вы в ней такого находите? с виду обычная служанка.
Молодой человек вздрогнул, но будучи полностью поглощен своим чувством, не выказал в своем ответе, ни гнева, ни раздражения.
– В простом движении ее руки больше грации и изящества, чем в целом танце любой из здешних артисток, – вдохновленный возможностью вознести хвалу своей избраннице, произнес он. – В ее улыбке больше чувства, чем в игре любого актера; а в ее глазах больше жизни, чем в любом спектакле.
Напрягшийся было Люциус, вздохнул с облегчением: такой ответ Кристофера говорил об истинной чистоте его чувства. Но Мортимер упрямо пожал плечами:
– Не вижу в ней ничего, что могло бы соблазнить.
– Она обаятельна, – пояснил епископ, – а это гораздо важнее.
– Позвольте узнать, чем же?
– Возжелать мы можем чуть ни каждую третью, влюбляемся за свою жизнь лишь в нескольких, а по настоящему полюбить, способны только одну.
Эти слова заставили всех троих (ибо Кристофер и без того не сводил с нее глаз) направить взоры на Жанну. И сила взгляда четырех мужчин заставила девушку обернуться. Лица Кристофера и Жанны залила краска, порожденного одним и тем же чувством, смущения, но:
– Сдается мне, она смотрит на вас, господин Флам, – заметил Мортимер.
– Возможно, – нехотя согласился архидьякон. – Она одна из моих прихожанок.
– И только-то? – съязвил сектант.
– Надеюсь, – нахмурился епископ, – вы сказали это без злого умысла. Во всяком случае, не забывайте: вы находитесь рядом с тем, кто любит эту женщину.
– О-о, и рядом с тем, кого любит она, – с хорошо понятным архидьякону ехидством вставил Мортимер. – Я уверен. Кстати, молодой человек, – обратился он к Кристоферу, заставив Люциуса (впрочем, попусту) вздрогнуть. – Как вы относитесь к мужчинам, которые вертятся вокруг вашей красавицы-возлюбленной?
– Каждый раз, когда к ней проходит мужчина, я замираю, – отозвался молодой влюбленный, – словно из страха, что вот прямо сейчас и так просто у меня отберут нечто большее, чем жизнь.
Мортимер улыбнулся и удовлетворенным взглядом окинул обоих священников, но епископ не дал ему порадоваться мнимому успеху:
– И это здорово! – с не вызывающей сомнений искренностью воскликнул он.
По жилам на руках и шее сектанта пробежала нервная судорога.
– Как?! Вы допускаете, что в чистой любви позволительна ревность? Но ведь это чувство чем-то сродни эгоизму.
– Любовь, как и религия, должна! быть эгоистичной, – заявил прелат; и довольный представившейся возможностью уколоть сектанта, прибавил: – Иначе мало ли какие в ней могут возникнуть извращения.
«Отверженный» понял, на что намекает епископ, но в дебри религии вдаваться не стал. Он уже чувствовал, что в борьбе с епископом заполучить Кристофера ему не удастся. Однако и сдаваться Мортимер не собирался: он решил создать задел для будущего и заронить в душу молодого человека семечко, долженствующее принести свои губительные плоды впоследствии.
– Чистая любовь… – презрительно пробормотал сектант. – Так пусть скажет ей об этом!
– Слова, сказанные под влиянием чувства, пусть даже самые романтичные, со временем могут показаться пустыми и глупыми, ибо так или иначе порождены разумом, – несогласно помотал головой епископ. – Зато самый глупый и бессмысленный поступок, также совершенный под влиянием чувства, через некоторое время покажется донельзя романтичным, ибо исходить он будет от сердца.
– В таком случае он никогда не будет счастлив, – сделал свой жестокий вывод «Отверженный».
– А разве способность испытывать подобные чувства не есть счастье?
– Нет. Это всего лишь мечты о нем.
– Мечты сбываются, – резонно заметил епископ.
– Но не его, – отрезал Мортимер. – Даже если ему хватит сил признаться ей, кто поручится за то, что сердце прекрасной избранницы свободно? – Говоря это, он бросил на архидьякона лукавый взгляд, а после влил в уши Кристофера новую порцию яда: – Порой бог создает для нескольких людей всего одно счастье; а когда многие оказываются вынужденными вступить в борьбу за что-то единственное и нераздельное – это называется…
Сектант сделал паузу, дожидаясь реакции молодого человека, грезы которого продолжали сносить сыпавшиеся на них безжалостные удары.
– …испытанием, – машинально закончил тот.
Мортимер усмехнулся.
– Да, – подтвердил он, вставая; и снова обратившись к священникам, сказал: – А на «поступок» он не способен.
Сектант бросил на Кристофера злорадный, почти хищный, взгляд и молодой человек, помрачнев, отвернулся. Он был расстроен… и больше всего тем, что спор незнакомых ему людей так больно затрагивал его чувства.
– Хватит! – воскликнул епископ. – Довольно! Вы – проклятие рода человеческого, вы совращаете людей, когда они наиболее уязвимы и даже самое светлое в них способны повернуть во вред; вы заставляете их почувствовать себя слабыми, вы лишаете их надежд, вы играете на их чувствах… и ведете их к погибели.
– Не все ли равно, если вам только что удалось отстоять одного, – огрызнулся Мортимер. – Впрочем, ненадолго. – Он повернулся к архидьякону. – Вы это знаете: он будет несчастен. И меня забавляет тот факт, что именно Вы! станете причиной его обращения к нам.
Он сделал несколько шагов прочь от священников, сегодня одержавших над ним некое подобие победы, но вдруг остановился, и, вернувшись, наклонился к архидьякону.
– Кстати, Люциус, – прошептал он ему на ухо, – Ребекка Эклипс сегодня будет здесь. – Затем снова удаляясь, проговорил: – Надеюсь хоть в этом, мои ожидания будут оправданы.
***
За то время, пока продолжался этот разговор, на сцене были сделаны последние приготовления к предстоящему спектаклю. И священники, по примеру Кристофера (горести которого ушли вслед за Мортимером, а надежды остались рядом с Жанной) постарались попросту забыть о сектанте и погрузиться в волшебство театра. Представление началось.
Глава XIX. Сказ о заколдованной змее и гордой ведьме
Бродячий театр, как и следовало ожидать, не поражал богатством и яркостью своих декорации, однако с лихвой компенсировал этот недостаток талантом и выдумкой своих артистов. И если поначалу растянутое на сцене бледно-серое полотно с множеством потертостей и парой-тройкой отнюдь не маленьких дыр, вызывало в толпе лишь снисходительную улыбку, то уже через минуту, неожиданно-чудесное превращение столь невзрачного куска материи, заставило глаза зрителей расшириться, а рты раскрыться от изумления.
Полотно вдруг осветилось десятками одновременно загоревшихся за ним огней и явило замершим от восхищения людям картину, чем-то напоминавшую густой лес на рассвете, когда медленно поднимающееся из-за горизонта солнце, мягко обтекает своими лучами непохожие друг на друга очертания деревьев, а кружащуюся в воздухе между ними пыльцу заставляет мерцать подобно сказочным феям. Но так бывает в настоящем лесу, где чудеса творит сама природа, а здесь, лесное волшебство было оправлено рукою человека и оживлялось его талантом и фантазией. Так деревья, сначала немного заколыхавшиеся, словно на слабом утреннем ветру, постепенно сбросили с себя вековое оцепенение и потрясающе плавным движением обратились в фигуры танцующих по ту сторону полотна мужчин и женщин. Тенями заплясали они перед затаившими дыхание зрителями, а зачарованный этим зрелищем Люциус подумал:
«Если уж простое движение руки Жанны Кристофер считает более изящным и грациозным, чем то, что я вижу перед собой сейчас, значит его чувство к ней не просто сильно – оно до крайности безумно».
Тем временем самый большой, но до сих пор бледноватый, светящийся шар, в продолжение всего танца неуклонно поднимавшийся с самого низа полотна, наконец-таки добрался до дыры в верхнем его углу и засиял подобно солнцу, которое изображал. А фантастические тени, будто разогнанные его лучами, вновь стали лесными камнями и деревьями, но теперь в просвете между ними угадывались очертания отдаленной деревеньки.
На сцену вышли два шутовски одетых артиста театра и один из них в абсолютной тишине (ибо зрители еще не успели оправиться от увиденной прелюдии спектакля) провозгласил:
– Сказ о заколдованной змее и гордой ведьме.
***
– Жила в деревне девушка одна.
Красивая! Но краше стать мечтала.
Мечтою этою себя бедняжка изнуряла,
Да в красоте никак не прибавляла,
– продекламировал один из стоявших на краю сцены артистов.
И следуя за его словами, полотно мгновенно преображалось, как по волшебству сменяя очертания деревушки на прекрасный девичий портрет. Можно было только удивляться, как слаженно и быстро работают люди за растянутой материей, ведь картины на полотне почти без пауз иллюстрировали слова артистов находившихся на сцене. Спектакль продолжался:
– Но девушка однажды змейку повстречала,
Сначала испугалась – страшно захватило дух,
Потом змея красавице на ушко что-то зашептала
И та, внимая ей, вдруг обратилась в слух.
На полотне появилась поразительно правдоподобная змеиная тень и обвилась вокруг изображения девушки. До зрителей, словно из ниоткуда, донесся приятный, но чуть шипящий, женский шепот:
«Ах, ах! Красива ты, но та ли это красота,
Коль ни очаровать, ни удержать не может?
А жажда нравиться тебя я вижу так и гложет».
Актер на сцене пояснил:
– Девичьим голоском к ней обращалась змейка та.
А шепот продолжался:
«Вот то ли дело я! Стройна, изящна и легка».
– Змея сказала, похваляясь, – снова вмешался один из артистов на сцене.
«Погляди!
Какие линии, какой изгиб! И речь моя сладка
Не то что у тебя».
– Внушала ей она.
«Но подойди,
В глаза мне посмотри.
Ну как?
Подобны небосводу: все чаруют – только так».
Стоило змеиному шепоту умолкнуть, как один из поясняющих актеров вышел на середину сцены и сопровождаемый меняющимися за его спиной изображениями проговорил:
«Коварно извиваясь, змея соблазняла,
Дыханье затая, ей девушка внимала,
Все слаще змея шептать продолжала,
Змейкой восхищаться девица стала».
Портрет девушки, состоявший из одних только человеческих теней, вдруг ожил и на полотне в унисон новому женскому голосу зашевелились губы:
«Какая шкурка гладкая у вас!
На солнышке блестит и радует глаз.
Такой как вы я б стать хотела. Ах!
Я в золотых купалась бы лучах,
Всех на деревне покорила б в раз.
Как жаль что невозможно это! Тот же час,
На вашу шкурку красу обыденную б обменяла
И только краше бы от этого я стала».
У зрителей захватило дух, когда при последних словах на черно-белом изображении девушки отчетливо прочиталась грусть. Но спектакль продолжался и вновь раздался шепот:
«Возможно все! Тебя я научу».
– Обрадовано змейка отвечала.
«Ты только трижды прокричи: «Хочу».
– И не задумавшись, девица закричала:
«Хочу! Хочу! Хочу!»
– Да только лишь глупышка замолчала,
Как в тот же миг сама змеею стала,
– закончил сценку один из актеров с подмостков, а другой, обращаясь к без того все видевшим за его спиной зрителям, добавил:
– А та, что прежде виделась змеей
Девицей обернулася красивей первой
И нежно ей сказала:
«Ты меня прости,
Пришлось тебя вкруг пальца обвести,
Дабы самой змеей не оставаться
Проклятье таково; и нам с ним не тягаться».
На полотне необычайно красиво и почти неуловимо для взгляда произошло описанное артистом превращение и, хотя по сути змея с чуть изменившимся в чертах женским портретом всего лишь поменялись местами и голосами, зрители громко и восторженно вздохнули и заулыбались. Им показалось забавным, что теперь змеиный шепот раздавался из по-прежнему шевелившихся в согласии со словами губ девушки. А чистый девичий голосок донесся до них уже из уст змеи:
«О чем ты?»
– Мило удивилась та в ответ.
«Я счастлива, претензий к тебе нет.
Но мне не терпится красою похваляться,
Давай-ка мы с тобой прощаться».
Губы девушки, ранее бывшей змеей, снова зашевелились:
«Как знаешь»
– Отвечала та и стала удаляться,
Да уходя, вдруг грустно молвила себе под нос:
«Недолго тебе счастьем наслаждаться»
– И ускоряя шаг, ушла за покос.
На середину сцены снова вышел поясняющий артист.
– А дело было вот в чем, – сказал он, и изображение на полотне, словно рассыпавшись на десятки составляющих, в мгновение ока собралось в новую, поражающую своей живостью, картину, как и прежде полностью совпадавшую со словами актеров.
– Жил на свете злобный маг,
Влюбиться он не мог никак.
Красавицы ж над ним смеялись,
А иногда так даже издевались,
– говорил один из находившихся на подмостках артистов.
– И ненависть взыграла в нем, – подхватывал его слова другой. А на полотне тем временем успело появиться изображение действительно страшной и с виду очень вредной рожи. Соответствующий же гнусавый голос повторяемый движением кривых губ произнес:
«Красы то много, чувств же никаких».
– Озлобился тогда колдун на них.
И стал пути для мести изыскать,
Да план подлейший измышлять,
Как же красавиц гордых наказать,
– рассказывал зрителям один из артистов.
– И повезло ж однажды колдуну!
Нашел у женщин слабину:
Желанье увеличить свою красоту.
Да стал давить на слабость эту.
Он, обратившийся змеей,
Подполз к красавице такой,
Что кажется: «Чего еще желать?»,
И стал ту девицу прельщать.
Слова красиво говорил,
Да взглядом соблазнял,
И в дар принять он умолял
То, что на самом деле отнял,
– продолжал рассказ коллеги второй актер.
– Глупышка змейкою стать возжелала
И красоту бедняжка потеряла.
Двое артистов едва успевали озвучивать происходившие на полотне метаморфозы.
– А колдуну то мало: помнит, как его дразнили.
«Избавишься тогда лишь от проклятья ты,
Когда понравиться безмерно в облике змеи
Ты девушке сумеешь, и исполнишь те ее мечты,
Что так недавно и тебя саму сгубили».
Гнусавая реплика колдуна, несмотря на серьезность ее содержания, заставила зрителей улыбнуться, а повествование тем временем продолжалось:
– Но вот и колдуна давно уже не стало,
А проклятье действовать не перестало.
– Красавицы прекрасней стать мечтают,
Друг дружку в змеек превращают,
– с поучающе-грустным видом резюмировали актеры этот отрезок спектакля. И изображение колдуна на полотне стало стираться, уступая место картинам уже виденным ранее, а именно деревеньке и ползущей к ней змее.
– Но наша девушка того не знала
И радостно к деревне подползала.
Да вот беда. Кричат все и бегут,
Не узнают ее и палкой бьют.
На силу змейка хвостик унесла,
С трудом осталася она цела,
– вернулись актеры к судьбе главной героини спектакля.
– Легла змея под старенький дубок,
Оправилась от потрясения чуток,
И стала размышлять:
«Как так?
Почто мне деревенский люд не рад?
Того я не пойму никак,
Как будто страшный я какой-то гад.
Вот шкурка, глазки, зубки, язычок…
Ах! Так значит это мне не впрок.
На что я внешность променяла?»
Все поняла она и зарыдала,
– грустно молвил актер со сцены, а его партнер, как ни в чем не бывало, продолжал:
– Рыданьем горю не помочь,
К тому же наступила ночь.
И огонек театрального солнца, словно желая скрыть горе несчастной змейки, действительно погас. Зато вместо него, в верхней части полотна (где раньше были видны лишь потертости ткани), мягко засверкали скопления маленьких звездочек, а на темном поле под ними появилась сгорбленная старушечья фигура.
– И змейка ведьму увидала.
Полночных трав та набирала,
Ни на кого внимания не обращала,
Цветок срывала и в корзинку клала.
Змея ж решила ведьму соблазнить,
Проклятье на нее переложить.
«Фи, ведьма, как же ты страшна!
Могу красивой сделать я тебя».
– Коварно нашептывать стала она.
«Вот посмотри, к примеру, на меня…»
Происходящее в этот момент на полотне, чем-то напомнило начало спектакля. Вот только уговорить ведьму оказалось гораздо сложнее и в облике змеи проявилось нетерпение.
– Ей хочется скорей освободиться,
Она уж начинает торопиться,
Да ведьма все не хочет согласиться
И вынуждает змейку злиться.
Вот видит ведьма гнев в глазах
И мутный яд уж чует на ее зубах,
Змея змеей: еще чуть-чуть и покусает.
Тогда лишь ведьма отвечает:
«Ты змейка на меня не обижайся,
Но сколь ни пресмыкайся, ни ласкайся,
Змея всегда останется змеей,
А я уж лучше ведьмой доживу век свой.
Могла б я облик твой вернуть,
Но ты меня решила обмануть».
Тени на полотне вновь превратились в человеческие фигуры и закружились в восхитительной красоты танце, а растянутая на сцене ткань стала медленно блекнуть, растворяя сказку, будто то был всего лишь мираж. Но волшебство на этом не закончилось: танцующие тени, словно обрастая плотью, появлялись из-за скрывавшего их ранее полотна и, завершая свой танец, уже на сцене и воплоти, кланялись благодарному зрителю.
Однако «Сказ о заколдованной змее и гордой ведьме» еще не был завершен.
– И в наказанье ведьма та, – выступили на поклон оба поясняющих артиста, – Змеей оставила бедняжку навсегда.
Зрители взорвались аплодисментами, полностью заслужившим их актерам. А епископ, вместе со всеми хлопавший в ладоши, сказал архидьякону:
– Благодарю тебя, Люциус.
– За что, ваше преосвященство? – удивился тот.
– Ты открыл мне новый мир театра, – объяснился епископ. – Мир, где нет лицемерия, пафоса, этой порой раздражающей актерской напыщенности.
Архидьякон усмехнулся.
– Да, – согласился он, – пожалуй вы правы: здесь все проще, прозрачней, где-то наивней, но… не кажется ли вам, что у сказки должен быть хороший конец?
– Нет, Люциус, – ответил епископ, – иначе содержащаяся в ней мораль будет потеряна.
***
Представление закончилось, однако народ не спешил расходиться. Каждому хотелось подняться на сцену, заглянуть за растянутое там полотно и разгадать секрет только что явленных зрителю чудес. Не устоял перед таким соблазном и епископ. А последовавший было за ним архидьякон, внезапно остановился.
– Ребекка! Ребекка Эклипс, сейчас же вернись взбалмошная ты девчонка! – донесся до него сердитый женский голос.
Люциус обернулся в сторону, откуда раздался этот окрик и увидел маленькую девочку, убегавшую от какой-то не внушающей симпатий женщины.
– Ребекка Эклипс, – шепотом повторил архидьякон и на сердце у него похолодело.
А девочка тем временем проскользнула сквозь толпу и, свернув за ограду театра, скрылась из виду. Женщина, видя это, недовольно хлопнула себя по худощавым бокам, но не сделала и шагу, чтобы догнать беглянку. Зато вслед за ней, сам не зная почему, пошел Люциус.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































