Текст книги "Flamma"
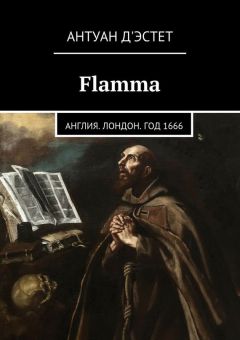
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Глава XXIII. Белая Роза
Весть о сумасшествии Ребекки Эклипс, возникшие суеверия о Падшем ангеле, визит к «Отверженным», тяжелое объяснение с Жанной Обклэр, и, в довершение всего, непростые беседы с миссис Палмер и его величеством королем – день выдался для архидьякона весьма насыщенным. Однако прежде чем продолжить его, отправившись за Бэкингемом в Тауэр, Люциус решил привести в порядок всё то, что события 26 марта уже успели ему преподнести. И сидя в мерно раскачивающейся на ходу карете он обдумывал результаты сегодняшних происшествий.
«Возможность разрешить проблему с сектой пришлась очень кстати, и воспользовался я ею, надо думать, удачно», – размышлял архидьякон. – «А вот объяснение с Жанной далось нелегко и немного угнетает меня, но, то был, несомненно, верный поступок и раскаиваться в нем определенно не стоит».
Действительно, не смотря на некоторые сложности, всё сегодня складывалось Люциусу на руку. Суеверные глупости о Падшем ангеле – и те, вопреки косым взглядам, как простых горожан, так и аристократии Лондона, позволили ему сохранить и даже упрочить отношения с королем и его фавориткой.
«Больше того», – рассуждал архидьякон, – «его величество, по сути, благословил меня на…”, – он не надолго задумался, – «впрочем, я еще не знаю, как поступить с герцогом».
А кроме еще не решенной участи Бэкингема, забот Люциусу прибавляли два довольно-таки загадочных обстоятельства; и если навестить внезапно обезумевшую Ребекку, сейчас могло бы оказаться шагом опрометчивым и чреватым новыми подозрениями, то поразмыслить над словами Маргариты было самое время.
«Есть женщина, которой больше нужен ты», – вспоминал архидьякон сказанное рыжей девушкой, в который уже раз ставшей спутницей (или виновницей?) чего-то необъяснимого. – «Но кто эта женщина?».
Тряска мешала Люциусу сосредоточится на этом вопросе, и он решил пройтись пешком, благо затихшие и подернувшиеся вечерними сумерками улицы города весьма к этому располагали.
– Стой! – крикнул архидьякон кучеру и, выйдя из кареты, приказал возвращаться в Собор без него. Однако Люциус не отказался от решения сегодня же встретиться с герцогом Бэкингемом и потому лошадей просил не распрягать.
Кучер, выслушав все распоряжения архидьякона, послушно кивнул, и экипаж медленно двинулся в сторону Собора святого Павла, по странной случайности оставляя священника на той самой площади, где была обнаружена четвертая жертва Падшего ангела. Заметивший это Люциус, превозмогая давящую грусть, сделал несколько шагов к ее центру и вдруг, побледнев, остановился. Девятью днями ранее на месте, куда был направлен недвижный взгляд архидьякона, скованное смертью покоилось бездыханное тело Филиппа, а сейчас… там лежали две белые розы.
***
Люциус быстро продвигался вдоль набережной реки Флит в сторону моста. Дом куда он так спешил, находился на другом берегу, и… теперь архидьякон знал, кто та женщина, которой он действительно нужен.
«Роза!..» – думал он, одну за другой оставляя позади себя улицы Лондона, поглощаемые внезапно опустившимися на город клубами влажного тумана. – «Как я мог позабыть о жене Филиппа?».
Торопливые шаги архидьякона выдавали его чрезмерное волнение.
«Если именно о Розе говорила Маргарита, то чего-то хорошего ожидать очень трудно», – стучала в его голове неприятная мысль. – «Да и в цветах на месте гибели Вимера явственно виделась печать скорби».
Непонятные опасения гнали Люциуса вперед и уже скоро его взгляду представились очертания, окутанного дымкой тумана, моста. Подступая к нему все ближе и ближе, архидьякон никак не мог отделаться от тягостного чувства, что там что-то не так, что-то неправильно. И вдруг понял что именно: на вершине моста, оставив перила за спиной и только чуть-чуть держась их отведенными назад руками, стояла в развивающемся белом платье светловолосая женщина.
Всё существо Люциуса похолодело и замерло в тот миг, когда он узнал в зависшей над пропастью фигуре вдову своего друга Вимера. Он затаил дыхание, глядя как Роза, постепенно расслабляет руки и с каждой секундой приближает свой роковой конец, но уже ничего не мог поделать. Он опоздал. Женщина отпустила перила и медленно, будто невесомый светлый призрак или цветок белоснежной розы, сорвалась в текущую внизу Флит.
Точно в страшном сне наблюдал архидьякон это падение; и как во сне, до самого конца не мог сбросить с себя властно сковывавшее всё тело оцепенение. Лишь когда раздался всплеск воды, завершавший трагедию Розы Вимер, Люциус почувствовал возвращение духа в оставленную им плоть, но, как оказалось, только для того, чтобы пасть на колени, да в безмолвном отчаянии обратить лицо и воздеть руки к ослепленному туманом небу.
«Ты не справедливо», – говорил этот жест, – «коль лишаешь землю таких людей».
И подействовал ли упрек небесам или то произошло случайно, но бурная река, словно не желая брать такой грех на свои воды, мягко положила тело несчастной самоубийцы на берег. Прямо к коленопреклоненным ногам священника. А откуда-то сверху, подобно подхваченному ветром лепестку розы, плавно опускался листок белой бумаги. Люциус, протянув руку, легко поймал его и с тяжелым сердцем обнаружил, что это прощальная записка Розы. Должно быть, она оставила ее где-то на мосту, но случайному адресату, более справедливый, чем небо, ветер предпочел архидьякона.
«Надеюсь тот, в чьи руки попадет эта записка, не примет ее содержание слишком близко к сердцу и не очень расстроится судьбе ее составительницы, – гласили первые строки скорбного послания. – В противном случае я благодарна ему за сочувствие к несчастной, которой, к тому времени, уже не будет среди живых».
Архидьякон поднял увлажненный взор к небу, как бы повторяя ему свой укор, и продолжил гнетущее душу чтение.
«Вдова Вимер… вдова… как печально звучит это слово и как грустно от того, что оно… верно. Девять дней назад погиб мой муж, мой Филипп, задушенный прямо на городской площади. Стоило ли пережить ужас Чумы, чтобы погибнуть так? Но это случилось. Я осталась одна. Без чувств, без любимого. И некому было умиротворить бальзамом сострадания мою так скоро опустевшую жизнь. Лишь один человек был нам другом в этом людьми и богом проклятом городе – Люциус Флам! С каким почтением, доверием и порой гордостью упоминал мой милый Филипп это имя. Но могла ли я обратиться за утешением к тому, о ком молва гласит, что он и есть его убийца? Нет. Потеряв Филиппа, потеряв так жестоко вырванную из жизни любовь, я потеряла и веру в другие светлые чувства. Словно какая-то яркая оболочка спала с моих очей, превратив Лондон, в серое месиво режущей глаза дымки, размывая все-то, что еще могло удержать меня от шага, от которого я теперь уже не отступлюсь. И пусть меня назовут слабой, пусть ничтожной, меня смущает лишь одно: в желании присоединиться к Филиппу в мире лучшем, чем наш, я должна завершить свое до сей поры благочестивое существование страшным грехом; и, зная, что нет самоубийце места в святой земле, все же, прошу,… нет, умоляю!.. о снисхождении.
Впрочем, если не исполнят моей последней просьбы люди, надеюсь, на это хватит милости у Бога. А я, так или иначе, решилась; и последнее, что я сделаю в этой жизни: отнесу на место гибели Филиппа его любимые цветы – белые розы. Он говорил, что они всегда будут олицетворением его любви… ко мне».
Люциус уже давно прочел записку, однако отсутствующий взор его продолжал упираться в исписанный рукою Розы листок. Ничего кроме этой бумажки не существовало в тот миг ни внутри, ни вокруг архидьякона. И если для составительницы послания жизнь закончилась, то для читателя – она остановилась. Только шум реки в нескольких метрах от Люциуса напоминал еще о течении времени, но много его утекло прежде, чем священник перевел вспыхнувший огнем взгляд на женщину, укутанную, словно в саван, в промокшее белое платье. Почти воздушным движением руки закрыл он глаза усопшей и, поднявшись с колен, вынул из складок своей сутаны маленький кошелек, а оттуда, с сосредоточенным и решительным видом, извлек белого цвета жемчужину.
– Свою религию готов ты обмануть? – спросил из-за спины Люциуса хорошо знакомый ему женский голос.
Но как бы это ни было неожиданно, архидьякон даже не вздрогнул.
– Я отвернулся от нее в тот день, когда встретился с тобой, – ужасающе спокойным в такой ситуации тоном ответил он; и, наклонившись чтобы вложить жемчужину в сложенные на груди руки Розы, добавил: – Пусть Падший ангел на сей раз послужит тебе хранителем.
– Хранителем… – с горькой иронией повторила Маргарита и, как нельзя к месту, вставила слова из записки покойной: – тот, о ком молва гласит, что он и есть убийца.
И пусть фраза эта прозвучала в ее устах не вполне однозначно, в приятном, но обычно равнодушном, голосе девушки архидьякону впервые послышались ее сочувствие и боль.
– Да, – хмуро отозвался он; и, спрятав бережно сложенную записку Розы в карман, неторопливо, но и не оглядываясь, двинулся прочь от ставшего прибежищем скорби берега.
***
Полчаса спустя архидьякон вернулся в Собор святого Павла и застал у входа не распряженную, по его приказу, карету. Не говоря ни слова, уселся Люциус в салон экипажа и какое-то время задумчиво перекатывал между двумя пальцами оставшуюся у него черную жемчужину.
– Да… да, – шептал он в ответ на упомянутую Маргаритой фразу из записки Розы, – именно так…
И сжав жемчужину в кулаке, громко распорядился:
– В Тауэр!
Глава XXIV. Поединок
Тауэр, внушительной громадой своих башен возвышающийся над Темзой, встретил мчавшуюся по тауэр-бридж карету архидьякона мрачным взглядом многочисленных бойниц. И так впечатляющ был вид окутанной туманом и сумерками крепости, что Люциус, сжимавший в руке черную жемчужину, невольно подумал:
«После того, что я собираюсь сделать, мне, быть может, суждено остаться здесь навсегда».
Действительно, эта твердыня, веками символизирующая могущество английских королей, служила не только одним из самых престижных гарнизонов для верных солдат Британии, но еще и самой страшной тюрьмой для ее врагов: преступников и неугодных его величеству людей.
Однако, даже ощутив на себе тяжесть перспективы, оказаться узником столь грозного стража, решимости у архидьякона не убавилось. Его экипаж миновал охранный пост у внешних врат крепости и въехал во двор, где Люциусу пришлось преодолеть еще две караульни, прежде чем стены Тауэра, наконец, смогли принять нового посетителя.
***
Шаги архидьякона гулко отдавались в пустых залах и коридорах крепости, когда он, следуя за освещавшим ему путь слугой, шел в предназначавшееся для занятий фехтованием помещение Тауэра. Именно там он надеялся застать Бэкингема, потому как, в преддверии скорых сражений с голландцами, именно там большую часть своего времени проводил принц Йоркский.
Так оно и оказалось: в огромной зале с несколькими площадками для борьбы, чучелами и манекенами для упражнений в фехтовании и стенами, увешанными всевозможным оружием ближнего боя, Люциус нашел тех, кого искал. Однако вместе с принцем и герцогом в этом помещении, совсем не кстати, присутствовала чуть ли ни целая рота солдат, во главе со своим капитаном проводившая учения, группа соревнующихся друг с другом дворян-офицеров и (ибо искусство фехтования не лишено некоторой эстетичности) немалое количество дам из высшего общества, с удовольствием за всем этим наблюдающих.
Как ни хотелось архидьякону поскорее закончить дело, ради которого он прибыл в Тауэр, придворные правила требовали от него приветствовать всех знакомых здесь находившихся; и путь к Бэкингему вновь обещал затянуться. Но, замечая мрачное нетерпение и холодную сосредоточенность священника и справедливо полагая, что развязка подобной спешки архидьякона станет им известна тем скорее, чем раньше тот исполнит веления этикета, никто не стал задерживать его расспросами.
Наконец Люциус приблизился к принцу Джеймсу, в окружении которого давно приметил Бэкингема, и, наскоро раскланявшись с его высочеством и другими вельможами, довольно-таки резким тоном обратился к герцогу:
– Мне стало известно, милорд, будто бы вы распускаете порочащие меня слухи. Так ли это?
Архидьякон знал о вспыльчивом характере Бэкингема и сознательно шел на конфликт, начиная разговор с уверенно и во всеуслышание произнесенного обвинения: гордый герцог не должен был спустить такой дерзости. Так и случилось.
– Я не нахожу нужным отчитываться за свои речи, – грубо отозвался Бэкингем и, окинув взглядом сутану архидьякона, с презрительным смешком прибавил: – Тем более перед священником.
– Господин герцог забывает, – спокойно, но с достоинством заметил Люциус, неторопливо проводя пальцем по лезвию висевшего на стене церемониального меча и словно заряжаясь холодом и твердостью его вороненой стали, – что приняв духовный сан, я не перестал быть дворянином. И с оружием в руках могу требовать ответа от посягнувших на мою честь и доброе имя негодяев… вроде вас, милорд, – добавил он, отрываясь от великолепной ковки клинка и бросая на Бэкингема отнюдь не доброжелательный взор.
– Это что – вызов? – надменно вскинув голову, удивился герцог; и, поясняя возникшее у него сомнение, иронично продолжил: – ваше преподобие.
Люциус легким наклоном головы подтвердил свои намерения.
– Но… святой отец, – начал Бэкингем, поколебленный решимостью архидьякона, но все еще старавшийся уколоть его указаниями на священнический сан. – Вам известно, что дуэли запрещены самим королем?
– Короля здесь нет, – просто отрезал Люциус, – а его высочество, я в этом уверен, – он почтительно поклонился принцу, – дозволит нам поупражняться в фехтовании.
– Почему бы и нет, – подтвердил тот, глядя на архидьякона с неподдельным уважением: потомок королей он умел оценить истинное благородство. – Кажется, для этого мы здесь и собрались, не так ли?
Его высочество обвел вопросительным взглядом всех собравшихся, и толпа не замедлила поддержать принца своим одобрительным гулом. Люциус благодарно кивнул.
– И не его вина, – продолжал священник, – если произойдет какой-либо несчастный случай. Что вполне вероятно (предупреждаю вас!), учитывая сложность тех уроков, которые я бы хотел вам преподать.
Герцог Бэкингем явно не разделял симпатий окружающих к действиям архидьякона, но и отказаться от поединка теперь не мог. Он затрясся от ярости, и пока Люциус, с позволения принца, снимал со стены приглянувшийся ему меч, герцог распорядился принести собственное фехтовальное снаряжение. Видя результат исполнения этого приказа, архидьякон засмеялся.
– Ну что вы, герцог!.. Мы ведь далеко не дети, – издевательски произнес он, указывая на закрытую кожаную маску для фехтования, оказавшуюся в руках Бэкингема. – Обещаю, что не ткну вас в глаз и не оцарапаю ваши щечки.
Улыбки на губах окружающих стали последней каплей на далеко не каменное терпение герцога: взбешенный последней насмешкой, он отбросил в сторону маску и, перехватив рукоять меча левой рукой, освобожденной правой принялся торопливо расстегивать свой камзол, оторвав при этом несколько пуговиц.
– Надеюсь, вы не настолько низкого обо мне мнения, чтобы сковывать свободу своих движений и биться в сутане? – раздраженно бросил он бесстрастному и недвижимому архидьякону.
– Ошибаетесь, – все с тем же хладнокровием отвечал Люциус. – Я о вас именно такого мнения.
Озлобленно фыркнувший Бэкингем, наконец, сорвал с себя камзол и, оставшись в одной только рубашке из тонкого батиста, сделал несколько пробных шагов и взмахов меча, а затем, когда все вокруг разошлись, освобождая приготовившимся к бою противникам место для схватки, встал в атакующую позицию. Архидьякон самоуверенным поклоном пригласил герцога к нападению и поединок начался.
***
Люциус изящными и легкими взмахами уверенно отражал градом сыпавшиеся на него тяжелые удары герцога, а когда все-таки казалось, что лезвие меча Бэкингема вот-вот пронзит архидьякона, он неуловимым для взгляда движением ускользал в сторону. Его действия вызывали восхищение и какой-то даже суеверный трепет у наблюдателей этой битвы: с расстояния двадцати шагов, Люциус в черной сутане представлялся им облачком плотной тьмы, изредка освещаемой молнией скрещивающихся клинков. Что же должен был чувствовать Бэкингем, душу которого окатывало волной леденящего страха, всякий раз, когда неуязвимый соперник с поистине дьявольской ловкостью утекал от его, казалось бы, смертельного выпада?
С каждым, неизменно обреченным на неудачу, движением, герцог терял силы. Он хирел на глазах, но гордость не позволяла ему отступить или хотя бы уйти в оборону; и он продолжал свои безуспешные атаки на явно превосходившего его противника. Наконец Бэкингем ослабел настолько, что не мог твердо удерживать в руках меч, теперь просто отскакивающий после все таких же легких блокировок Люциуса. Это делало герцога беззащитным перед контратакой, которую и не замедлил провести архидьякон с присущим ему на протяжении всего поединка хладнокровием. Отпарировав очередной выпад, Люциус сделал шаг в сторону и, очертя клинком окружность в воздухе, подбил вверх меч Бэкингема, ткнув затем рукоятью в его открывшуюся для удара грудь. Толчок был такой силы, что герцог, стараясь удержать равновесие, отступил на несколько шагов назад и все-таки упал, выронив из рук свое оружие.
Архидьякон со спокойной медлительностью двинулся к поверженному им противнику. Зловещие отзвуки его шагов по каменным плитам Тауэра и сбившееся дыхание Бэкингема четко отдавались в мигом притихшей зале для фехтования, словно всем находившимся там зрителям было ясно: это еще не конец.
Держа меч в правой руке, а в левой продолжая сжимать черную жемчужину, Люциус остановился в шаге от беспомощно распростертого на полу герцога. Взор Бэкингема был полон…, нет, не страха, а обиды… стыда. Он почти с вожделением смотрел на угрожающий ему клинок и тогда… в глазах архидьякона что-то переменилось.
«Что я делаю?» – подумал он, раскрывая ладонь и глядя на лежавший в ней темный шарик. – «Неужели так! я надеюсь развеять сгущающиеся вокруг меня сумерки?».
Люциус осмотрелся; но на окружающих лицах так и не смог прочесть хоть какого-то совета. Все ждали его собственного решения. И только на мгновение мелькнувшая между двумя офицерами девушка, прежде чем тут же исчезнуть, отрицательно мотнула рыжей головкой.
Архидьякон отступил, и меч, выскользнув из его руки, с лязгом упал на пол, вновь скрестившись с оружием побежденного Бэкингема.
«Нет!», – крепко сжимая в кулаке жемчужину, вынес свой приговор Люциус, – «ты предназначена не для него».
И резко развернувшись, он, ни на кого не глядя и ни с кем не прощаясь, покинул залу. Однако уходя, не обратил внимания на то, что положив в карман жемчужину, выронил оттуда записку Розы, которую в толпе сгрудившихся вокруг герцога Бэкингема людей не преминула поднять чья-то унизанная перстнями рука.
Через десять минут архидьякона, так и не заметившего пропажу, уже не было в Тауэре.
***
Люциус вернулся в Собор святого Павла уже далеко за полночь. Не придавая никакого значения игравшей в столь поздний час органной музыке и тому, что она странным образом никого не беспокоила, он в глубокой задумчивости поднялся в потайную комнатку над своей кельей, уселся за письменный стол и, склонившись над дневником, целиком отдался воспоминаниям.
«Не с Бэкингемом я должен был бороться», – именно такая мысль стала результатом его погружения в прошлое, – «не со слухами и даже не с „Отверженными“…, а с самим собою – с внутренними противоречиями».
Этих противоречий, – в действиях своих, словах и мыслях за последние почти два месяца, – он обнаружил в дневнике немало, однако причина их оставалась для архидьякона загадкой. И только в поисках ответа на нее Люциус, наконец, обратил внимание на раздававшуюся в ночном соборе мелодию. А так как он только что прочел и дополнил свои записи, то точно знал, кто! является неизменной спутницей всего необъяснимого.
И действительно, спустившись в ложу под своей кельей, за игрой на внушительном церковном органе архидьякон застал Маргариту, самозабвенно творившую легкую, проникновенную музыку. Очарованный ласкающей слух мелодией, Люциус остановился за спиной девушки, какое-то время не отвлекая ее, а затем, поддавшись внезапному порыву, спросил:
– Почему душа моя мечется? Почему мой внутренний свет борется с моим внутренним огнем, не принося тепла, а лишь обжигая?
Маргарита неторопливо обернулась и, увидав архидьякона, поднялась со стоявшей перед органом скамьи. Однако, даже расставшись с девушкой-музыкантом, клавиши и педали органа продолжали нажиматься сами, извлекая из инструмента, всё такие же, прелестные звуки. Впрочем, теперь Люциусу было не до них: он ждал, что скажет Маргарита. Но вместо ответа на заданный ей вопрос девушка необычайно плавным движением приблизилась к архидьякону и возложила обе руки на его голову. От нежного ее прикосновения виски Люциуса словно взорвались жгучим пламенем, мгновенно ослепив его вспышкой острой боли, сквозь которую, во вдруг наполнившемся туманными видениями разуме, послышался певучий голос Маргариты:
В ту ночь, когда гроза трясла небеса,
Средь звуков грома и дождя,
Молнией осияно, родилось дитя.
И тогда, воскликнула его родня:
«Тот должен быть велик,
Кто издал первый крик
Его слив со знамением небесным!».
И пред взором погрузившегося в небытие архидьякона, сопровождаемая говором Маргариты, от начала и до самого конца пронеслась жизнь неизвестного ему человека.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































