Текст книги "Flamma"
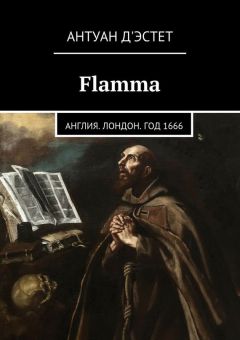
Автор книги: Андрей Болотов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Глава XXV. Мятежный дух
Родился страшной ночью он,
Но был Люсьеном наречен,
Затем в купели был крещен,
Тем самым к Богу причащен.
Был неразумен он, невинен,
Смешон и всем казался мил,
И вскоре каждый позабыл
Особенность его рожденья.
***
Обычным мальчиком ребенок рос:
Играл, мечтал, не вылезал из грез.
И вряд ли кто б мог предсказать,
Что минет лишь ему тринадцать,
Он станет понемногу выделяться,
Да знаний быстро набираться,
А очередную книгу он прочтя,
Воскликнет вдруг: «Ведь я!
Крещен без своего согласья! Да!
Был неразумен я тогда,
Безволен был, безмолвен, слаб,
Беспомощен, как угнетенный раб,
и сделать выбор я не мог никак».
Он не смирился с принужденьем,
И крест священный, символ святой,
Отстраня недрогнувшей рукой,
Люсьен сказал с пренебреженьем:
«Что за жестокая религия, когда,
Детей неразумных в нее посвящают,
Нещадно в свою веру их обращают?
Ведь становится ясно тогда:
Не разум к вере той влечет,
А священников расчет;
Не сердце тянет к ней,
А мнение простых людей».
***
Стал совершеннолетним парнем он
И от религии, в которой был рожден,
Решил он окончательно отречься.
Но и другими не спешил увлечься.
Религии он с галстуком равнял,
Что на себя одели люди добровольно,
А тот с петлей отождествлял,
Петлю же с виселицей,
А виселицу с верой. Всё!
Замкнулся круг! Иного не дано!
Ведь человечество само
Петлю ту на себя воздело
И рано или поздно, но оно,
Затянет на себе ее.
***
Люсьен не жаждал на себя ярмо надеть,
И за духовную свободу стал он радеть.
Однако пустоты его душа не допустила,
Молодое сердце вдруг любовь посетила.
С рыжими, как огнь в аду, власами
И светлыми, как облака в раю, глазами,
Жемчужными зубами, румяными щеками
Да ленточкой коралловой губами:
Такая девушка его избранницей стала,
Вот только она… не существовала.
Он в воображении своем ее нарисовал
Но в жизни, ни разу ее не встречал
Только в грезах своих он с нею витал,
И, на других не глядя, о ней лишь мечтал.
***
Люсьен утопиями жизнь заменял
И вызов бросить богам возжелал.
«Уж сколько? – и не счесть, – веков
Религия нас неприметно душит.
Довольно! Сброшу власть ее оков.
Господь пусть грозы на меня обрушит,
Но всех освобожу религии рабов» —
Он говорил (Пусть Бог его осудит).
И стал он рьяно способ изыскать,
Как гидру церкви лучше покарать.
Придумал проповедь и в ней
Умы смущая тех людей,
Что верою своею слабы были,
Явил те мысли, что его погубили:
«Primo44
Primo и далее: secundo, tertio, quarto, quinto – соответственно: первое, второе, третье, четвертое, пятое (лат.).
[Закрыть]. Гордость – разве это грех?
Ведь это то, что защищает тех,
Кто униженья испытать не желает.
Так значит, гордость нам помогает!
А церковь кричит: «Грешно!». Почему?
Secundo. Что такое гнев? К чему,
В себе держать обиды, раздраженье?
Однажды дайте волю ярости, призренью,
Ведь долготерпение возможно не всегда.
Быть может легче станет вам тогда».
Семь смертных грехов55
Семь смертных грехов: гордыня, уныние, чревоугодие, зависть, прелюбодеяние, тщеславие, гневливость.
[Закрыть] Люсьен перебрал
На tertio прелюбодеянье оправдал,
А на quarto и quinto потом разобрал
Чревоугодие и зависть. Все грехи,
По словам его, оказались не так уж плохи.
Быть чем-то страшным они перестали,
Уныние лишь его уста отвергали,
А о грехе тщеславия они… умолчали.
***
Неубедительно та проповедь звучала,
Но таким огнем речь Люсьена пылала,
Что падкий на все новое народ
Увидел свежих взглядов в ней восход.
Презренный люд ей с восторгом внимал,
Хоть в суть он никогда и не вникал.
Но что всех в проповеди так очаровало?
Быть может, недоброе познанья семя то,
Что по наследству к нам от предков перешло
И веки-вечные к грехопадению склоняло?
Или Люсьена мощь глубокого ума,
Что силу убежденья ему даровала?
Не важно! Так или иначе, начала
Свой к исполненью путь его мечта.
Но Люсьена вновь омрачилось чело,
Когда из ослепленного его огнем народа
Седой старик сказал ему: «А зло
Ведь наказуемо богами и когда
Три будут явлены тебе знаменья:
Во сне и дважды наяву, – прошу,
Не отвергай сии предупрежденья.
Совет от сердца я тебе преподношу».
«Ты ошибаешься, старик! Религия,
Что исповедуешь, то зло несет. Не я.
Людей в заблуждение вводит она. А я,
Дам им разум, волю и чуть-чуть ума», —
Люсьен сказал старику, но бросил тот:
В тебе же должен быть души восход,
Им Бог с рожденья всех окрыляет».
А выслушал старик такой ответ:
«Свой бог внутри у каждого из нас, но нет
Того, что с богом церкви нас объединяет».
«Тогда тебя постигнет кара. Уж не обессудь,
Ты возжелаешь сам: О наказанье, будь!
Случится так! Не спрашивай почему».
И лишь скривил Люсьен в усмешке губы,
Как молвил старец на прощание ему:
«Не стоило показывать волку зубы».
***
Минули годы. Люсьена сила росла.
И Церковь уже опасаться начала,
Хоть ранее всерьез не принимала,
Угрозы той, что над ней нависала.
Церковь с ним примиренья желала
И нечестивца к разговору призвала.
«Собака с кошкой могут подружиться,
А с церковью мне, увы, не смириться», —
Так поначалу отказался он,
А потом, ему приснился сон:
«Там речка светлая тихонько текла,
Спокойной, медленной она была.
Но вдруг в те воды рухнул камень
И поднялась над речкой тень
Двух волн, в какие воды обратились.
Друг против друга они взвились,
Обрызгав верхушки вековых дерев
И высотою своей небеса подперев.
Одна волна шла по теченью, а другой
Пришлось нестись навстречу первой.
И сколь бы светлы ни были воды одной,
Столь же темны, казались воды второй.
Но не должно быть в том русле рек двоих,
Пусть равны и силой и размером воды их,
Столкновение неизбежным стало для них.
Но как бы ни был страшен их водоворот,
А скоро укротилось в нем круженье вод.
Стала по-прежнему светлой река,
И вновь по теченью она потекла».
Люсьен во сне том угадал знаменье
И в церковь все-таки пошел; впервой
Со дня, давно минувшего, крещенья.
А оказавшись он внутри святыни той,
Промолвил, любуясь ее убранством:
«Люди бывают крайне глупы порой,
Коль преклоняются пред верой той,
Что, обладая несметным богатством,
Мнит воздержанье и бедность святой».
***
Он на стене икону в раме увидал,
А рядом зеркало злачёное стояло.
В том зеркале Люсьен отраженье поймал,
Но не поверил в то, что оно его отражало:
«То чело!.. Ужели это я? Чудно…”, —
Воскликнул удивленно он. Немудрено!
Всё темные тона одежды, капюшон, —
Глубокий, черный, – так вот он,
Скрывал Люсьена тенью,
Не закрывая своей сенью,
Лишь губы, что в улыбку сведены
Да тлеющие вместо глаз огни.
Черты ж лица его были не видны,
Они сокрыты ночью той тени.
И подумал он: «Неужто тем я стал,
С чем раньше дал обет не знаться?
Ужели мрак глаза мои застлал?
Так, что ж теперь мне… сдаться?»
Люсьен вдруг отчего-то оробел
Да снова на икону поглядел,
Затем вернулся к отраженью,
И в них нашел ответ знаменью:
«Здесь только тьма, а там лишь свет,
По сути ж разницы меж нами нет,
И церковь ли победит или я,
Все вернется на круги своя».
***
Люсьен решение тяжелое приняв,
Вступил, главу обреченно подняв,
В ту залу, где должна разрешиться
Борьба, с коей придется проститься.
Священники ж Люсьену рады были,
Вина церковного в бокал ему налили:
«То примиренья знак», – проговорили,
И настойчиво его испить попросили.
Нечестивец тем был весьма удивлен,
А будучи не глуп и осторожен, он
В том жесте мира лишь угрозу увидал.
Но… священникам Люсьен не отказал.
Бокал дрожащею своей рукой он взял
И призадумавшись, его к свету поднял.
«Чем выше, тем светлей вино;
Чем ниже, тем темней. Чудно, —
Про себя рассуждая, Люсьен шептал,
Кровавый напиток в руках он держал,
Последнее знамение в нем наблюдал,
А священникам напоследок сказал:
«Я больше здесь не нужен и семена,
Посеянные мною, взойдут без меня.
Найдутся те, кто соберет плоды, а я
Работу выполнил свою… и я уйду».
Он выпил яд! Несчастный нечестивец!
А из священников только один убивец
Раскаянья духовному порыву поддался.
Люсьена руку удержать он попытался.
Но не успел! Совсем немного опоздал!
Уже наполовину пуст Люсьена бокал.
«Смерть в нем жестокая заключена», —
Сказал, чувством вины себя смущая,
Священник. Но испил Люсьен до дна
Улыбкою своей раскаявшегося прощая,
Бокал, отравленный, священного вина.
***
Он из-под сени храма вышел уже обреченный,
А жертвою своею, тем не менее, довольный.
Но когда Люсьен из Церкви ушел,
Совет его единодумцев дружно счел,
Что вопреки тому, к чему их призывал,
Он не боролся с религией, а ее создавал.
Решил тогда народ за обман отомстить
И недавнего лидера своего погубить.
Один из них лишь посмел возразить
Да словом тех людей образумить:
«А кто из вас, ничтожные, поднять осмелится руку
За ошибку причинить такому человеку муку?».
Пусть рокового ответа тогда не прозвучало,
Люсьена у Церкви много народу встречало.
«О свободе выбора и веры ты нам вещал,
На самом же деле, нас в культ обращал», —
Сказал один из тех, кто его окружал
И в грудь Люсьена вонзился кинжал.
«Спасибо! Так легче и скорей», – тот отвечал,
От предательства, яда и стали он погибал.
***
Душа, как нечто чуждое, от тела отделилась
И два бесплотных духа рядом объявилось.
Один был светел, о шести крылах, другой
Похож на первого, но темен и рогат. Душой
Они редкостной завладеть хотели такой:
«Он должен перед Господом предстать,
И высший приговор он обязан принять», —
Ангел пресветлый сказал,
Но темный черт возражал:
«Не властен Его вышний суд над ним,
Он ближе к Сатане, чем к Богу,
При жизни вашими обрядами не подчиним,
И после смерти не наденет тогу».
Так спорят светлый ангел и рогатый черт,
Но не одержит вверх ни этот и ни тот,
На довод одного противник бросит два,
И нерешенною останется Люсьена судьба.
***
Прошло три дня и дух его
Явился на погребенье тела своего.
То зрелище, когда со стороны,
Себя безжизненного видишь ты,
Когда слезами труп твой омывают,
И тело мертвое в могилу опускают —
Сломило бы и самый мощный дух,
Но он сильнее предрассудков оказался
И спорщиков его сопровождавших двух
Прервал. И к ним он смело обращался:
«Молчите! Сам я выберу и сам решу,
Что ждет мою мятежную душу».
И вспыхнул над могилою его огонь,
Души той, что и после смерти не смирилась,
А в том огне вдруг надпись появилась.
По сей момент она гласит:
Nec Deus intersit!66
Бог пусть не вмешивается (лат.).
[Закрыть]
Глава XXVI. Начало познания
Архидьякон словно со стороны наблюдал чужие воспоминания огнем пронзающие его голову; и даже сопровождавший эти пламенные всполохи видений ласкающий голос Маргариты не мог смягчить порождаемой ими боли.
– Лишившись жизни, только душу сохраня, остался он меж адом и небесным раем, – продолжался рассказ девушки, а с ним и видения, теперь напоминавшие Люциусу его собственный февральский сон. – Он мог теперь вершить свою судьбу, но на его решенье я повлияла.
Я ангелом на светлых небесах жила,
Я хранительницею Люсьена была,
Я любви мечтой нечестивцу стала,
И вещий сон тоже я ему послала,
Я лишь для него небеса потеряла,
Да вниз на землю я ему показала.
Душа его за мной лететь пожелала,
И рядом со мною в Лондоне пала.
Девушка замолчала, а видения Люциуса, наконец, погасли. Обжигающая головная боль прошла, но яснее от этого мысли священника не стали.
– Что это было? – спросил он, со все еще мутным взглядом обращаясь к Маргарите.
– То жизнь твоя до нового рожденья,
Но каким бы ни было сие воплощенье,
Я вызволить хочу тебя из заточенья.
Эти слова только запутали Люциуса, однако он оказался достаточно рассудительным, чтобы задать девушке очень правильный вопрос:
– Меня? – мрачно поинтересовался архидьякон, и хоть не надеялся получить однозначного ответа, добавил: – А кто это – Я?
– Английский священник Люциус Флам и французский безбожник Люсьен Фламаль, – отвечала, подтверждая его догадку Маргарита. – Души бессмертных две в одном погибшем объединившиеся теле.
Священник, пораженный услышанным, отшатнулся от девушки и схватился за голову.
– Нет… – не веря, прошептал Люциус, – нет, я архидьякон Собора святого Пав…
Он прервался, будто неожиданно что-то припомнив, и безвольно опустил руки. Еще раньше чувствуя внутри себя необъяснимые противоречия, Люциус, пытаясь назваться, вновь ощутил над собой их довлеющую силу… и поверил.
– Кем я стал? – отрешенно вопросил он самого себя, но заметив, что только мгновение назад ему об этом уже сообщили, исправился и, поднимая на Маргариту глаза, произнес: – Почему именно я?
Девушка утешительно улыбнулась; но слова ее оказали на архидьякона совсем иное выражению лица действие.
– Священник-самоубийца,
И обреченный на погибель род.
Пал выбор вышний на тебя и вот,
Готова для двух душ темница.
– Самоубийца?.. – раздавлено переспросил Люциус, вспоминая слова, сказанные констеблем Дэве на площади собора и Маргаритой на Флит-бридж, – значит, я все-таки бросился с моста?
Девушка утвердительно кивнула.
– О да!
И умер. Но дух за тело зацепился,
Когда в него еще один вселился.
– Тогда… – пробормотал архидьякон, – получается, что «Отверженные» в чем-то правы: мы в аду и я, – он горько усмехнулся и, почувствовав внутри сопротивление, поправился, – мы… одни из падших, коль в ад и возвращаемся.
На этот раз движение рыжей головки девушки было резким и отрицательным.
– Познанья путь тяжелый тебе предстоит,
Но с сектой заблудшею он людей рассудит.
Ты и лондонцам дашь по второй попытке,
Когда сам двух душ исправишь ошибки.
– Я не понимаю, – тихим и бесцветным тоном признался Люциус.
– Противоречье душ искорени,
Друг с другом их объедини,
И огнь, внутри тебя, с теплом
Сольется и твоим же светом.
Архидьякон иронично усмехнулся, показывая Маргарите, что и эти ее слова ничего для него не прояснили, однако девушка лишь снисходительно улыбнулась.
– Ты все узнаешь и поймешь, но помни:
Ты – ирония неисповедимого пути,
Мятежник и святой в одной плоти.
***
Маргарита медленно растаяла в легкой дымке, оставив архидьякона разбитым и потерянным. Ни душа его, ни разум больше не представляли собой чего-то единого, целого; и, возвращаясь в свое помещение, Люциус был на грани помешательства…, которую и переступил вместе с порогом кельи. Из глубины двух душ вырвался нечеловеческий вопль и рухнувший на постель архидьякон в каком-то бешеном беспамятстве принялся судорожными движениями напряженно скрюченных пальцев раздирать на своей груди сутану.
Скоро все священники Собора, разбуженные и встревоженные страшным криком Люциуса, столпились возле дверей его кельи. Переглядываясь и перешептываясь, они долго не решались войти внутрь, но когда причетник Павел, наконец, осмелился на это, его взору открылась ужасающая картина. Мечась в бреду и горячке, архидьякон рвал уже не сутану, а собственное тело. Его ногти вонзались в кожу и обагряли пальцы, одежду и простыни кровью. Казалось, будто несчастный хочет вырвать что-то изнутри себя и со всей страстью безумца отдается этому страшному занятию, сопровождая его сотрясающей все тело нетерпеливой дрожью и яростным бредом. Но движения Люциуса с каждой секундой становились все слабее и медленнее, а шепот все неразборчивее. Архидьякон угасал. И вот уже его глаза, мгновение назад горевшие лихорадочным огнем, померкли, а руки, со все еще дергавшихся, словно в агонии, пальцев капля на пол кровью, обессилено легли на края постели.
На это было невозможно смотреть и Павел, с ужасом в душе и на лице, бросился вон из кельи. Его переполняла одна, перебивающая всё остальное, трагическая мысль: «Архидьякона больше нет». Однако, если бы не вызванное ужасным зрелищем волнение, причетник мог бы заметить вздымавшуюся ровным дыханием грудь Люциуса. Архидьякон не умер. После сокрушительного удара временного помешательства, его разум погрузился в глубокий, успокоительный сон.
***
Слухи о крайне тяжелом состоянии архидьякона, прокатившись по Лондону, вызвали среди горожан заметные волнения. Дело было в том, что до них донеслась также и весть о дуэли его преподобия Люциуса Флама с его светлостью герцогом Бэкингемом. И пусть ничего кроме приведшей к поединку причины лондонцы еще не знали, но одни, – те, что верили пущенным Бэкингемом россказням, – уже собирались благословлять герцога за избавление их от Падшего ангела, а другие, – в глазах которых подобный шаг Люциуса, напротив, послужил опровержением всех воздвигнутых против него бездоказательных обвинений, – проклинать за покушение на жизнь чистого и святого человека.
Однако вскоре стало известно, что победу на дуэли одержал вовсе не герцог, а архидьякон. При этом ни тот, ни другой не были даже ранены, а, следовательно, причина заболевания священника заключалась в чем-то ином. Впрочем, суть разделившихся мнений от этого не изменилась, и пока сторонники Люциуса обращали в его пользу тот факт, что он пощадил поверженного Бэкингема, противниками архидьякона, на берегу Флит, была обнаружена мертвая женщина с лежавшей в ее скрещенных на груди руках белой жемчужиной.
***
Розу Вимер похоронили на святой земле… рядом с мужем.
Часть вторая: Познание
Глава XXVII. Лето 1666 года
Два месяца минуло с тех пор, как Люциус Флам, – архидьякон Собора святого Павла, – заболел сраженный необычным недугом. Каких только слухов не породила за это время его болезнь, каких только споров не возникло вокруг нее, какими только легендами не успела она обрасти, но факт оставался фактом: одновременно с приковавшей архидьякона к постели хворью, в Лондоне перестали совершаться и громкие преступления.
Действительно, после февраля и марта, ознаменовавшихся пятью смертями и одним помешательством, виновником которых стал неизвестный убийца, оставлявший на телах своих жертв жемчужины и прозванный народом Падшим ангелом, два спокойных месяца дали, наконец, лондонцам вздохнуть посвободнее.
Само собой такое совпадение, что с началом болезни подозреваемого во всех совершенных в Лондоне злодеяниях архидьякона прекратились и собственно злодеяния, значило для горожан очень многое; поэтому-то слух о скором и неизбежно-смертельном исходе этой болезни воспринялся большинством из них без малейшего расстройства и даже с некоторым облегчением. Однако 24 мая 1666 года епископ лондонский, часто навещавший своего друга Люциуса, к вящему неудовольствию многих горожан опроверг эти слухи и объявил о том, что архидьякон пошел на поправку.
***
Не только ради благой цели посетить хворого друга приезжал епископ в Собор святого Павла, но призывала его сюда и необходимость обсуждения с Кристофером Реном вопроса о реставрации этого храма. Планы, чертежи, эскизы – всё было готово у архитектора к предстоящим работам, и даже о найме рабочих беспокоиться уже не приходилось, но вот с его желанием отправиться вместе с английской флотилией на войну с голландцами и перенести реставрацию на срок до ее возвращения, епископу довелось побороться.
– Вы весьма сведущи и в корабельном деле и в зодчестве, – говорил ему прелат. – Однако, не смотря на то, что во флоте ваши знания и таланты, несомненно, пригодились бы, сейчас вы больше нужны здесь.
Вряд ли эти слова убедили бы Кристофера, но… только епископ, упрямо не отпускавший его во флот, мог изменить данный архитектору строгий наказ короля: закончить реставрацию к зиме.
***
А отношения Англии и Голландии уже и в самом деле подошли к той черте, когда избежать масштабного сражения не представлялось возможным, и так как обе страны являлись морскими державами, то и решиться их разногласия должны были мощью их флотилий.
И та и другая сторона с самого начала 1666 года готовились к тому, что уже скоро должно было произойти, однако, надо это признать, в снаряжении своего флота англичане преуспели несколько лучше, своих противников: их армада превосходила голландскую и в численности судов, и в суммарном количестве расположенных на них орудий.
Принц Джеймс и адмирал Монк, – одни из главных командующих флотом, – предвосхищали легкий и полный разгром морских сил Нидерландов и приучили к такой же мысли всех англичан. Но кое-кто из простых матросов с некоторой настороженностью вспоминал слухи о произошедшем в феврале в Уайтхолле случае с опрокинутым подносом вина и сказанными Маргаритой Монку словами: «И самая могучая флотилия обращается в ничто под дланью нашего достойного адмирала», – сказала она тогда.
Тем не менее, во второй половине мая английская флотилия покинула берега Британии, устремившись навстречу голландским кораблям.
***
И вновь с обострением отношений между Англией и Голландией в Лондоне стали заболевать люди: в нищих кварталах и на окраинах города заявила о себе чума; пусть пока робко и неуверенно, но катастрофа прошлого года была до сих пор памятна всем.
***
Так заканчивался месяц май, и наступало лето 1666 года.
Глава XXVIII. Сон. Продолжение
1 июня 1666 года архидьякон Собора святого Павла, более двух месяцев бывший прикованным болезнью к собственной постели и состояние которого лишь три дня назад стало улучшаться, уже окончательно поправился. Быстрота его выздоровления была воистину поразительной и вызывала у всего клира Собора, епископа и приглашенных врачей недоумение. Немудрено. Продолжавшийся более двух месяцев необычайный недуг, когда больного попеременно бросает то в неимоверный жар, то в леденящий озноб; когда он ведет сам с собой бредовые споры на темы «Кому именно принадлежит его тело?» и «Кто в данный момент владеет его разумом?»; когда больной с криком «Изыди» совершает нередкие попытки разодрать себе грудь и… столь скоро выздоравливает: в это просто невозможно поверить. И все-таки это было так. Просто последние три ночи Люциус видел один и тот же сон.
***
Дневник.Запись от 1 июня 1666 года.
Я нахожусь в собственной келье и вижу перед собой омраченное печатью скорби лицо причетника Павла. Он, молча, подает мне свернутый вчетверо листок бумаги, скрепленный черной печатью, и, поклонившись, выходит, оставляя меня посреди комнаты с лежащим в вытянутой руке траурным посланием. Тоска, грусть, печаль схватывают душу неприятно щекочущей петлей безнадежного страдания, когда я смотрю на грубый оттиск герба Анкеп, превращающий каплю черного воска на бумаге в приговор всему моему роду; и содержание письма уже не имеет для меня ни значения, ни смысла. Не вскрывая печать, кладу я его на стол и, крикнув Павла, ровным голосом, но с похолодевшим сердцем сообщаю ему о своем решении совершить прогулку.
– Удачная мысль, – говорит он. – Свежий вечер.
«Последний», – мысленно отвечаю я ему; и ухожу…
…С темного неба, кружимый несильным ветром, падает снег. Я, с охладевшей душой, опустевшими мыслями и, кажется, уже небьющимся сердцем, медленно бреду по улицам Лондона в сторону реки и с чувством, словно добровольно поднимаюсь на эшафот, ступаю на мост Флит…
…Я смотрю ввысь, куда с детства были устремлены мои взоры и помыслы, но вижу там только хмурую тучу иссыпающую из себя тысячи чистых, почти прозрачных, снежинок. А снизу, течет влажной волной точно такая же темная туча, точно также обрамленная хлопьями снега. Я почти не вижу разницы, и у меня начинает кружиться голова. Мне грустно, что моя жизнь закончится так, но утешая себя мыслью: «Возможность взлететь дается только с риском упасть», делаю шаг в пропасть…
…Странно… падая, я разрываю не только белые вихри снега, но и облака невесть откуда появившегося багрового тумана, а внизу вижу уже не только реку. Могучий удар и…
…Я открываю глаза, лежа в грязи. Сверху, медленно кружась, на меня падают обуглившиеся перья. Я ощущаю внутри себя какую-то тесноту и не могу даже пошевелиться. Я озираюсь, но картина, которую я вижу, словно раздваивается. Ко мне приближаются люди.
«Жалкие и ничтожные», – говорит что-то во мне, когда я замечаю в их глазах алчность и злобу.
«Несчастные и обездоленные», – отзывается во мне уже нечто иное, когда на тех же лицах я нахожу смущение и страх…
…Дрожащие руки нерешительной толпы направляются в мою сторону, а я почему-то пытаюсь их оттолкнуть. Я понимаю, что они тянутся ко мне за помощью, но внутренняя борьба мешает мне ее оказать и я… я ничего не могу с этим поделать…
…Вся моя беспомощность становится болью, а всё мое отчаяние изливается в одном невероятной силы крике сострадания.
***
Этот сон послужил архидьякону своеобразным напоминанием о том, что Маргарита говорила еще до начала раздирающей его болезни: лишь искоренив противоречие двух заключенных в одном теле душ, он сможет помочь и себе и другим людям. Только ради этой благой цели Люциус, наконец, смирился с мыслью о соседстве своей души с душою мятежника Люсьена и быстро пошел на поправку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































