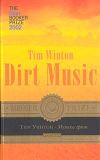Текст книги "Путешествие Ханумана на Лолланд"

Автор книги: Андрей Иванов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
– Ты не понимаешь… я не хочу примешивать к нашим отношениям обман!
– А ты уже его изрядно примешал, ты уже здорово пустил ей пыль в глаза!
– Да, но жизнь пока не сломал!
– Так и не ломай! Не ломай, а сделай так, чтоб она счастлива была! Обмани и сделай при этом счастливой! Потому что она хочет быть обманутой! Все этого хотят! На этом построен мир и человеческие отношения! Сама коммуникация – сплошной обман! Чего тут философствовать! Вы поедете в Швецию, вас примут, будете жить!
– Нет, как я буду всю жизнь смотреть ей в глаза? Как я буду с ней всю жизнь за одним столом, в одной постели? Может, я умирать буду и думать буду о том, что вот так поступил с ней, использовал ее, как транспортное средство… Что я буду думать о ребенке? Что я буду думать о нашем ребенке? Всю жизнь я буду смотреть на него и думать, что зачали мы его затем, чтоб получить убежище в Швеции! Я не смогу с этим жить!
– Нонсенс! Все это просто патетический нонсенс! Я не хочу этого слышать! Ты слишком русский! А вы, русские, все такие идиоты! Идиоты! Самое обидное знаешь что? Сколько с вами не возись, а ни черта не сделаешь! Вас не переделать! Бесполезно!
5
Потапов и Иван стали нюхать какой-то дешевый кокаин, который доставал Бачо. Этот Бачо был связан с самой настоящей датской мафией, такого же смехотворно мелкого помола, что и он сам. После того как он посидел в настоящей датской тюрьме три месяца, он вышел на свободу заматерелым, блатным и со связями, а также с перстнем на безымянном пальце и татуировкой дракона на левом плече. В билдинге у себя он ходил теперь в безрукавке, похлопывал себя по наколке, и говорил: «Знаешь, что это у них на тюрьме означает? Авторитет, нах… понял?! Рэспэкт, бля!»
Он все бегал ко мне с письмами от своих новых датских друзей, а я их переводил. Ох, там были какие-то зашифрованные тексты! Речь в тех письмах шла о каких-то коробках, которые будут доставлены в каких-то контейнерах из Германии и будут храниться в каком-то бункере. Иногда там были какие-то луковицы вместо коробок. Однажды в тексте фигурировали рыбы, которых надо было доставить на рынок каким-то арабам. Когда я переводил (а он требовал, чтоб я все слово в слово перевел, буквально, один к одному, чуть ли не калькировал), получалась чушь такая страшная, просто натуральный бред идиота. Но он слушая, кивал и приговаривал: «Так, ага, так, ага, понятно, короче, слушай, все ясно, биджо! Благодарю!!!» Хватал бумажку и исчезал на несколько дней. Возвращался серый, усталый, заходил к нам с очередным письмом и предлагал мне кокаин. Я отказывался; мол, у меня и так голова не на месте, мне не до кокаина, я отказывался. Он говорил: «Hy, как хочешь, биджо, твое дело…» Но Иван, когда увидел кокаин, спросил, где можно его достать. Бачо сказал, что сам привезет, потому что человек, который ему дает его, не хочет никаких новых покупателей, у него свои люди покупают, «a ты мне дай деньги, биджо, я тебе сам привезу, прямо сейчас поеду, на бензин добавь чуть-чуть…» Иван давал деньги одной купюрой, тот брал, говорил, что привезет сдачу после или потом, чего никогда не делал, потом привозил кокаин, говорил, что сдачи нет и не будет, вот, получи товаром, тут же говорил, что еще привезет, если хочешь, или – есть деньги, чего ждать, давай пока есть! Иван или Михаил давали деньги; тот брал, ну так и возил…
Хануман как глянул на эти серые орехи, так и скис: «Ну что вы нюхаете, идиоты! Это же отрава! Просто дерьмо!» А те мололи, мололи, толкли, потели, измельчали подолгу, а потом нюхали, задрав головы, как будто глазолин какой-то! А нюхали они его почему-то через пятисотенную купюру, как будто это что-то меняло! А потом, когда оставалась пыль на зеркале, проводили пальцем по пыли и мазали себе десны, просто натирали их.
Вскоре у них начали болеть зубы. Михаил ходил и все время трогал их, пошатывая или убеждаясь в том, что те шатаются. Вставал посреди коридора, трогал, трогал и говорил: «Шататься начали… блин… отчего бы это?» Или садился с сигаретой на крыльце, трогая зубы, сидел-сидел и говорил: «Черт, правда шатаются!» – и с таким изумлением говорил, что хотелось ему съездить по морде! Иван тоже стал говорить, что у него распухли десны и кровоточат. Михаил сказал, что у них, наверное, началась цинга, по всем признакам это была самая настоящая цинга! И, по всей видимости, началась она от нехватки витаминов. Сколько можно этой парашей с помойки питаться! Конечно, цинга, нах… началась! И он стал счищать кожуру, картофельную кожуру, он варил ее, сам ел и всех принуждал есть, даже жену с Лизой, у которых с зубами все было нормально. Он говорил, что это все от плохой пищи, тут в Дании всякое дерьмо! Низкокалорийный продукт! Потому что экологическая пища, вся экологическая пища низкокалорийная!
– Мы, русские, не выдерживаем такой пищи! Нам настоящее мясо надо, понимаешь! – говорил он, срезая веточки ели, из которых он потом варил еловый сок, сам пил и всех заставлял пить, приговаривая, что это рецепты Джека Лондона.
Ближе к середине августа Хануман стал распространять слухи о конце света, он просто издевался над людьми от нечего делать. Он толкнул речь в одном билдинге о том, что скоро будет затмение, а затмение случается, предвещая что-нибудь страшное; и пошел в другой билдинг. А люди пошли за ним. В другом билдинге он встал в позу пророка и сказал:
– Behold you idiots! Time has come to test your souls! The ultimate quest is about to take start and innumerable unpredictable things to descend upon your ignorant heads, bastards!!![71]71
Имейте в виду, идиоты! Время пришло испытать ваши души! Окончательное испытание вот-вот начнется, и несчетное количество непредсказуемых вещей сойдет на ваши невежественные головы, кретины! (англ.)
[Закрыть]
Привел несколько цитат, якобы из Библии, сказал, что по всем признакам приближается конец света, предсказанный Нострадамусом, Сай Бабой и Вангой; и пошел в другой билдинг. За ним потянулись еще больше людей. Он привел всех в наш билдинг; в толпе появились Иван, Потапов и арабы. Хануман завернул речь об Y2K, о компьютерном коллапсе, о войне машин, о ядерных боеголовках, о том, что человек – самый большой паразит на теле планеты, но на самом деле планета, поддерживая и потакая популяции такого высокоразвитого паразита, совершает самое что ни на есть самоубийство.
– Держитесь, идиоты! – говорил он. – Время пришло проверить на крепость сердца ваши! Живой станет глодать мертвого! А мертвый будет живее живого! Вижу черный снег! Вижу кровавое небо! Вижу стаи стервятников и гиен! Таракана на троне! Червя в чреве невинной девы! Антихрист грядет! Антихрист грядет! На костылях с забинтованной головой!
И спокойно ушел в свою комнату.
Но на арабов не подействовало. Они сказали, что человека сделал Аллах, а всё, что Аллах делает, всё на пользу, так и должно быть, Аллах ничего плохого делать не может, потому что Аллах – это добро, Аллах – это хорошо, поэтому если должен быть конец света, значит, он и будет, и затмения тут не нужны, затмения тут ни при чем, и если будет конец света, то это Аллах сделает, потому что все, что делается, делается по воле Аллаха, а он плохого делать не может, потому что Аллах – это хорошо, Аллах – это добро, и если все умрут, если полетят ракеты, значит, так решил Аллах, и это хорошо. «Уж мы-то точно на небо пойдем, а кто там сгорит, тот сгорит, неверный должен гореть, такова воля Аллаха, и это хорошо, потому что Аллах – это хорошо…»
Михаил стоял с закопченным стеклом и пялился в небо, смотрел на солнце сквозь стекло; он это делал как-то так, как он видел в фильме про Ломоносова. Да, этому человеку несомненно нужно было увидеть затмение. Он сам своими узкими татарскими глазами должен был это увидеть. Ему непременно нужно было увидеть, как закатывается свет за мрак, как наступает тьма. И не одному ему это надо было. Он всех привел на поляну. Всю свою семью! Даже Адама на руках вынесли! Он его держал на одной руке и сквозь стекло смотрел в небо, и время от времени подносил к глазам пятимесячного сына свое грязное стеклышко! Всем остальным он тоже выдал закопченные стекла и всех заставил смотреть на солнце сквозь них. В том числе и Ивана, которого тоже не забывал, как члена семьи, о чем все чаще и чаще напоминал Дураку. Они стояли и смотрели на небо, задрав головы, держали закопченные стекла, жмурились, смотрели, прикрыв свободной рукой часть головы, зачем-то кривя свои некрасивые рты. Михаил смотрел, смотрел и приговаривал: «Может, последний раз смотрим на затмение… Может, скоро всему конец… Как знать… Индус просто так трепаться не станет… Индия – страна мудрости… Оттуда все началось…»
Да, ему, конечно, необходимо было смотреть на небо; вот ему необходимо было верить в пророчество Ханумана. Он снова использовал это для собственной выгоды: он стал тратить все деньги, которые откладывал Иван на побег в Голландию. Иван действительно, насмотревшись на массовые депорты, взялся за голову: начал копить. И ехать он хотел не куда-нибудь, а в Голландию. Он заболел Голландией как раз тогда, когда мы с Хануманом, кажется, окончательно выздоровели и даже думать о ней забыли. Но тут время подошло роковое. Иван вспомнил про голландцев, про семейку ассирийцев, которые в фургоне уехали в Голландию. Они тогда прислали всем электронное письмо, свидетельствовавшее о благополучности завершения их путешествия. Ассирийцы были сами из Москвы, отец был так называемый старый новый русский, разорившийся. Бежали они из Москвы, спасая свои шкуры, и в основном – ради детей. Отец и мать по-ассирийски еще говорили, а вот дети их уже нет. Но в Голландии и они прошли интервью, и вполне успешно, потому что закосили под дебильных, которые говорить вообще не умеют. Из их письма следовало, что границу пересечь можно «легко!», ментов на интервью наколоть «как два пальца обоссать!», лагеря хорошие, все что нужно есть. А нужно им было комнату попросторней, спортивный клуб да чтоб бутсы тут же выдали, так как пацаны без футбола жить не могли, и именно в Голландию только по этой причине и ехали. Ивану они написали, чтоб немедленно все бросил и приезжал, потому как без Ивана в их лагере совсем никак: уже проиграли кому-то там, потому что вратарь у них дырка. А скоро турнир на кубок беженцев назревал, и без такого стоппера, как Иван, выиграть турнир не представлялось возможным, так что Ивану было велено собираться. Ну Иван и начал копить. Хануман ему сам пообещал свести с кем надо и как-то Ивана убедил в том, что сам в Голландию не поедет, и что та половина им сделанного взноса на паспорт и грузовик может быть как бы переведена на Ивана. Хануман сказал, что поговорит с кем надо и вместо себя Ивана отправит, если тот ему сразу даст столько денег, сколько Хануман уже внес. Иван немедленно отдал Хануману три тысячи (Ханни мне потом признался, что тем он заплатил гораздо меньше, так что Ханни опять нагрелся). Иван сам списался с пацанами. Те писали, что «в Голландии платят, суки, мало, ну, не так много, как в Дании», и еще писали, что «блин, сука, пиво тут хреновое». Зато бабы в Голландии, как они писали, были такие, что, гуляя по городу, можно было просто кончать в штаны!!! И тут Иван уже просто лихорадочно начал копить. Михаилу это не нравилось. Сам он не хотел никуда ехать. А то, что Иван – собачонка на побегушках – от него так запросто уходит, да еще со всеми своими деньгами, которые он – Михаил – всегда мог использовать, прикрываясь вывеской «семья», – этого он пережить никак не мог. Он стремился его отговорить, удержать. А потом решил как-нибудь завладеть его сбережениями. Но как, он пока что не знал; а там была уже тысяча с небольшим! Если не две! Чем меньше он знал, сколько там у Ивана уже скопилось, тем больше рисовалось в его воспаленном уме. А не две с половиной ли? Да все три! Ведь два месяца копит… Три с половиной! Это ж столько кокаина и гашиша! А тут затмение! Всемирный коллапс! Потоп! Конец света! Зачем копить деньги, когда всему амба! Надо все тратить! И уломал как-то; они поехали в Ольборг, накупили там гашиша и стали курить. Я им немного помог, самую малость; меня так плющило от жары в те деньки, что и курить-то не надо было, я просто сидел с ними в одной комнате, слушал их тупой базар, и меня плющило… Потом они быстро скурили все. Жара была страшная, и она наливалась, она грозила разразиться чем-нибудь страшным, она обещала быть просто чудовищной! Хануман сообщал нам, что в Лос-Анджелесе люди падают замертво! В Городе ангелов амбуланции не успевают подбирать трупы! Звери дохнут в таком количестве, что их даже не собирают! Они лежат и разлагаются! Повсюду пожары! Сибирь полыхает! Амазонский рэйнфорест горит! Распространяется какая-то зловонная чума!
– А в Мексике, – кричал он, – в Мексике в это же самое время мексиканцы играют в снежки! Да-да! Они играют в снежки! В центре Мехико-сити прошел снежный буран! Чего никогда прежде не бывало! Вот так! Готовьтесь, идиоты! Хэ! Ха! Хо! То ли еще будет!!!
Я уже не мог всего этого слышать. Потапов только и делал, что ездил в Ольборг за гашишем; он уже не мог курить, он кашлял так страшно, что я вздрагивал всем телом; он охрип, и кашель его был как лай цепного старого пса. В комнате было невыносимо душно. Крыша раскалилась так, что если на нее залетал мячик, в который играли дети, то он моментально лопался. Все прятались в тени. Только тамильские педики, которые недавно вселились, играли в бадминтон. Третьим на очереди в их игре всегда был такой неспортивный Непалино. Если волан залетал на крышу, Непалино влезал на лестницу и рогатиной сбивал его оттуда, стараясь не касаться самой крыши, потому что Раденько до того уже имел неосторожность влезть за мячом и получил ожог!
Измученный тоской и духотой, я вышел на полянку в шлепанцах; ноги дышали, не прели, было приятно; весь потом обливался, а ногам было приятно. Тут еще солнце за луну закатилось так слегка, будто в обморок впадая, вообще стало клево! И я сказал Михаилу с Иваном:
– А что если покурить вашей травки, дички?
– Нет, – ответил Михаил, – рано.
И в небо стал смотреть.
– А че рано-то? Какая разница, все равно амба скоро. Давай хоть молока сварим!
– А вот это уже мысль!
И мы пошли в поля искать их травку, которую Михаил, как он хвастался, там посадил. Они стали плутать, мы забрели черт-те куда, нашли два растения, сорвали; хиленькие, таких минимум семь-восемь было надо, и то было неизвестно, получится ли… И тут я наступил на змею, она впилась мне в ногу! Я отчетливо почувствовал, как яд влился мне под кожу. Я лягнул ногой. Она отвалилась, как большая пиявка. Несколько секунд я надеялся, что это был шмоток проволоки. Но тут же стало ясно, что это змея. Как только она поползла. Она уползла. И затем я тихо сказал:
– Меня укусила змея…
– Его укусила змея! – закричал Иван в панике.
Михаил схватил палку и стал бить вокруг да около моих ног:
– Эх! Ух! Ах!
Я стал прыгать и кричать:
– Дурак! Что делаешь! Дурень, бля!
А он продолжал лупить меня палкой по ногам. Потом вокруг себя палкой стал бить и гопака танцевать с такой бледностью, с таким испугом в лице, что не передать! Я завопил:
– Что вы, идиоты, делаете! Надо отсасывать!
Они встали вкопанными, уставились на меня и затрясли головами:
– Нет-нет, мы не можем! У нас раны во рту! – и рты свои разинули, и десны кровоточащие мне показали…
И я понесся с воплями:
– Ведите меня, ведите, бля, меня к Хануману! Где тут в этом лесу дорога? Бросай свои растения! Ведите! Завели, черти!
Один направо потянул, другой налево; круглые идиоты! Я бегом наудачу быстрее их прибежал и заголосил:
– Ханни-змея-соси!
Ханни посмотрел на меня, как на умалишенного, спросил:
– Что соси?
– Вот, нога! Змея! Сосать надо!
Хануман махнул рукой и сказал, что я вру.
– Ханни! Идиоты видели, сейчас подтянутся!
Тут вдруг рядом возник Непалино, который, внезапно осмелев, сказал насмешливо:
– Если его бы укусила настоящая ядовитая змея, он бы уже сдох. Но нет такой змеи во всей Дании! Все змеи, вместе взятые, должны укусить, чтоб этот сдох!
И он захихикал, приоткрыв уголок рта. Непалино почему-то считал, что я просто образец выживания. Он брякнул свои фразы, повернулся и собрался куда-то шлепать на кухню, глянуть, не угостит ли его кто чем-нибудь. Я на него заорал:
– Сука! Эй! Я сказал, эй! Ты! Ублюдок, бля! Иди сюда! Сосать любишь – так пососи палец на ноге!!!
А Непалино обернулся в полоборота и так сказал лениво:
– Змеи в Дании так же ядовиты, как комары. Не будь идиотом. Не паникуй. Помой рану. Налепи пластырь. Поболит и пройдет. Дания поди не Непал…
И пошлепал дальше, позвякивая ключами в штанах.
– Да ну вас всех на хуй, ублюдки!!! – заорал я на них и посмотрел на ногу; она начала пухнуть на глазах. Хануман присел, спросил:
– Какого узора на спине змея была?
Михаил, тяжело дыша, сказал:
– Медянка была!
Хануман, конечно, понять не мог.
– Если б медянка была, – сказал тоже по-русски Иван, – давно бы того…
– Молодая медянка, молодая, – настаивал Михаил.
– Да не медянка, не гадюка вообще, а уж…
– Какой уж! – закричал я. – Я что, не почуял, как яд в ногу влился?! Какой уж кусать будет?
Хануман поднялся с корточек; таким серьезным я его еще не видел.
– Да, – сказал он, – это серьезно, надо к врачу…
– Нет, – отрезал я, – не к врачу!
– Иван, – сказал Михаил, – лети к врачу, скажи, что тебя змея укусила, пусть даст чего!
– A как я докажу… у меня же нет раны на ноге…
– Давай я ножичком ковырну пару раз!
– Иди ты знаешь куда!
– Хватит пиздеть! Надо ехать! – запаниковал я.
– Куда?
– Не знаю! Нога же пухнет! На глазах пухнет нога! Давай, двигай к машине, едем в город!
Хануман достал свой мобильный телефон, набрал, чего не делал никогда, чей-то номер и быстро заговорил на хинди; потом снова набрал; снова поговорил; снова набрал; поговорил; выругался на своем; снова позвонил; долго говорил; выругался; позвонил и заговорил по-английски:
– Это последняя надежда, – сказал он, – уже не знаю, кому еще могу позвонить, все посылают… Змея укусила! Антибиотики? Какой, пенициллин? Откуда я возьму? Да пухнет нога, каждую секунду вздувается… Ехать к тебе? Сейчас едем! Давай живей в машину!
– Какую?
– Твою, дурак, заводи, быстро в Ольборг едем, живо!
– Бензина нет…
– А голова у тебя есть? Живей!
Мы сели в машину, быстро заправились у грузина; тот не взял денег, так как вошел в положение, когда ему предъявили мою ногу, которая вспухла так, что не хотелось видеть… Меня уже лихорадило; не то нервы, не то температура… Яд! Яд! Яд!
Машина еле тащилась; я думал, что это был мой катафалк; до Ольборга ехать было полтора часа, а мы ехали все три! Бесконечность! Как я думал, смерть была во мне и все вокруг ей было радо поспособствовать…
Въехали, наконец, в город. Михаил, который страдал топографическим идиотизмом в еще большей степени, нежели я и Хануман вместе взятые, не мог найти улицу, которая называлась Годхобсгэдэ. О, какое название! Когда же мы останавливались и спрашивали у прохожих дорогу, никто не мог понять, какая улица нам нужна, потому что никто из нас не мог правильно произнести это бесконечное слово, и потому надежда, которая таилась в этом слове, отворачивалась и ускользала от меня. Я практически уже просто бредил. Я думал, что уже на три четверти состою из яда! Что во мне уже было литра два-три яду! Что я вот-вот начну гнить изнутри или зримо разлагаться!!!
Когда мы оказались на месте, я уже не мог наступить на ногу, которая стала втрое больше, чем была! Какая ужасная боль! Меня подняли, нога потянула вниз, она была такая тяжелая, что, кажется, была готова запросто отвалиться. Впрочем, как и другая нога, и рука, а голова, голова могла покатиться, и ее подобрал бы какой-нибудь бродяга, как кочан капусты! Меня пронесли мимо машин, двух столбов и человека, который стоял между столбами, с телефоном у уха и открытым ртом, он смотрел мне вслед немигающим взглядом. Я подумал, что сейчас он донесет кому надо о моей смерти, и людям с телефонами дадут отбой или новое задание: следить за кем-то другим.
Внесли в квартиру Хью. Тот сидел за столом с неким Полом – меня никто не стал с ним знакомить… Оба стали изучать мою ногу. Пол сказал:
– Во-во, точно как у меня, как эбойла, помнишь? Я чуть не умер тогда, капилляры стало рвать, кровь пошла по ноге под кожей, нога распухла, опухоль поднималась выше по ноге прямо к органам, моментально распухло бедро, если б не сыворотка, я бы сейчас с вами тут не сидел…
Хью дал мне пенициллин, три штуки, поставил ногу в таз с каким-то порошком; игнорируя нас, стал совещаться с Полом:
– Чего делать?
– Как чего делать?.. Парня надо спасать…
– Сам вижу… спасать… Как?..
– Надо думать…
Они были здорово пьяные; пивных бутылок вокруг расползлось море, ступить было некуда, даже одной ногой. Пол натягивал губы и все запасы кожи на лице, выражая тем самым полную неспособность принять какое-либо решение. Хью вращал глазами, утирал маслянистый рот, вздувался всем телом, тянул воздух. Пол шевельнул единственной извилиной на лбу и сказал, что надо ехать к врачу, если парень жить хочет. Я закатил глаза и сказал, что лучше умру, чем отдамся ментам.
– Ну причем тут менты? – сказал Пол. – Ведь есть врачи, которые не станут ментам ничего говорить!
– Мы таких врачей не знаем…
Пол сказал, что мог бы позвонить, но у него нет телефона. Хануман достал свой телефон. Пол позвонил, говорил пару минут, объяснил ситуацию какой-то Зузу, сказал, что нога выглядит ужасно, у парня температура, сам не знает, что говорит, почти бредит…
– Доставить к вам и немедленно? Понял, будет доставлен, – и встал.
Приказал отнести меня в машину. Ногу волокли, точно якорь. Казалось, что некоторое время даже несли отдельно. Как ребенка на руках. И все же, все же – проклятье! – я не мог не задеть ею дверцу! Через семь часов я был в Хускего.
Но чего мне стоило это путешествие!
То трясло, то кидало в жар, тошнило, рвало, было неотвязное видение: неизвестная улица, по которой бегает стайка неразлучных карманных собачек, они бегут направо, и меня тошнит, налево – обдает холодом, и куда я ни посмотрю, туда они и бегут, неотвязно, и так это было мерзко, была в этом такая неизбежность, такое плохое предчувствие конца, ужасного, страшного конца, который наступил бы в тот момент, когда стайка карманных собачек бросилась бы врассыпную. Это было бы самое страшное! Самое немыслимое и самое страшное! Казалось, что я куда-то лечу, на каких-то прозрачных, едва ли зримых крыльях. Приходил в себя, когда начинал трясти Хануман; он будил меня, заставлял говорить, бороться, а Пол говорил: «Оу, он уже совсем посинел и синеет дальше, это не выглядит очень хорошо, не выглядит совсем хорошо, вообще охуеть, как хуево это выглядит?!» И я провалился в бред, в котором кто-то дергал меня за ногу и что-то шептал, что-то пелось, что-то двигалось, что-то переливалось, вливалось в одно ухо – зеленого цвета, выливалось через другое – синего, все это бурлило, и я вместе с этим…
Когда я пришел в себя, доктор убирал ватку от моего обожженного носа; я задыхался, по лицу тек пот, я видел старичка: совсем старый, совсем ветхий старик, он стоял и говорил по-датски маленькой озабоченной женщине в платках, что – если я правильно понял – может помочь только одно, и немедленно, у него есть это, но вот он не знает, есть ли у меня аллергия и вообще как мое сердце отреагирует; она, в платках, сказала, что если это не сделать, то я умру, а если сделать – то есть шанс.
– Ну, – сказал старик, – если я сделаю укол и он умрет, меня привлекут!
– Ага, тогда кто-то другой должен сделать укол?
– Логично…
B комнате не было никого, никого, кроме нас троих и Ханумана, но он был не в состоянии сделать укол, тем более в вену, потому что пока суть да дело, как выяснилось позже, его очень здорово накурили. Я внезапно пришел в себя, сказал, чтоб дали мне шприц! Доктор молча отломил головку от ампулы, наполнил шприц и дал мне. Все плыло перед глазами; я собрался, поймал вену, поймал, увидел, что в шприц брызнула и побежала кровь, не стал брать контроль, а сразу погнал по вене, уверенно, бесповоротно, не боясь, что задую или что-то там, что бы ни было, а оно уже пошло, пошло, пошло с ветерком!!! Такая свежесть! Такая свежесть! Такая легкость! Я понятия не имел, что там было за противоядие, но меня понесло, понесло и носило, да так, как никогда в жизни не носило!
– Эй, док, – сказал я, – ты это… ничего не перепутал? Это случайно не фентонил, а?
Тот посмотрел на меня, уже пергаментный и с глазами цвета рубина, и сказал:
– Лучше тебе не знать, что это такое, и больше не повторять этого никогда, никогда, никогда…
Все плясало перед глазами, я с трудом понимал, где и что за люди меня окружают; не хотелось ни есть, ни спать; ничего не хотел; только просил сигарет, которые иногда путали с джоинтом, курил всё, что давали, пил чай, зеленый чай, который мне подносил огромный тощий негр, со стен на меня смотрели маски, они мне показывали длинные змеиные языки, они смеялись мне в лицо, что-то шептали; ночь кружилась, люди вращались, играла африканская музыка, танцевали странно одетые люди, курились куренья, дым плыл, плыл и я вместе с ним, а потом был рассвет, и неожиданно я обессилел и провалился в глубокий сон…
Доктор выжимал из ноги гной – я орал. Орал, как в детстве. В голове пузырились видения. Боль порождала картины. Мне мерещилось, будто у меня в голове происходят взрывы и где-то растут какие-то стены, башни, мосты… Это был бред, натуральный! Еще мне почему-то казалось, что доктор получал садистское удовольствие от этой процедуры; он пунктуально являлся каждый день, давал мне пенициллин, ставил ногу в тазик, снимал повязку и начинал давить.
Когда доктор уходил и я оставался один, в голых сырых стенах, мне становилось так плохо, так одиноко, так страшно, что хотелось повеситься. Во-первых, я не мог понять, где я и почему постоянно мерзну. На мне лежала груда одеял. Подле меня стоял радиатор. Он грел слабо, очень слабо, но все-таки грел же! В том-то и было дело. В том-то и была беда. Он грел, а я от этого не согревался, я не чувствовал тепла. Меня трясло. Начинали грызть опасения, что со мной что-то не так… В меня вселялась паника. Меня никак не покидали страхи, уже не страх смерти, а некая бесформенная боязнь потерять ногу. Во-вторых, у меня и правда онемела нога, умножив тем самым мои страхи, подпитав мои спекуляции. В-третьих, шел бесконечный ливень за окном, просто стоял стеной, и какая-то до неприличия музыкальная капель играла внутри, в самой комнате! Дождь пробирался в комнату через крышу, которая тоже позвякивала и громыхала; дождь капал на пол, в сырые тусклые пятна большого, стертого в некоторых местах до дыр ковра; дождь капал на столик, на газету на столе, которую не дочитали в 1985 году, 16 июня, и бросили там желтеть; дождь капал на стулья, которые стояли так, будто кто-то вот только что сидел на них, или лет сто тому, и эти кто-то встали, вышли, оставив стулья именно так, и с тех пор их никто не трогал, сохраняя это исторически музейное расположение как дань уважения, и только дождь осмеливался на них капать, на пружинно выгнутое сиденье, на изогнутый подлокотник, на розочку на спинке. Я смотрел на эти немые стулья, и меня не покидало странное ощущение, что эти воображаемые некто, кто вышли, пусть даже лет сто тому, обязательно должны вернуться, и они непременно вернутся, и вернуться они могут вообще когда угодно, просто когда угодно, они могут вернуться в любой момент; и монотонно стучащие капли усиливали это ощущение, они словно нагнетали это ожидание. Там еще были какие-то бумаги, огромные кипы и папки, подшивки, распечатки, какие-то выступления, речи, доклады, рефераты, отчеты с каких-то семинаров, все было по-английски, но все равно ничего было не разобрать! Такая белиберда там была понаписана. С трудом верилось, что за словами стояли настоящие люди. Это был какой-то научно-фантастический роман! Там говорилось о какой-то конспирации, глобальном заговоре против всего мира, о какой-то верхушке людей, которые спланировали всё, всё, всё: экономические кризисы, развитие общества, образование, идеи, революции, религии, войны – всё, решительно всё было им подвластно. Эта горстка элиты контролировала всех нас, в том числе и сны – Ханумана и мои. Элита, дескать, вмешалась в ДНК каждого, это они построили «Макдоналдсы» и «Макбургеры», открыли Спар-киоски и Спар-кассы, они придумали Интернет, компьютер, тараканьи бега и Каннский фестиваль, они транслировали фильмы голливудским и болливудским режиссерам, они внушали нам, как себя вести, с кем спать, а с кем просто дружить. Им было подвластно всё, этой элите, даже смерть. То есть простые идиоты вроде нас с Ханни должны были помирать за них, чтобы они всегда оставались живыми, эти Рокфеллеры и Ротшильды, Форды и Бургеры, принцы и принцессы, дамы и господа, элита, мать твою! Этими бумагами даже подтереться было бы страшно! К тому же погода все ухудшалась; в воздухе все время что-то висело; все время было сумрачно; крыша дрожала, где-то что-то ухало, скрипело, стонало, назревал какой-то шторм, который, конечно, тоже был спланирован ложей, коалицией, божками. Вода струилась по стенам; она не просто так струилась, ее направляли прямо мне в постель; было сыро лежать. Было жутко. К тому же я голодал. Раз в день приходил какой-то старик, большой, угловатый, бородатый, лохматый, беззубый, он был одет в огромный плащ со следами пыли, известки, смолы, он приносил мне чай, хлеб и постный рис, ставил тарелку узловатой рукой. Ставил, пододвигал. Садился на один из стульев, не обращая внимания на сырость и то, что на него тут же начинал капать дождь, он сидел и смотрел на меня и вокруг, дыша ртом, как рыба. Посидев немного, уронив с носа каплю старческого пота и не сказав ни слова, уходил, чтобы явиться на следующий день и повторить всё: и чай, и хлеб, и рис, и молчаливое созерцание, и сопение. Каждый день он приходил ко мне посидеть вот так, в сырости, отрастить на носу каплю пота, уронить ее и уйти, чтобы снова прийти на следующий день. И так без конца. Я просто сходил с ума.
Всю неделю я жил вот так, не понимая, ни где я, ни где Хануман. Или хотя бы проклятый ирландец. Как выяснилось позже, после того как моя жизнь, по его мнению, была уже вне опасности, Ханни сильно расслабился, он решил снять напряжение и покурил с Йоакимом, Фредериком и Джошуа их супертравку. Ему пришла в процессе разговора интересная идея. Они говорили, что Люк умеет делать чапати, но на самом деле никто не верил, что получаются настоящие чапати. Ребята стали обсуждать, как делаются чапати. И неожиданно они пришли к тому, что курды делают шаварму, а если завернуть в чапати мясо, и салат, помидор, то получится что-то вроде шавармы или тортиллы. И Хануман закричал: «Идея! Бриллиантовая идея! Это будет ЧАПАТИЛЛА!» И уехал воплощать свой замысел в каких-то ресторанах. Его потеряли из виду. Как только он уехал, начался сильный ливень, все хиппаны стали накрывать свои дрова пластиком или перетаскивать их под крышу и на крыши натягивать пластик. Все забыли обо мне, о Ханумане, обо всем. Ливень, по версии Ханумана, якобы помешал ему как воплотить свой замысел, так и вернуться, чтобы навестить меня. Он осел в Авнструпе у жирного серба. Он написал за это время статью о том, на что идут деньги, которые выдают беженцам (на что они их тратят, если тратят, или если не тратят, куда и как шлют). В своей статье он написал о досуге беженца в период ожидания разрешения кейса. Он написал о насилии в лагерях и о том, чем занимаются дети. Он написал о посылках с краденым. Он написал в своей статье об антисанитарных условиях, которые возникают сугубо по вине самих азулянтов. И еще о многом: о голове в контейнере, о траве, о навозе. О вони, о туалете с лужами. Все это в сорока трех строчках с одной фотографией: лагерь Фареструп издалека, вот и всё. Между делом он рыскал по Копенгагену в поисках каких-то людей, которые могли бы поддержать его идею или помочь в развитии оной. Он хотел встретиться со своими знакомыми, которые продавали банальный рис и курицу в карри, нечто вроде китайской коробочки, но по-индийски. Он хотел с ними встретиться и объяснить, что у него за идея такая. Чапатилла! Завернул в чапати мясо с капустным листом, залил соусом с дрессингом – и готово! Двадцать пять крон! Двадцать крон чистой прибыли! Гениально! Он бредил авторскими правами, сетью забегаловок с названием «Хануман и сыновья», и еще что-то плавало в его голове, нечто вроде проекта мирового масштаба, как в случае с выдумкой кафе “Chez Guevara”. Только на этот раз он сам себе это придумал. Сам себя опьянил, одурачил, свел с ума! Он верил, что взошла его звезда на небосклоне. На его лице уже собиралась помаленьку улыбка, которую он готовил к тому, чтобы показать ее на всех телеэкранах, на всех постерах, вывешенных на небоскребах, на всех остановках и всех видах транспорта во всех странах мира! Он уже воображал, как люди, которые плевали ему в спину или лицо, будут рвать на себе волосы! Он готовился к тому, чтобы улыбнуться и мне тоже. Он хотел посмеяться надо мной: «Хэ-ха-хо, Йоганн, трахнутый ублюдок!» Он готовился к тому, чтобы расхохотаться мне в глаза, мне, смеявшемуся над его мечтой! Мне, человеку, который помирал от паранойи и гниения ноги в каком-то насквозь продуваемом замке. Мне, не верившему в его, Ханумана, гениальность! Конечно, мне – ютившемуся под горой вонючих одеял – необходима была чапатилла и его насмешка величиной в айсберг! Он должен был мне доказать. Он должен был надо мной посмеяться. Я должен был быть наказан за мое узколобие. Я – пескарь на дне омута, мизантроп и пессимист. Меня надо было наказать, проучить, ткнуть носом в лучезарный факт, потому что я слишком часто говорил ему: «Ханни, когда твоя мечта воплотится, не останется либо людей, которых ты бы хотел заставить рвать на голове волосы при виде твоей улыбки на экране, либо у них не останется на головах волос, или у тебя не будет к тому моменту зубов, чтобы ослепить их своей улыбкой, или даже если ты и вставишь себе зубы, чтобы блистать улыбкой и вводить всех в шок, все уже настолько состарятся, что всем уже будет наплевать, просто наплевать, и никто в сияющем Хануманчо не признает тебя, того человека, которому они намылили зад когда-то, или просто-напросто не захотят себе признаться, что обладающий ослепительной улыбкой человек на плакатах – это тот самый Хануман, которого они опускали в казематах индийской тюрьмы!» О-о-о! Теперь он торопился мне доказать, что я был неправ! Доказать, что он – великий бог! Мне доказать, что он может выжить и стать на ровном пустом месте без ничего миллионером! Не играя ни в лотерею, ни в бинго, ни в казино, ни в «Хочешь ли ты стать миллионером»! Он может! Сейчас мы все должны были в этом убедиться! Скоро вместо луны и солнца на небе должен был засиять лик Ханумана. И чтобы поскорее воплотить свою мечту, он бросил меня. Он забыл обо мне. Он уехал. Бросил одного в замке, лежащего в горячечном бреду. Одного! Не удостоверившись, что я выживу! Ему было наплевать, наплевать… Хануманьяк!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.