Текст книги "Слепой. Один в темноте"
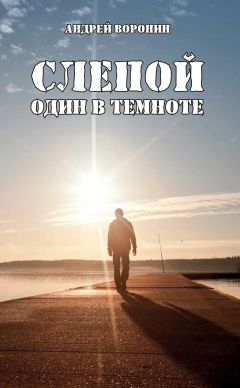
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр: Боевики: Прочее, Боевики
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Глава 11
Чиж сидел в кромешной темноте и курил, ощущая, как служившая ему сиденьем труба чувствительно пригревает снизу сквозь толстый слой теплоизоляции. Огонек сигареты разгорался и гас, ничего не освещая, кроме его щек и подбородка. Вокруг было темно, тихо и тепло, даже жарко. Воздух был влажный, где-то в темноте неторопливо, размеренно, как метроном, капала вода.
Сначала Чиж сидел просто так, ни о чем не думая и почти ничего не чувствуя, кроме самых простых, имеющих физическую природу вещей – тепла, усталости, податливой мягкости обернутой старым лохматым рубероидом стекловаты, вкуса табачного дыма, покоя и относительной безопасности. Потом в голове вяло закопошились мысли, проснулись воспоминания, из темноты начали по одному и целыми компаниями выходить яркие, словно наяву, призраки прошлого: щекастый детдомовский пахан по кличке Батя, которого Чиж однажды ударил по голове тяжелым деревянным табуретом за то, что отнимал у младших еду; придурковатый педофил из соседнего дома, которого все во дворе называли Васяткой, и которого он зарезал за гаражами взятым на кухне ножом; страшный, как тролль из детской сказки, силуэт крадущегося к кровати «дяди Марка» с торчащими вокруг поблескивающей в свете ночника лысины растрепанными прядями волос; плачущий, стоя на табурете с петлей на шее, учитель музыки Серебряков, судорожно скребущие пятками по залитому кровью полу ноги сидящего на колу прапорщика Панарина, темные очки «дяди Саши» и его сухая, твердая, вызывающая странное и отталкивающее впечатление чего-то неживого, искусственного, узкая ладонь…
Потом пришла Женька, и Чиж понял, что его понемногу отпускает и скоро отпустит совсем. С тех пор, как он убил своего первого человека (если эти твари заслуживают того, чтобы называться людьми), появление Женьки всегда означало, что все в порядке – он поступил правильно, сделав то, что было просто необходимо сделать. Она никогда ничего не говорила, просто смотрела своими чудесными, немного печальными глазами, и этот взгляд лучше любых лекарств исцелял его больную, израненную душу, убеждая в том, что когда-нибудь все обязательно будет хорошо.
Родителей он помнил смутно – почти совсем не помнил, если уж называть вещи своими именами. Память сохранила только яркие картинки, на которых были запечатлены то залитая солнцем аллея парка с аттракционами, то мороженое, которое он уронил на новенькую, очень нравившуюся ему курточку, то еще какая-нибудь ерунда, бережно хранимая, как сломанное дешевое украшение, само по себе ничего не стоящее, но бесценное благодаря воспоминаниям, которые с ним связаны. Родителей на этих картинках не было, но они незримо присутствовали где-то рядом, на заднем плане. Иногда казалось, что достаточно просто обернуться, чтобы их увидеть; Чиж мысленно оборачивался, и всякий раз оказывалось, что хранимая памятью картинка заключена в невидимую рамку, за пределами которой нет ничего, кроме темноты.
Помимо этих разрозненных, не привязанных к конкретному времени и месту картинок, от родителей остались смутные ощущения. Запахи табака и одеколона, мимоходом ерошащая волосы на Валеркиной голове большая сильная ладонь – это отец; мягкое тепло, уютные запахи стряпни, тонкий аромат духов, отчетливый перестук высоких каблуков и немного отстраненная строгость вечернего платья – мама. Портреты на надгробной плите существовали отдельно от этих ощущений, изображенные на них лица казались чужими, незнакомыми, потому что Чиж их не помнил.
Зато Женьку он помнил отчетливо, до мелочей, от выгоревшей на солнце макушки до ямочек под коленями и маленькой царапинки на тонкой лодыжке. Она была такой старшей сестрой, о какой подавляющему большинству младших братьев и сестер приходится только мечтать. Она как-то очень быстро и незаметно переросла тот период мелочной тирании старших над младшими, который в некоторых семьях растягивается на долгие годы, если не на всю жизнь, и заботилась о брате не просто как о довеске, которым взрослые отяготили ее жизнь, а как о хорошем друге, который в силу своего несмышленого возраста нуждается в некотором присмотре и руководстве.
Они дружили еще при жизни родителей, а после их смерти Женька стала ему и матерью, и отцом. Она очень быстро повзрослела (еще бы ей не повзрослеть!) и, как умела, оберегала его от того непрерывного кошмара, которым обернулась для нее жизнь в доме «дяди Саши». Насколько понял Чиж (не тогда, а много позже, когда вырос и сумел, наконец, логически осмыслить все, что с фотографической точностью запечатлела память), Женька очень долго не знала о ночных визитах «дяди Марка» в комнату брата – ей самой приходилось несладко, поскольку Вронский тогда был молод, здоров, как племенной бык, и не имел ни жены, ни постоянной любовницы. А когда узнала, распахнула дверь на лестницу и крикнула: «Беги!» И, хорошо понимая, что вдвоем уйти не удастся – догонят и вернут, и больше никогда не оставят ключ от входной двери на видном месте, – метнулась к подоконнику…
И еще Чиж отчетливо помнил, что, помимо духовного, испытывал к сестре чисто физическое влечение. Ничего странного он в этом не видел. Кому из мальчиков не хотелось дотронуться до груди молоденькой воспитательницы в детском саду или положить ладонь на обтянутое телесного цвета нейлоном колено школьной учительницы? Незрелый детский умишко еще не понимает, зачем, собственно, ему это нужно, но едва-едва начавшие выделяться гормоны упрямо гнут свое: хочу, и точка!
У Чижа объектом такой детской влюбленности стала сестра. В его еще не оформившихся фантазиях не было ничего грязного (грязи ему хватало в жизни, и хватало с лихвой); он всерьез собирался, когда вырастет, жениться на Женьке, уехать с ней далеко-далеко и зажить в глухом лесу, среди медведей, зайцев и прочей лесной живности.
А почему бы и нет, в конце-то концов? У них все было общее, одно на двоих: и жизнь, и память, и беда, и позор. Инцест? Я вас умоляю! Лорду Байрону можно, а Валерию Торопову нельзя? Повзрослев и до конца разобравшись в сексуальных табу современного общества, Чиж признал, что его отношение к сестре служило признаком психического отклонения, но это никоим образом не повлияло на его мировоззрение и планы. Отклонение, да. Но куда ему до педофилии!
Тем более что развиться и приобрести конкретные, зримые формы этому отклонению так и не довелось. Вронский походя, спьяну, грубо и грязно делал с Женькой то, что Чиж со временем мог бы преподнести ей как бесценный дар – трепетно, нежно, с любовью и доверием. И делал это до тех пор, пока она не умерла. Вронский был единственным, кто по-настоящему заслуживал мести – заслуживал даже больше, чем этот лысый слизняк Фарино, – и он же стал единственным, кому удалось ее избежать.
Пока, мысленно поправил себя Чиж. Временно. И очень ненадолго.
Сигарета истлела до самого фильтра и обожгла ему пальцы. Чиж бросил окурок на пол и придавил рдеющую во мраке красную точку подошвой. Слабый огонек погас, оставив после себя лишь горький запах табачного дыма, и Чиж остался один в полной темноте.
Впрочем, пардон: уже не один.
Чиж прислушался и кивнул: да, ему не почудилось. Откуда-то справа снова послышалось глухое сдавленное мычание, сопровождаемое негромким лязгом железа. «Ради всего святого, Монтрезор!» – вспомнился ему Эдгар Аллан По, и он невесело усмехнулся в темноте. «Колпака с бубенчиками не хватает», – подумал он.
Тонкий луч голубоватого света от включенного электрического фонарика скользнул по замусоренному земляному полу, пробежался по грубым, пестрящим пятнами старой побелки и ржавыми потеками бетонным блокам стены и уперся в выключатель. Чиж включил в подвале свет, проверил, надежно ли заперта железная дверь, и направился в кончающийся тупиком коридор, из которого, мало-помалу набирая силу, продолжали доноситься нечленораздельное мычание и металлическое лязганье.
Коридор был узкий и освещался единственной сорокаваттной лампочкой, свисавшей с низкого потолка на заросшем черными клочьями старой паутины шнуре. Правая стена была сложена из мощных фундаментных блоков, вдоль нее тянулись упакованные в стекловату, рубероид и станиоль трубы коммуникаций. Левая представляла собой хлипкую дощатую перегородку, изобилующую множеством расположенных через равные промежутки, сколоченных из чего попало, принесенных невесть с каких помоек дверей. На дверях были вкривь и вкось выведены номера квартир – некоторые мелом, а иные и масляной краской самых неожиданных цветов и оттенков. В качестве запоров использовались в основном навесные замки – где дешевые китайские жестянки, а где и предназначенные для крепких гаражных ворот цилиндрические чудища, смешно и неуместно смотревшиеся на фоне дверей, которые можно было разнести в щепки парой хороших пинков.
В глухом тупике, которым заканчивался коридор, годами и десятилетиями копился разнообразный хлам, сносимый сюда жильцами дома и складируемый здесь с непонятной целью – возможно, в ожидании пресловутого черного дня, когда все это старье хоть на что-нибудь да сгодится, а скорее всего, из самой обыкновенной лени, мешающей донести этот мусор до расположенной в соседнем дворе помойки. Ржавый остов газовой плиты соседствовал здесь с какими-то заплесневелыми тряпками, а в груде разнокалиберных, почерневших от старости и гнили досок виднелись лыжи, числом три, и все разной длины и от разных пар: одна красная, другая черная, а третья – голубая с белыми полосками.
Теперь все это барахло было аккуратно сдвинуто в сторону, к стене, чтобы освободить тупик. В полуметре от торцовой стенки тупика виднелась незаконченная кирпичная кладка – высотой чуть ниже колена, толщиной в кирпич, она наводила на мысль, что некто вознамерился замуровать здесь какие-то сокровища. В пользу данного предположения свидетельствовали находящиеся тут же, под рукой, небольшой штабель кирпича, корыто с цементным раствором и мастерок.
Единственным сокровищем, не считая гниющего у стены хлама, здесь можно было считать человека, прикованного наручниками к выступающей из стены под самым потолком стальной монтажной петле. Чижу пришлось изрядно повозиться, проталкивая один из браслетов сквозь узковатую петлю, зато теперь он мог быть абсолютно спокоен: надежно вмурованная в толщу железобетонного фундаментного блока толстая стальная арматура была рассчитана на нагрузку в несколько тонн, что полностью исключало возможность чудесного, как в голливудских боевиках, освобождения героя из безвыходной, казалось бы, ситуации.
Повисший на вытянутых над головой, скованных стальными браслетами руках человек был высок, узкоплеч и костляв. У него была длинная лошадиная физиономия с крупным носом и оттопыренными хрящеватыми ушами. Губастый рот был заткнут кляпом, представлявшим собой красный резиновый мячик на застегивающемся сзади, на затылке, кожаном ремешке. Такой кляп можно приобрести в магазине, торгующем игрушками для взрослых; используемая, в основном, в садомазохистских забавах, эта кокетливо украшенная блестящими металлическими бляшками штуковина, тем не менее, была достаточно надежной.
Взгляд бесцветных, как у глубокого старика, слезящихся глаз остановился на появившейся из-за угла коридора фигуре Чижа. Человек замычал громче, дергая прикованными к монтажной петле руками. Цепочка наручников звякала, ударяясь о ржавое железо, браслеты глубоко врезались в посиневшую кожу запястий. Разглядев того, кого ошибочно принял за своего спасителя, прикованный разом замолчал и перестал дергаться, как будто его выключили.
– Ну, что притих? – спросил у него Чиж. – Ты же у нас темпераментный тип. Драчливый…
Он дотронулся кончиками пальцев до ноющей ссадины на левой скуле. Не считая Вронского, бывший строительный прораб, а ныне рядовой член бригады отделочников Петр Иванович Солодовников оказался единственным, кто пытался оказать ему сопротивление и даже ухитрился разок задеть по физиономии костлявым кулаком. Такая воля к жизни требовала вознаграждения, и Чиж не имел ничего против: ярость, душившая его после неудачи с «дядей Сашей», настоятельно требовала выхода.
– Хочешь еще подраться, козел? – спросил он, подбрасывая на ладони ключ от наручников.
Прикованный замычал и звякнул цепочкой. Расценив это как «да», поскольку иной ответ его не устраивал, Чиж достал из-за спины торчавшие из заднего кармана джинсов перчатки – на сей раз это были грубые рукавицы из плотного брезента, – натянул их на руки и только после этого разомкнул браслеты. Снятые наручники остались висеть под потолком, тихонько покачиваясь и едва слышно скребя по бетону стены.
Первым делом бывший прораб Солодовников освободился от кляпа и со свистом втянул ртом затхлый, сырой воздух подземелья, насыщенный запахами земли, притаившейся по углам плесени и тихо гниющей в дощатых закутках недоеденной за зиму прошлогодней картошки.
– Ты что творишь, гад? – с трусливой агрессией уже успевшего не раз отведать палки дворового пса поинтересовался он. – Думаешь, тебе все можно? За беспредел ответишь! А ну, пусти!
Последнее требование сопровождалось попыткой обойти Чижа слева. Чиж пресек это поползновение, толкнув Солодовникова брезентовой пятерней в лицо. Бывший прораб отлетел назад и едва не упал, споткнувшись о недостроенную перегородку, из-за которой только что выбрался.
– Так не пойдет, – объяснил ему Чиж. – Хочешь драться – дерись, а не хочешь – марш обратно в угол.
– Ты что, сука, совсем офонарел?! – возмутился Солодовников. – Да ты чего, падло? С дороги отвали, говорю!
Он снова двинулся вперед, попытавшись оттолкнуть Чижа в сторону вытянутыми перед собой руками. Чиж расценил это действие как акт агрессии и встретил его коротким и точным ударом в солнечное сплетение. Солодовников ахнул и сложился пополам, и тогда Чиж, примерившись, снизу вверх, крюком вмазал ему по физиономии. Падая, прораб опрокинул сложенные стопкой у стены кирпичи, которые посыпались с характерным звенящим шорохом и стуком.
– Ах ты, гнида, – с каким-то изумлением произнес он, сплевывая кровь.
Его шарящая по земляному полу в поисках опоры рука наткнулась на кирпич. Чиж терпеливо ждал продолжения, стоя в метре от копошащегося на земле противника. Солодовников грязно матерился, демонстрируя бурю отрицательных эмоций и довольно скудный словарный запас.
– Силы побереги, – посоветовал ему Чиж. – Это ведь только начало.
Тогда прораб с неожиданной легкостью, хотя и весьма неуклюже, вскочил на ноги и ринулся в атаку с явным и недвусмысленным намерением раскроить Чижу череп кирпичом.
– Давно бы так, – приветствовал это благое начинание Чиж и один за другим нанес два сокрушительных прямых удара в корпус.
Солодовников непроизвольно вякнул, как плюшевый мишка, когда воздух буквально выпрыгнул из его контуженой грудной клетки, и рухнул почти на то же место, с которого только что встал. Снова вставать он уже почему-то не торопился; Чиж шагнул вперед, сгреб его за шиворот и мощным рывком вернул в более или менее вертикальное положение.
Оказалось, что предприимчивый прораб утратил боевой дух и смекалку еще не до конца. В руках у него вдруг обнаружился оскалившийся кривыми ржавыми гвоздями обломок доски, и этой импровизированной булавой он попытался приласкать Чижа по физиономии. Чиж блокировал удар левым предплечьем, доска с гнилым треском переломилась пополам, и упакованный в брезентовую рукавицу кулак расплющил вислый нос Солодовникова, как перезрелый помидор.
Рубашка прораба затрещала, брызнув во все стороны отлетевшими пуговицами, когда Чиж ухватился за нее, предотвращая очередное падение противника, который оказался неустойчив не только морально, но и физически. Продолжая удерживать правой рукой шатающееся из стороны в сторону, так и норовящее опять занять горизонтальное положение тело, Чиж методично и страшно избивал бывшего прораба левой.
– Это тебе за старшую дочку, – приговаривал он, – это за младшую, а вот это – за самую младшую, по совместительству внучку… Надеюсь, до нее ты еще не добрался? Ну, так уже и не доберешься, даже не мечтай…
Рубашка, наконец, порвалась окончательно, оставив в кулаке у Чижа забрызганный кровью клетчатый клок. Чиж наклонился, поднял Солодовникова и снова уронил, нанеся мощный удар в ухо. При этом прораб ударился другим ухом о стену, сполз на земляной пол, перевернулся на бок и свернулся калачиком.
Чиж трижды ставил его на ноги, и трижды Солодовников падал, не дожидаясь очередного удара. «Ну, и хватит, – остывая, подумал Чиж, – а то еще, чего доброго, и впрямь убью».
Кряхтя от натуги, ибо Солодовников, несмотря на кажущуюся худобу, был чертовски тяжел, Чиж вернул его в исходное положение, то есть перетащил через недостроенную перегородку и снова защелкнул на запястьях браслеты пропущенных через монтажную петлю наручников. Цементный раствор в корытце уже отстоялся, поверх него скопился тонкий слой прозрачной, будто только что из-под крана, воды. Чиж стянул с правой руки испачканную кровью рукавицу, зачерпнул воду ладонью, подняв со дна невесомую серую муть, и побрызгал в разбитое, похожее на сочащуюся кровью отбивную лицо.
– Просыпайся, соня, – сказал он и, когда Солодовников открыл глаза, вогнал в его разбитый, порванный рот резиновый мячик кляпа.
Затем Чиж приступил к работе. Энергично перемешивая раствор, укладывая кирпичи и, как заправский каменщик, пристукивая по ним металлической пяткой мастерка, он рассказывал прорабу Солодовникову об амонтильядо – тонком, изысканном старинном вине, хранящемся в сыром, покрытом пятнами селитры каменном подземелье старинного замка. Он рассказывал о человеке, который, звеня бубенчиками маскарадного шутовского колпака и глупо хихикая, шел через это подземелье навстречу медленной, мучительной смерти, и о нише с вмурованными в стену ржавыми кандалами, которая ждала его в конце пути.
Он любил перед сном перечитывать По и некоторые его вещицы, в том числе и эту, помнил почти наизусть. Поскольку Солодовников вряд ли когда-либо слышал имя мрачного романтика, не говоря уже о том, чтобы читать его жуткие рассказы, а повествование велось от первого лица, он, вероятно, решил, что Чиж окончательно слетел с катушек и делится с ним своими бредовыми фантазиями. А может быть, и не фантазиями, а подробностями совершенного ранее убийства, которые, как в призме, преломившись в воспаленном сознании маньяка, приобрели очертания болезненного бреда…
Словом, что бы ни думал по поводу услышанного бывший прораб Солодовников, бодрости и силы духа это ему явно не прибавило, о чем свидетельствовали выступившие на его глазах слезы. Промывая в крови и грязи светлые дорожки, слезы потекли по щекам вниз, к подбородку. В носу у прораба захрипело и забулькало, он отчаянно замотал головой, выдувая из ноздрей пузыри кровавой слизи.
– Кончай рыдать, – посоветовал ему Чиж, выравнивая ряд, – а то утонешь в собственных соплях.
Работа подошла к концу вместе с рассказом об амонтильядо. Чиж включил фонарик и посветил им в прямоугольную дыру, оставленную на уровне лица. В темноте блеснули слезящиеся, тупо моргающие глаза. Чиж просунул в отверстие руку, нащупал скользкий от крови и слюны резиновый мячик кляпа, покрепче ухватился за него кончиками пальцев и потянул, частично освободив Солодовникову рот.
– Теперь скажи: «Ради всего святого, Монтрезор», – потребовал он.
– Ражи… шево… швятофа… – неразборчиво сквозь кляп забормотал прикованный, – Монте… Морче… Как?..
– Да не суть важно, – смилостивился Чиж, вернул кляп на место и уложил на место последние кирпичи.
На то, чтобы кое-как оштукатурить стенку, замаскировав кирпичи, пришлось потратить почти час. Иногда сквозь скрежет мастерка по неровностям кирпичной кладки Чижу мерещилось доносящееся из-за перегородки сдавленное мычание, но он ни разу не остановился, чтобы прислушаться: стенка была достаточно толстой, чтобы с полной уверенностью отнести эти звуки на счет собственного излишне живого воображения.
Закончив работу, он аккуратно, стараясь сложить все именно так, как было до него, вернул на место хранившийся в тупике мусор. Испачканное раствором корытце и мастерок скрылись под грудой заплесневелых демисезонных пальто и пачками старых полуистлевших газет. Разнокалиберные доски и разноцветные лыжи стали на свое место в углу, на три четверти замаскировав стенку, которая раньше была бетонной, а теперь стала оштукатуренной. Наполовину прикрытый гнилым тряпьем ржавый остов старой газовой плиты выглядел так, словно к нему не прикасались лет двадцать. Затолкав в заросшую липкой грязью пасть духовки скомканные рабочие рукавицы, Чиж включил фонарик и, держа его в зубах, шипя от боли, поскольку это было чертовски горячо, вывинтил и ахнул об стену единственную на весь коридор лампочку.
Подсвечивая себе фонариком, он добрался до выключателя, разомкнул цепь, потом достал нож и изрезал на куски обесточенный электрический провод, а куски разбросал во все стороны. Затем, словно уже сделанного было мало, подобрал валявшуюся в углу железку и двумя ударами сбил со стены и разнес вдребезги сам выключатель.
Выйдя к подножию ведущей наверх лестницы, он закрыл за собой дверь, запер на два оборота замок, а потом напрягся и одним резким движением обломил торчащий в нем ключ. Убедившись, что большего сделать не сможет даже при всем своем желании, он опустил обломок ключа в карман и поднялся по лестнице.
Дверь, ведущая на улицу, была чуть-чуть приоткрыта, пропуская вовнутрь немного дневного света. Чиж немного постоял около нее, давая зрачкам привыкнуть к освещению, а заодно осматривая свой костюм на предмет повреждений и загрязнений, полученных во время работы. Оказалось, он и впрямь немного испачкался, но вот именно и только немного. Устранив, насколько это было возможно, следы своего пребывания в подвале, Чиж нацепил солнцезащитные очки и толкнул дверь.
Клонящееся к западному горизонту солнце больно ударило по глазам даже сквозь темные стекла, заставив Чижа прищуриться. Он осмотрелся; сердце тревожно стукнуло при виде осторожно прокладывающей себе дорогу через кишащий ребятней двор темно-синей «БМВ», но номер у машины был не тот, да и модель другая. Чиж сунул в зубы сигарету, прикурил и с чувством частично выполненного долга, пряча в карманах стремительно опухающие кулаки, зашагал наискосок через двор к оставленному за углом автомобилю.
О прорабе Солодовникове, который остался один в темноте (в настоящей темноте и по-настоящему, окончательно один), Чиж уже не вспоминал: этот педофил просто перестал для него существовать.
Да, пожалуй, и не только для него одного.
* * *
– Что ж, приходится признать, что парень действительно шустрый, – сказал Федор Филиппович, глядя мимо Глеба на разворачивающуюся внизу панораму Москвы, которая отсюда, с Воробьевых гор, сегодня открывалась не хуже, чем сто лет назад. – Он тебя едва не обскакал. Если бы не отчетливая работа службы безопасности, мы с тобой сейчас обсуждали бы не план дальнейших действий, а некролог господина Вронского.
Глеб слегка пожал плечами, как бы говоря: сделанного не вернешь. Особенно если сделано это не тобой…
Что до отчетливой работы службы безопасности, то ничего иного Глеб от нее и не ожидал. Возглавлял упомянутую службу Дмитрий Иванович Кривошеин, в бытность свою офицером внешней разведки неоднократно удостаивавшийся не только устных похвал начальства и даже первых лиц государства, но и боевых орденов. Что заставило этого грамотного, прошедшего огонь, воду и медные трубы боевого офицера-разведчика в шаге от генеральского звания покинуть службу, Глеб не знал. Произошло это сугубо добровольно, без малейшего нажима со стороны командования или, упаси бог, какого-то скандала. Напротив, Кривошеину настойчиво предлагали остаться, суля звания и должности, но он ушел в отставку, едва достигнув установленного законом рубежа выслуги лет, и уже через полгода сделался единовластным начальником довольно серьезной силовой структуры, которую Вронский именовал своей службой безопасности.
При Кривошеине эта структура стала еще мощнее, но не за счет увеличения численности или внедрения новых технологий (которые и без него внедрялись технической службой холдинга едва ли не раньше, чем разработчики успевали получить за них деньги), а за счет его умения руководить людьми, предвидеть опасность задолго до ее возникновения и направлять усилия коллектива в нужное русло. Словом, он был опытный разведчик, прирожденный командир и при этом умница, что делало его по-настоящему опасным противником.
По поводу причин его ухода из разведки говорили и думали разное. Федор Филиппович, например, явно упрощая ситуацию, неприязненно утверждал, что бывший полковник просто погнался за длинным рублем. Глебу доводилось слышать другое. Говорили, что будто бы в погоне за одним высокопоставленным эмиссаром Аль-Каиды Кривошеина занесло в Чечню в самый разгар контртеррористической операции. И якобы кое-что из увиденного там основательно поколебало устои мировоззрения этого представителя высшей армейской элиты, мастера перевоплощений, тончайших интриг и наносимых с хирургической точностью микроударов, любой из которых мог незаметно для постороннего глаза, без бомбежек, массированных ракетных обстрелов и намотанных на танковые гусеницы человеческих кишок изменить весь ход мировой политики.
Так все это было или не так, Глеб не знал, да его это, по большому счету, не очень-то и интересовало. Противник, будь он хоть семируким чудищем о трех головах, всегда найдет, что сказать в доказательство своей правоты. «С нами бог», – было выбито на пряжках поясных ремней у солдат вермахта, и большинство из них свято в это верило. Более того, их командиры сплошь и рядом являлись честными служаками, грамотными офицерами и в высшей степени порядочными, интеллигентными людьми, достойными продолжателями многовековой традиции прусского офицерства и тевтонского рыцарства. Дело не в том, хорош ты или плох, а в том, на чьей стороне дерешься. И, если быть до конца честным хотя бы перед собой и не бояться обвинений в попытке осквернить святыни, не так уж важно, за правое дело ты сражаешься или нет. Историю пишут победители, которых, как известно, не судят. То есть главное – одержать победу, а правым ты станешь автоматически, по умолчанию…
Так вот, что бы ни говорили об отставном полковнике Кривошеине, противником он был сильным, и одержать победу в единоборстве с ним представлялось делом нелегким. И неудачная попытка того, кого Глеб уже привык мысленно называть своим конкурентом, еще раз блестяще это доказала.
– Какие-нибудь подробности известны? – спросил он, не особенно рассчитывая на развернутый, содержательный ответ.
– «Какие-нибудь» – да, известны, – вопреки его ожиданиям, в усвоенной в последнее время немного сварливой, стариковской манере откликнулся Потапчук.
Ветер трепал все еще красиво вьющиеся и достаточно пышные, но уже заметно поредевшие и, как инеем, побитые сединой волосы на его голове, норовя поставить торчком воротник генеральского пиджака. Закатное солнце окрасило в розовый цвет виднеющиеся далеко внизу стены и башни города, зажгло ярким малиновым светом тысячи окон, заставило засверкать луковичные купола церквей. Позади раздавались шаги, молодые голоса, смех; рокотали по стыкам тротуарных плиток катки роликовых досок, шуршали шины велосипедов, обрывками долетала музыка, да изредка, деликатно шелестя работающим на малых оборотах двигателем, проезжал случайный автомобиль. Над рекой, ловя распахнутыми, чуть подрагивающими парусами крыльев тугой ветер, парили чайки, кроны деревьев стали заметно темнее и гуще, и откуда-то волнами накатывал густой запах цветущей сирени – первая и самая верная примета наступившего лета.
Подавив неуместный порыв дружески положить Федору Филипповичу на плечо ладонь и задушевным тоном спросить: «А может, по пивку, товарищ генерал?», Глеб заставил себя сосредоточиться на происходящем и осторожно поинтересовался:
– И что же произошло?
– Ничего особенного, – проворчал генерал. – За исключением того, что этому шустрому стервецу удалось ускользнуть из уже захлопнувшейся мышеловки. Вчера, накануне гражданской панихиды по Фарино, охранники Вронского осмотрели арендованный для ее проведения зал и прилегающие к нему помещения. В одной из кабинок мужского туалета, в смывном бачке, обнаружился тайник, содержавший два баллона «черемухи», противогаз, «TT» с глушителем и стандартные наручники.
– Черт, – пробормотал Глеб. – А я, признаться, планировал что-то как раз в этом роде. Только без наручников, естественно, мне с этим уродом говорить не о чем… А потом подумал: да мало ли?.. И не стал.
– Если бы ты действовал так примитивно, я бы в тебе разочаровался, – заявил Потапчук. – Кроме того, тебе вряд ли удалось бы оттуда уйти. Ты, прости за откровенность, уже не молод и давно отвык драться голыми руками.
Глебу было что на это возразить, но он не стал затевать бесполезный спор. Тем более что в словах Федора Филипповича, увы, содержалась изрядная доля горькой правды.
– Кстати, – сказал он, – а откуда такие подробности? Мне кажется, это не та информация, которую можно почерпнуть из газет.
– Так ведь и я не в собесе работаю, – напомнил генерал. – На церемонии присутствовал наш человек. Когда все немного успокоились, он расспросил одного из охранников, ну, и… Словом, этот тип проник на церемонию по пригласительному билету, выданному на имя некоего Ивана Распопова, поэта-песенника. Сам Распопов к этому времени уже успел остыть – таблеток наглотался, что ли…
– Только не говорите, что он…
– Педофил. Стараниями Фарино вместо причитавшейся ему пятерки получил год условно и, естественно, одним из первых выразил желание отдать последний долг покойному.
– Что ж, по крайней мере, в последовательности моему конкуренту не откажешь, – заметил Глеб.
– Ему во многом не откажешь. Проникнув в здание, этот негодяй набрался наглости лично пожать руку Вронскому и выразить соболезнования по поводу смерти ближайшего друга, после чего прямиком направился в клозет и вскрыл бачок, в котором, как ты понимаешь, вместо пистолета и всего прочего его поджидала химловушка.
– Не слишком оригинально, но весьма эффективно, – заметил Сиверов.
– Ты слушай. Что за манера – перебивать старших? Так вот, этот ловкач, как показала установленная там же камера наблюдения, ухитрился увернуться от краски. Говорят, почти не забрызгался.
– Вот это реакция! – искренне восхитился Глеб.
– Реакция фантастическая, – согласился генерал. – Да и подготовку он, судя по всему, получил очень неплохую. Ни секунды колебания, ни малейшей заминки! Стащил с себя забрызганную куртку и сиганул в окошко. Внизу его, конечно, ждали – двое непосредственно под окном, во внутреннем дворике, и еще двое сразу за воротами. Итого, как ты понимаешь, четверо. Так вот, из этих четверых двое сейчас находятся в больнице, причем один в состоянии средней тяжести, и еще один бюллетенит дома. Мошонка у него, должно быть, похожа на пару баскетбольных мячей в маленькой фиолетовой авоське…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































