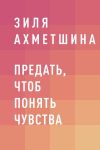Текст книги "Странный порядок вещей"

Автор книги: Антонио Дамасио
Жанр: Биология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Всем нам знакомо волшебство вечера, когда закат обращается в сумерки, а затем уступает место ночи, звездам и луне. В эти завораживающие часы мы, люди, собираемся вместе. Мы разговариваем, пьем, играем с детьми и собаками, обсуждаем хорошие и плохие события уходящего дня, спорим о проблемах семьи, друзей или политики, планируем завтрашний день. Мы все еще делаем это в любое время года, в том числе зимой, у огня, настоящего или газового, вероятного пережитка давно минувшего прошлого; ведь именно так, наверное, начинались сложные виды культурной деятельности раннего вечера – вокруг простого костра, в чистом поле, под звездным небом.
Освоение огня произошло не более миллиона лет назад, а согласно Робину Данбару и Джону Гоулетту костры вошли в обиход сотни тысяч лет назад, возможно, еще до появления Homo sapiens20. Почему освоение огня было так важно? Потому что, как оказывается, оно способствовало множеству удивительных изобретений, и в первую очередь кулинарии. Огонь проложил дорогу приготовлению пищи и возможности поедать хорошо перевариваемое и высокопитательное мясо, вместо того чтобы часами медленно жевать зелень, дающую мало энергии. Получая много жизненно важных белков и животных жиров, тело и мозг теперь могли стремительно расти и оттачивать ум на множестве задач, необходимых для поддержки этого гурманского потребления. Приготовленная на огне пища благоприятствовала выбору определенного места для еды, сокращала время, необходимое для пережевывания пищи, и таким образом высвобождала время для другой деятельности. Именно здесь мы находим скрытое преимущество огня: особую обстановку, способствующую новым видам деятельности. Вокруг костра могло собираться целое племя, причем не только ради приготовления пищи и ее приема, но и для общения. До того наступление темноты обычно запускало в мозге выделение гормона мелатонина, регулирующего сон. Но свет костра задерживал выделение мелатонина и растягивал полезные дневные часы. Ранним вечером никто не занимался охотой и собирательством, а потом, с появлением земледелия, и обработкой земли. Продолжительность дня возросла. Дневная работа была выполнена, но сообщество все еще бодрствовало, готовое расслабиться и отдыхать в полном давнишнем смысле этого слова. Нетрудно вообразить себе те разговоры о бедах и успехах, о дружбе и вражде, о трудовых и любовных отношениях, сколь бы примитивными эти разговоры ни были… хотя с тех пор, как появился Homo sapiens, считать их примитивными причин нет. Есть ли время более подходящее для того, чтобы восстанавливать связи, разорванные днем, или укреплять связи, днем созданные? Есть ли время более подходящее для того, чтобы дисциплинировать непослушных детей и наставлять их? И думать об открытом небе, звездах и о том, как хочется понять, что все это значит – сумерки, дрожащие огоньки, Млечный Путь, луна, которая ходит по небу и меняет форму причудливо, но предсказуемо, и последующие зори. Нетрудно вообразить себе также пение и пляски или ведовство.
Полли Висснер убедительно писала о собраниях у костра, основываясь на своем современном опыте исследований жизни бушменского племени жуцъоан на юге Африки21. Она предположила, что огонь – с завершением дневных обязанностей по добыче пищи – открывал возможность для продуктивного использования вечерних часов: разговоров, рассказывания множества историй и, разумеется, сплетен, а также восстановления человеческих связей, разорванных во время тяжелого трудового дня, и укрепления социальных ролей в малых людских сообществах.
В следующий раз, когда вы будете наслаждаться сидением у огня, задайтесь вопросом, почему люди все еще хотят сооружать в своих современных домах нечто столь старомодное и зачастую бесполезное, как камин. Ответ, вероятно, заключается в том, что очаг все еще способен сослужить ту богатую культурную службу, которую он выполнял прежде, и что идея потенциально благотворной обстановки все еще вызывает ободряющее чувство предвкушения. Зовите это просто волшебством.
Глава 11. Медицина, бессмертие и алгоритмы
Современная медицинаНетрудно выявить гомеостатическое значение многих человеческих культурных практик, но нигде это значение не очевидно настолько, как в медицине. С самого своего формального начала и вот уже тысячи лет вся медицинская практика сводилась – и сводится – к починке нездоровых процессов, органов и систем. Прежде медицина была тесно связана с магией и религией (это бывает и сейчас), а впоследствии – с наукой и технологиями.
Современная картина развития медицинской науки и технологий разнообразна, а цели варьируют от общепризнанных до бредовых. С общепризнанного конца спектра мы находим средства лечения достаточно изученных болезней, опирающиеся на фармакологические или хирургические инструменты, которые стали возможными благодаря новейшему научному и техническому прогрессу. Хороший пример – история инфекционных заболеваний. Некогда фатальные эпидемии инфекций мы укротили, разработав антибиотики, вакцины либо то и другое. Но эта битва никогда не заканчивается, потому что на сцену выходят новые инфекционные агенты или потому что старые настолько меняются – часто в результате терапии антибиотиками, – что начинают вести себя так же агрессивно, как новые. Сага о новых поправках нескончаема. Природа умеет защищаться и ускользать, но медицинская наука не испытывает недостатка в изобретательности или настойчивости. Например, когда возбудителем заболевания является опасный вирус, который обычно переносится определенным видом насекомых, ученые способны теперь изменить геном насекомого так, чтобы его статус носителя оказался заблокирован. Это смелое, новое и возможное с недавних пор решение появилось благодаря открытию технологии CRISPR-Cas9, позволяющей успешные модификации генома1. Ничто не гарантирует, однако, что столкнувшиеся с помехой вирусы не мутируют в ответ на генетический отпугиватель и не преодолеют новый барьер, повысив свою агрессивность. И так далее. Гомеостаз умеет играть в кошки-мышки, а иногда это умеем и мы.
Используя те же новые технологии, мы сможем получить модификации человеческого генома, нацеленные на искоренение определенных наследственных заболеваний. Это еще одно похвальное и потенциально значимое предприятие, но оно далеко не простое, так как большинство наследственных заболеваний, от которых страдает человечество, обусловлено не одним проблемным геном, а несколькими, порой даже многими. Гены часто работают пакетами – как токсичные кредиты. Гарантировать, что вмешательство не приведет к опасным и нежелательным последствиям, легче на словах, чем на деле.
Гораздо более проблематичны некоторые неконвенциональные медицинские разработки, например, генетические модификации с целью гарантировать благоприятные интеллектуальные и физические признаки или с целью отсрочки и устранения смерти. Здесь тоже мишень вмешательства – человеческая зародышевая линия, и проводить это вмешательство также позволяет смелая новая технология, описанная выше.
При осуществлении последних проектов следует задаться серьезными вопросами. На практическом уровне имеются значимые риски, связанные с манипуляцией генетическим материалом, которые на сегодняшний день, по-видимому, как следует не оценены. Но есть и риски на более фундаментальном уровне: вмешательство в естественный процесс эволюции имеет непредвиденные последствия для будущего человечества как в строго биологическом, так и в социокультурном, политическом и экономическом планах. Если цель – устранение болезни, вызывающей страдание и не связанной ни с какими преимуществами, то оснований для вмешательства достаточно. Классический принцип медицины – “не навреди”, и при условии тщательного соблюдения этого принципа вмешательство следует одобрить. Но что если заболевания нет? На каких основаниях будет оправданным пытаться улучшить свою память или интеллектуальный уровень генетическими средствами, а не путем интеллектуальных тренировок? А как насчет физических признаков – цвета глаз, кожи, черт лица, роста? А как насчет искусственного изменения соотношения полов?
Можно возразить, что это “косметические” изменения и что косметическая хирургия практикуется десятилетиями, – мол, вреда от нее немного, а довольных клиентов много. (На самом деле тысячелетиями, если считать татуировки, пирсинг, обрезание и тому подобное.) Но можно ли сравнивать подтяжки лица и прочие мелочи с вмешательством в геном, которое может распространяться не только на заказчика? И кстати, есть ли у будущих родителей право принимать решения о физическом или интеллектуальном облике своего потомства? Что вообще родители пытаются гарантировать и чего избежать? Что проблематичного для формирующегося человека в том, что ему приходится сталкиваться с волей случая и определять свою собственную судьбу, соединяя силу воли с врожденными достоинствами или недостатками? Что плохого в том, чтобы выстраивать свой характер, преодолевая неудачи развития или учась скромности, если вам повезло? Насколько я понимаю, абсолютно ничего, хотя мой коллега, прочитав этот пассаж, посетовал, что я слишком благодушно отношусь к собственным недостаткам (да, знаю, я маловат ростом) и что мое отношение делает меня жертвой стокгольмского синдрома, – состояния, при котором заложники начинают симпатизировать тем, кто их захватил. Я готов выслушать контраргументы и изменить свое мнение.
Появляются также важные разработки в области искусственного интеллекта и робототехники, и некоторые из них хорошо вписываются в гомеостатический императив, управляющий культурной эволюцией. Расширение границ человеческого разума – от восприятия и интеллекта до моторной деятельности – это древняя практика, руководимая гомеостазом. Достаточно вспомнить очки, бинокли и микроскопы, слуховые аппараты, трости и инвалидные коляски. Или подумать, если уж на то пошло, о калькуляторах и словарях. Искусственные органы и протезы тоже не новость, как и – если обратиться к темной стороне – допинг, который приносит столько неприятностей олимпийцам и чемпионам Тур де Франс. В общем, получение доступа к стратегиям и устройствам, способным ускорить движения или улучшить работу интеллекта, вряд ли проблематично – разве только для соревнующихся спортсменов.
Применение искусственного интеллекта в медицинской диагностике выглядит многообещающе. Диагностика заболеваний и интерпретация результатов диагностических процедур составляют основу медицины и опираются на распознавание закономерностей. Технологии машинного обучения – естественный инструмент в этой области – достигли достоверных и надежных результатов2.
По сравнению с некоторыми из рассматриваемых в настоящее время генетических вмешательств разработки в этой общей области в основном благотворны и потенциально ценны. Самый вероятный и ближайший сценарий – изобретение протезов, способных не просто компенсировать утраченные функции, но также улучшить или дополнить человеческое восприятие. Это и имплантация искусственной сетчатки для слепых, и разработка протезов конечностей, контролируемых непосредственными ментальными событиями, то есть намерением подвигать конечностью. Оба примера – текущая реальность; эти протезы будут усовершенствованы в ближайшем будущем. Они представляют собой значительное продвижение в направлении гибридизации человека с машиной. В число полезных применений входят и экзоскелеты для жертв несчастных случаев, которые оказались частично или полностью парализованы; экзоскелеты – это в буквальном смысле вторые скелеты-протезы, обернутые вокруг парализованных конечностей и закрепленные в позвоночном столбе. Эти протезы двигает компьютер, активируемый внешним оператором или самим пациентом. В последнем случае компьютер действительно может руководствоваться намерением пациента совершить движение, уловив электрические сигналы мозга, связанные с намерением совершить движение3. Мы уже на пути создания гибридов живых организмов с технологическими артефактами, являющих собой нечто вроде киборгов, столь любимых научной фантастикой.
БессмертиеВуди Аллен однажды пошутил, что хочет достичь бессмертия путем отказа умереть. Он не знал, что когда-нибудь идея разделаться со смертью будет не просто шуткой. Теперь люди установили, что эта возможность реальна, и упорно работают, стремясь к этой цели. А почему бы и нет? Если бы и в самом деле стало возможным продлевать жизнь до бесконечности, то надо ли отказываться от такой опции?
Практический ответ на этот вопрос ясен. Стоит попытаться – при условии, что нам не придется сталкиваться с высшим творцом, у которого могли быть другие планы, и при условии, что эту вечную жизнь можно прожить качественно, без болезней, которые учащаются с продлением жизни (в основном это деменция и раковые заболевания). От смелости подобного проекта захватывает дух – как, впрочем, и от самонадеянности, которая тут, безусловно, подразумевается. Но опомнившись – и устав проваливаться в яму стокгольмского синдрома, – вы скажете: хорошо, однако позвольте мне задать несколько вопросов. Каковы последствия такого проекта, ближайшие и долгосрочные, для индивидов и для общества? Какое представление о человечестве лежит в основе затеи сделать человека вечным?
В категориях базового гомеостаза, бессмертие – идеал, воплощение того, о чем природа и мечтать не смела: бесконечной жизни. Ранние условия гомеостаза были таковы, что они поддерживали жизнь в настоящем и непреднамеренно проецировали ее в будущее. Незапланированные приспособления, гарантирующие жизнь в будущем, включали появление генетической машинерии. В нашем футуристическом сценарии бессмертие станет конечной стадией проекта “жизнь”, достижением, которое будет еще более интригующим и достойным одобрения из-за того, что оно станет возможным благодаря человеческому творчеству. Более того: это представляется естественным, если учесть, что творчество само по себе является следствием гомеостаза. Но как насчет оборотной стороны? Не все, что естественно, непременно хорошо, и вряд ли можно советовать оставлять естественное без присмотра.
Бессмертие уничтожит важнейший механизм руководимого чувствами гомеостаза: открытие неизбежности смерти и тоску, которую порождает это открытие. Стоит ли нам беспокоиться об утрате подобного механизма? Разумеется, стоит. Можно выдвинуть соображение, что в качестве механизмов поддержки гомеостаза нам, возможно, следует сохранить боль и страдание от иных причин, чем предвидение смерти, а также удовольствие. Но сохраним ли мы их? Можно ли вообразить, что, как только удовлетворится наша жажда бессмертия, радикальное устранение боли и страдания останется далеко позади? А как насчет удовольствия? Сохраним ли мы его и превратим ли Землю в рай? Или мы избавимся и от удовольствия и окажемся в мире зомби, в котором, как мне порой кажется, некоторые борцы за бессмертие и правда были бы не прочь обосноваться?
Но все это, вопреки усилиям почтенных футурологов и визионеров, вряд ли сбудется в скором времени. Например, ключевая идея трансгуманизма – представление о том, что человеческий разум можно “загрузить” в компьютер, гарантировав таким образом его вечную жизнь4. На данный момент это неправдоподобный сценарий. Он отражает и ограниченные представления о том, что такое на самом деле жизнь, и недостаточное понимание условий, при которых реальные люди конструируют психический опыт. Что именно собираются загружать в компьютер трансгуманисты, остается загадкой. Безусловно, не ментальный опыт – по крайней мере, если мы говорим о том ментальном опыте, который отвечает представлениям большинства людей о своем сознающем разуме, – а в таком случае потребуются устройства и механизмы, которые я описал выше. Одна из ключевых идей этой книги – что разум зарождается из взаимодействия тела и мозга, а не из одного мозга. Планируют ли трансгуманисты загружать и тело?
Я готов рассматривать смелые сценарии будущего и обычно сожалею о неудачах научного воображения, но я действительно не могу представить себе следствия из этой идеи. Суть проблемы, возможно, лучше всего объяснить, указав, почему существуют четкие границы применения понятий кода и алгоритма – двух фундаментальных понятий вычислительной науки и искусственного интеллекта – к живым системам, и к этому вопросу я сейчас и обращусь.
Алгоритмическая теория человечестваОдно из примечательных достижений науки XX века – открытие, что и физические структуры, и передача идей могут складываться на базе алгоритмов, опирающихся на коды. Используя алфавит нуклеиновых кислот, генетический код помогает живым организмам собирать основы других живых организмов и направлять их развитие; аналогичным образом вербальные языки обеспечивают нас алфавитами, из которых мы можем собрать бесконечное количество слов, обозначающих бесконечное количество объектов, действий, отношений и событий, а также грамматическими правилами, которые управляют последовательностью слов. И таким образом мы конструируем предложения и тексты, рассказывающие о ходе событий или объясняющие идеи. На этом этапе эволюции многие аспекты сборки естественных организмов и коммуникации зависят от алгоритмов и от кодирования – как и многие аспекты машинного вычисления, а также целые отрасли искусственного интеллекта и робототехники. Но данный факт породил весьма размашистое представление о том, что естественные организмы так или иначе сводимы к алгоритмам.
В мире искусственного интеллекта, биологии и даже нейронауки царит опьянение подобными представлениями. Не вызывает никаких возражений утверждение, будто организмы – это алгоритмы и будто мозг и тело – это алгоритмы. Это входит в предполагаемую сингулярность, которую делает возможной тот факт, что мы умеем писать алгоритмы искусственно, связывать их с алгоритмами естественными и, так сказать, смешивать оба алгоритма. В такой интерпретации сингулярность не просто близка – она уже наступила.
Подобное словоупотребление и подобные идеи приобрели определенную популярность в научно-технических кругах, но они научно не обоснованы. А с человеческой точки зрения просто бьют мимо цели.
Утверждение, что живые организмы суть алгоритмы, как минимум запутывает, а в строгом смысле ложно. Алгоритмы – это формулы, рецепты, последовательности шагов при конструировании определенного результата. Живые организмы, включая человеческие, конструируются по алгоритмам и используют алгоритмы в работе своих генетических механизмов. Но сами они алгоритмами не являются. Живые организмы – это следствия применения алгоритмов, и они демонстрируют качества, предусмотренные или не предусмотренные алгоритмами, направлявшими их конструирование. Что важнее всего, живой организм – это набор тканей, органов и систем, в которых каждая составляющая клетка является уязвимым живым существом, состоящим из белков, жиров и углеводов. Они не строчки в кодах, а осязаемые вещества.
Идея, что живые организмы суть алгоритмы, способствует распространению ложного представления о том, будто субстраты, используемые при конструировании организма, живого или искусственного, не имеют значения. Это подразумевает, что субстрат, на котором работает алгоритм, неважен, как и контекст его работы. За современным употреблением термина “алгоритм” словно бы прослеживается идея независимости от контекста и субстрата, хотя сам по себе этот термин не подразумевает – или не должен подразумевать – подобных выводов.
Можно предположить, согласно нынешнему словоупотреблению, что применение того же алгоритма к разным субстратам и в других контекстах даст аналогичные результаты. Однако нет причин, по которым это должно быть так. Субстраты имеют значение. Субстрат нашей жизни – определенный тип организованной химии, подчиненный термодинамике и императиву гомеостаза. Насколько нам известно, этот субстрат играет ключевую роль в объяснении, кто мы такие. Почему? Позвольте мне выделить три причины.
Во-первых, феноменология чувств демонстрирует, что человеческие чувства – продукт многомерного и интерактивного картирования наших жизненных операций с их химическими и висцеральными составляющими. Чувства отражают качество этих операций и их будущую жизнеспособность. Можно ли вообразить себе чувства на ином субстрате? Можно, хотя нет причин, по которым подобные гипотетические чувства должны походить на человеческие. Я могу представить себе что-то “наподобие” чувств, зарождающихся на искусственном субстрате, если они будут отражениями “гомеостаза” в порожденном устройстве и будут сигнализировать о качестве и жизнеспособности работы устройства. Но незачем ожидать, что подобные чувства окажутся сопоставимы с чувствами человека или других видов в отсутствие субстрата, которым чувства пользуются для отражения состояний живых существ на планете Земля.
Я могу также представить чувства другого вида где-то в нашей галактике, где зародилась жизнь и где организмы следуют гомеостатическому императиву, сходному с нашим, и породили, на физиологически ином, но живом субстрате, нечто вроде наших чувств. Переживание своих чувств этим таинственным видом будет формально сродни нашему, хотя и не точно таким же, потому что субстрат не будет точно таким же. Если изменить субстрат чувств, меняется объект интерактивного картирования, а соответственно, меняются и чувства.
Короче говоря, субстраты имеют значение, поскольку ментальный процесс, о котором идет речь, это психический отчет об этих субстратах. Феноменология имеет значение.
Есть немало свидетельств тому, что искусственный организм можно сконструировать так, что он будет действовать разумно и даже превосходить интеллект человеческих организмов. Но нет свидетельств, что подобные искусственные организмы, сконструированные единственно ради того, чтобы быть умными, способны порождать чувства только потому, что они ведут себя разумно. Естественные чувства возникли в ходе эволюции и сохранились потому, что имели жизненно важное значение для организмов, которым повезло их иметь.
Любопытно, что чисто интеллектуальные процессы хорошо поддаются алгоритмическому описанию и кажутся независимыми от субстрата. Вот почему тщательно разработанные программы ИИ способны обыгрывать чемпионов по шахматам, отлично играть в го и успешно управлять автомобилем. Однако на сегодняшний день нет свидетельств, что интеллектуальные процессы сами по себе могут составлять основу того, что делает человека человеком. Напротив, чтобы получить нечто подобное работе живого организма и особенно человека, интеллектуальные процессы и процессы в сфере чувств должны быть функционально взаимосвязаны. Здесь важно напомнить о ключевом различии (о котором рассказывалось во второй части) между эмоциональными процессами – программами действий, связанными с аффектом, – и чувствами, ментальными переживаниями состояний организма, включая состояния, порожденные эмоциями.
Почему это так важно? Потому что моральные ценности возникают из процессов вознаграждения и наказания, обусловленных химическими, висцеральными и нейронными процессами в организме существ, обладающих психикой. Процессы вознаграждения и наказания порождают не что иное, как чувства удовольствия и боли. Ценности, которым наши культуры воздают должное через искусство, религиозные верования, правосудие и справедливое управление, возникли на основании чувств. Если мы устраним нынешний химический субстрат страдания и его противоположности – удовольствия и процветания, – мы устраним и естественное основание моральных систем, которыми располагаем в настоящее время.
Разумеется, можно сконструировать искусственную систему так, что она будет действовать в соответствии с “моральными ценностями”. Это не значит, однако, что подобные устройства будут содержать основание этих ценностей и смогут сконструировать их самостоятельно. Наличие “действий” не гарантирует, что организм или устройство будут “ментально переживать” эти действия.
Ничто из вышеперечисленного не означает, что высшие, основанные на чувствах функции живых организмов непознаваемы или не поддаются научному исследованию. Они безусловно были и остаются познаваемыми. Я также полемизирую с употреблением понятия “алгоритм” не для того, чтобы привнести в дискуссию мистику. Но пока не будет доказано обратное, исследования живых организмов должны учитывать живой субстрат и сложность результирующих процессов. Значение этих различий вовсе не пустяк, если задуматься о новой эре в медицине (о которой рассказывалось выше), когда появится возможность продления человеческой жизни методами генной инженерии и создания человеко-машинных гибридов.
Во-вторых, предсказуемость и негибкость, ассоциирующиеся с термином “алгоритм”, неприменимы к высшим достижениям человеческого поведения и разума. Активное присутствие у человека осознанных чувств гарантирует, что выполнению природных алгоритмов может помешать творческий интеллект. Наша свобода противиться импульсам, которые навязывает нам доброе или злое начало нашей натуры, безусловно ограничена, но факт остается фактом – во многих обстоятельствах мы способны действовать вопреки этим добрым или злым импульсам. История человеческих культур – во многом повествование о нашем сопротивлении природным алгоритмам с помощью изобретений, этими алгоритмами не предусмотренных. Иными словами, даже если бы мы отбросили осторожность и отважно объявили человеческий мозг “алгоритмом”, человеческие действия – не алгоритмы, и мы не обязательно предсказуемы.
Можно возразить, что отступления от природных алгоритмов, в свою очередь, поддаются алгоритмическому описанию. Это верно, но остается тот факт, что “начальные” алгоритмы порождают не все виды поведения. Чувства и мышление вносят свою лепту, пользуясь своими значительными степенями свободы. А если так, то в чем смысл использования этого термина?
В-третьих, алгоритмическое объяснение человечества, которое подразумевает вышеперечисленные проблемы – независимость от субстрата и контекста, негибкость и предсказуемость, – есть редукционистская позиция, которая часто приводит хороших людей к отрицанию науки и технологий как унижающих человеческое достоинство и к оплакиванию ушедшего века, в котором философия вкупе с эстетической восприимчивостью и человечной реакцией на страдание и смерть позволяла нам воспарять над видом, на чьих биологических плечах мы стоим. Я убежден, что нам не стоит отрицать ценность научного проекта или мешать ему из-за того, что он содержит проблематичное представление о человечестве. Моя мысль проще. Производство таких объяснений человечества, которые унижают человеческое достоинство – пусть и непреднамеренно, – не способствует оправданию человечества.
Задача оправдания человечества вряд ли стоит перед теми, кто считает, что мы входим в “постгуманистическую” фазу истории, – фазу, в которой большинство человеческих особей потеряет свою полезность для общества. Юваль Харари рисует картину, где людям больше не нужно воевать, – кибероружие способно делать это за них, – а после того, как люди лишатся работы из-за автоматизации, большинство из них просто вымрет. История будет принадлежать тем, кто останется, получив бессмертие – или, по крайней мере, долгое-долгое долголетие, – и для кого эта ситуация будет полезна. Я говорю “полезна”, а не “приятна”, так как в моем представлении статус их чувств будет неясен5. Философ Ник Бостром предлагает другой альтернативный образ будущего, в котором очень умные и деструктивные роботы захватят мир и положат конец человеческому убожеству6. В обоих случаях по умолчанию предполагается, что жизнь и разум в будущем станут – по крайней мере отчасти – зависеть от “электронных алгоритмов”, искусственно симулирующих то, что в наши дни делают “биохимические алгоритмы”. Более того: с точки зрения подобных мыслителей, открытие, что человеческая жизнь по сути сравнима с жизнью всех других живых организмов, подрывает традиционную основу гуманизма – идею, что человек исключителен и выделяется среди других видов. Это явный вывод из рассуждений Харари, и если так, то он определенно неверен. Да, человек разделяет бесчисленные аспекты жизненного процесса со всеми другими видами, но человек безусловно уникален по многим параметрам. Масштаб человеческих страданий и радостей уникально человеческий – благодаря резонансу чувств в воспоминаниях о прошлом и в сконструированных воспоминаниях о предчувствуемом будущем7. Но, возможно, Харари просто хочет запугать нас своей басней про человека-Бога и надеется, что мы предпримем что-нибудь, пока еще не поздно. В этом случае мы согласны, и я, безусловно, разделяю его надежду.
Я недоволен этими антиутопическими картинами, и вот по какой причине: они бесконечно бесцветны и скучны. Какая деградация после антиутопии Олдоса Хаксли в “Дивном новом мире”8, где описывается жизнь в удовольствиях! Новейшие образы будущего напоминают монотонное и нудное существование героев Луи Бунюэля в “Ангеле-истребителе”. Я предпочитаю опасности и находчивость из фильма Альфреда Хичкока “К северу через северо-запад”. Кэри Грант справляется со всеми трудностями, ему удается перехитрить главного злодея в лице Джеймса Мэйсона и завоевать сердце Эвы Мари Сейнт.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.