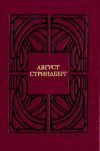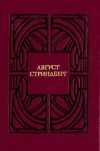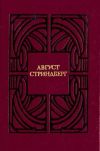Читать книгу "Исповедь глупца"

Автор книги: Август Стриндберг
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
В это же время она заболевает, не страдая никакой определенной болезнью, и вынуждена лежать в постели. Тем не менее я решаю уехать, чтобы лично выступить на суде, и действительно уезжаю.
Письма, которые я пишу ей во время этих мучительных шести недель, когда над моей головой висит приговор к двум годам каторжных работ, дышат любовью, пробудившейся благодаря разлуке и вынужденному безбрачию. Мой переутомившийся мозг рисует мне ее образ в поэтических, золотых красках, а воздержание и тоска приводят к тому, что я снова облекаю ее в белые одежды ангела-хранителя. Все безобразное, низменное и дурное исчезает, и снова выступает мадонна моих первых любовных мечтаний. Дело доходит до того, что, встретив старинного коллегу по журналистике, я признаюсь ему, что под влиянием этой благородной женщины, я стал лучше и чище. Это заявление облетает все газеты соединенных королевств.
Посмеялось ли над этим мое чудовище? Публика по крайней мере вознаградила себя смехом, которому нет цены. Ответы Марии на мои нежные письма указывали на живой интерес к денежной стороне всего этого дела, которая росла вместе с овациями, устраиваемыми мне в театре и на улицах. Она внезапно меняет свое мнение, говорит об ограниченности судей и горячо жалеет, что не может лично присутствовать при всем этом.
На мои любовные излияния она отвечает сдержанно и ограничивается общими фразами: «надо понять, надо догадаться»; касаясь нашего несчастного брака, она объясняет его тем, что я никогда не понимал ее. Между тем, я готов поклясться, что скорее она не понимала ни словечка из того, что я ей говорил.
Среди писем было одно, пробудившее в мне старые подозрения. Чтобы напугать ее, я сообщил ей, что, если вырвусь из сетей правосудия, то предпочту переселиться за границу. Она сердится, умоляет меня, грозит лишить меня своей любви, взывает к моей жалости, заклинает меня именем моей матери, объявляет, что она каменеет при одной мысли не видать больше «родины» (не Финляндии), что это убьет ее.
Откуда эта внезапная настойчивость, спрашиваю я себя и до сих пор не могу найти этому объяснения.
Наконец, суд оправдал меня, и я возвращаюсь назад в Женеву, где я устроил свою семью на время моего отъезда. К моему великому изумлению, на вокзале меня встречает Мария, свежая и здоровая, хотя несколько смущенная, несмотря на то, что по письмам она все время лежала в постели.
Но скоро я оправляюсь, а вечер и ночь вознаграждают меня за все пережитые неприятности. На следующий день я открываю, что пансион полон студентами и уличными девицами; прислушиваясь к разговорам, я начинаю понимать, что Мария находит удовольствие играть в карты и пить в этом дурном обществе; мне противны грязные вольности, которые я слышу в изобилии. Она по-прежнему разыгрывает из себя мать со всеми этими студентами; она находится в тесной дружбе с самой отвратительной женщиной из всего общества, эта особа является к столу совершенно пьяная и имеет ужасающее сходство с жирной свиньей.
И в этом вертепе дети мои прожили целых шесть недель! А мать ничего не видит, ничего не говорит, она потеряла последний стыд. И ее мнимая болезнь не мешала ей принимать участие в сборищах этой подозрительной компании!
Она называет меня ревнивцем, консерватором, аристократом, и прежние стычки разгораются с новой силой.
Теперь на сцену выступает вопрос о воспитании детей. Простая крестьянка, не имеющая ни малейшего представления о своем деле, возведена в воспитательницы и вместе с матерью совершает ужаснейшие глупости. Обе ленивые женщины любят спать до полудня, и дети вынуждены тоже валяться в постели, а если они нарушают приказание, их бьют. Но тут вмешиваюсь я и без дальнейших разговоров поднимаю детей утром, и они приветствуют меня радостными криками, как своего избавителя. Жена моя ссылается на свободу личности, которая состоит в том, чтобы подавлять свободу другого, если он хочет вставать рано. И поэтому мономания этого слабого, ничтожного мозга, желающего во что бы то ни стало уравнять то, что не может быть равным, вносит ужаснейший хаос в нашу семью. Моя старшая дочь, умная, развитая, с первых лет привыкшая рассматривать у меня иллюстрированные издания, продолжает пользоваться этим правом, как старшая, а так как я не разрешаю этого младшим, которые не умеют обращаться со старинными, дорогими изданиями, не попортив их, то мать упрекает меня в несправедливости.
– Все должно быть равно!
– Все? И размер платья и башмаков тоже?
Она не отвечает и называет меня безумным.
– Каждому по способностям и заслугам. Одно для старших, другое для младших!
Она не хочет этого понимать, и я выставляюсь несправедливым отцом, который «ненавидит» младшую дочь. И, откровенно говоря, я больше люблю первую девочку, потому что она старше, потому что у нас с ней общие воспоминания о первых, лучших днях моей жизни, потому что она раньше младшей вступила в сознательный возраст, а может быть также и потому, что младшая родилась в то время, когда я уже сомневался в верности моей жены. Впрочем, справедливость матери выражается в полнейшем равнодушии к детям, которое она проявляет, бывая дома; она совершенно чужда детям, которые все сильнее привязываются ко мне, и это возбуждает наконец ревность матери. Чтобы сгладить это, я завел обыкновение передавать матери все игрушки и конфеты для детей, чтобы вызвать в них любовь к ней.
Таким образом дети стали частью моей жизни, и в мрачные минуты, когда одиночество тяготит меня, общение с этими маленькими существами снова привязывает меня к жизни и даже к моей жене. И тогда всякая мысль о разводе кажется мне неосуществимой. Это печальное положение привело меня, в конце концов, к полнейшему порабощению.
Последствия моего нападения на маскулинисток дают себя знать. Шведские газеты осыпают меня нападками и делают мою жизнь невозможной; произведения мои запрещены в продаже, и, гонимый из города в город, я бегу во Францию. Но в Париже друзья мои отворачиваются от меня и заключают союз с моей женой. Затравленный, как дикий зверь, я меняю поле битвы, а когда приближается нужда, я нахожу, наконец, нейтральное пристанище в одной деревушке, населенной художниками, в окрестностях Парижа. Здесь я снова попадаю в сети, запутавшись в которые я провожу десять самых ужасных месяцев моей жизни.
Общество состоит из молодых скандинавских художников; это большею частью люди необразованные, из крестьян, прежние ученики ремесленников, такие же различные по происхождению, как и по способностям, и, что еще хуже, некоторые из рисующих дам, которые отбросили все предрассудки, обнаруживают нелепую любовь к гермафродитской литературе и воображают, наконец, что они во всем равны с мужчиной. С целью скрыть свой пол они принимают внешние признаки мужчин; они курят, напиваются, играют на бильярде – и, кроме того предаются запретной любви.
Дальше идти некуда!
Чтобы не быть одиноким, я завожу знакомство с двумя из этих чудовищ. Одна из них так называемая литераторша, другая художница. Сначала меня посещает литераторша, потому что я знаменитый писатель. Но это возбуждает ревность моей жены, и она старается переманить на свою сторону эту союзницу, которая кажется мне достаточно просвещенной, чтобы оценить по достоинству высказанные мною положения против полуженщин.
Между тем целый ряд случаев снова наводит меня на мрачные мысли, и через несколько времени необузданно прорывается мономания, о которой так много говорилось прежде.
Однажды вечером мы с Марией пили в саду кофе о одним пожилым господином, только недавно приехавшим из Швеции. Было еще светло, и я мог наблюдать за выражением лица Марии. Пожилой господин рассказывал мне о том, что произошло нового в Швеции после моего отъезда. При этом он упомянул имя того врача, который делал Марии массаж. Она прерывает его рассказ и спрашивает:
– Ах, вы знаете доктора X?
– Он очень известен… мне кажется, он имеет определенную репутацию…
– Развратника, – договариваю я.
Лицо Марии бледнеет, и бесстыдная улыбка пробегает по ее губам, обнажая зубы. Разговор обрывается среди всеобщего смущения.
Оставшись с ним наедине, я попросил его сообщить мне слухи относительно мучившего меня вопроса. Он клялся мне, что об этом не ходит никаких сплетен. Но после целого часа настоятельных просьб с моей стороны он произносит загадочное утешение: – Впрочем, дорогой друг, если есть один такой, то будьте уверены, их найдется много!
Это было все, но с этого дня имя доктора никогда не произносилось Марией, которая всегда называла все слухи ложными, открыто произнося это имя, словно хотела приучить себя называть его, не краснея. Она следовала при этом влечению, подавлявшему все сомнения.
Испуганный этим странным открытием, я начинаю искать в памяти какие-нибудь указания на это и вдруг вспоминаю одну книгу, появившуюся во время процесса, которая хотя и проливает не совсем ясный свет на дело, но позволяет все-таки найти нити, ведущие к источнику всех этих слухов. Это была драма одного известного норвежского писателя феминиста, изобретателя безумной теории равенства полов. Не помню уж, каким образом книга попала мне в руки. Теперь мне все ясно, все вызывает ужасные предположения относительно репутации моей жены. Содержание драмы следующее: один фотограф (прозвище, которое мне дали за мой роман, взятый из действительной жизни) женится на одной сомнительной особе, бывшей любовнице одного крупного землевладельца. Жена поддерживает хозяйство из тайного фонда, оставшегося после прежнего любовника.
Кроме того, она ведет все дело мужа, лентяя, который проводит все свое время, пьянствуя в обществе бездельников. Это извращение фактов было допущено автором, потому что он знал, что Мария занимается переводами, но он не знал, что я бесплатно исправлял их и сам же платил за них гонорар.
Дело еще ухудшается, когда несчастный фотограф узнает, что его обожаемая дочь, преждевременно родившаяся на свет, не его ребенок и что жена одурачила его, выходя за него замуж. В довершение позора обманутый муж позволяет себе взять значительную сумму денег в виде вознаграждения от прежнего любовника жены.
Под этим я понимаю заем Марии под поручительством барона, за который после свадьбы должен был поручиться и я.
Но что касается незаконного рождения дочери, то в этом нет и следа сходства, потому что наша дочь родилась только два года спустя после свадьбы. Но что это? Умершая девочка! Я напал на след! Умерший ребенок, принудивший нас к браку, который без этого бы не состоялся!
На вечер я готовлю крупную сцену, я хочу подвергнуть Марию перекрестному допросу, придав ему вид защиты нас обоих; ведь мы оба подверглись нападкам этого орудия маскулинисток, несомненно получившего деньги за свое грязное дело.
Когда Мария возвращается домой, я сердечно здороваюсь с ней и прошу сесть.
– В чем дело?
– Очень важный случай, близко касающийся нас обоих. – Я передаю ей содержание пьесы, настаивая на подробности, что актер загримировался мною.
Она молчит, обдумывая план действия, но она, видимо, взволнована.
Я начинаю свою речь:
– Если это действительно было так, скажи мне, и, я клянусь тебе, прощу тебя; потому что если действительно умершая девочка была не моя, ты имела на это право, так как ты была связана со мной весьма неопределенным обещанием. Ты могла свободно располагать собой, ты ведь ничего не получала от меня. Что касается героя драмы, то, мне кажется, он поступает, как человек с сердцем, который не способен замарать будущего своей дочери и жены, а то, что он берет деньги для обеспечения дочери, я считаю вполне законным вознаграждением.
Она внимательно слушает меня, и ее дух, в глубине своей мещанский, хватается за приманку, но не проглатывает ее. Судя по затишью, осветившему ее лицо, искаженное угрызениями совести, ее по-видимому удовлетворяет признание ее прав распоряжаться своим телом, потому что она не получала от меня денег; она даже ценит обманутого мужа, признавая за ним «благородное сердце».
Мне не удается вырвать у нее признания, и я продолжаю свою речь; я перекидываю ей золотые мостки для защиты, отклоняю ее совет принять меры для реабилитации нас и предлагаю в свою очередь написать роман, чтобы обелить нас перед светом и детьми.
Моя речь длится целый час; она сидит все это время за моим столом в необыкновенном волнении, играя ручкой от пера, и не произносит ни слова, кроме нескольких восклицаний.
Успокоившись, я иду пройтись и сыграть партию на бильярде. Когда я вернулся, Мария все еще сидела на том же месте, неподвижная, как статуя, так просидела она два часа.
Услышав мои шаги, она поднимает на меня глаза.
– Ты хотел поймать меня в ловушку? – спрашивает она.
– Нисколько! Неужели ты думаешь, я в состоянии потерять мать своих детей?
– Я считаю тебя способным на все, ты хочешь освободиться от меня, как тогда, когда ты подослал господина У*** (имя еще не упомянутого моего приятеля) соблазнить меня, чтобы уличить меня в измене.
– Кто тебе это сказал?
– Анна!
Это была возлюбленная Марии, последняя подруга перед нашим отъездом. Месть лесбиянки!
– И ты этому поверила?
– Конечно! Но, видишь ли, я водила за нос и тебя и г-на У, вас обоих.
– Так ты меня обманывала с третьим?
– Я этого не говорю!
– Да ведь ты созналась. Если ты обманывала нас обоих, следовательно обманывала и меня. Разве это нелогично?
Как виновная, она сердится и требует доказательств.
– Доказательства!
А я, поверженный во прах открытием этого позорного поступка, превосходящего по гнусности все, что я мог предполагать в человеке, я опускаю голову, падаю на колени и молю о пощаде:
– И ты поверила этому! Ты могла поверить, что я хочу расстаться с тобой; я, твой верный друг, покорный муж, я, который не могу жить без тебя! Ты жаловалась на мою ревность, ты видела, как женщины хотели увлечь меня и как я выставлял их перед тобой отвратительными созданиями – и ты поверила этому!
Ее охватывает жалость, и в минутной откровенности она признается, что никогда этому не верила.
– Ты все-таки обманывала меня, сознайся, и я прощу тебя. Освободи меня от мрачных мыслей, томящих меня. Признайся!
Она ничего не говорит и только называет господина У негодяем.
Мой лучший друг негодяй! Я жажду смерти, жизнь мне невыносима!
За ужином Мария необычайно внимательна ко мне, а когда я ложусь спать, приходит ко мне, садится на кровать, пожимает мне руки, целует глаза и, наконец, разражается слезами; она совершенно разбита.
– Ты плачешь, мое дорогое дитя, скажи, что тебя печалит, я утешу тебя!
Она произносит бессвязные слова, восхваляет мое благородное сердце, мою доброту, мое великодушное отношение к горестям этого мира.
Какое противоречие! Я обвиняю ее в измене, а она ласкает и прославляет меня.
Но искра брошена, и пожар разгорается.
Она обманула меня. Я должен знать, с кем.
Это самая тяжелая неделя моей жизни; я страстно борюсь с прирожденными и унаследованными принципами, результатом нашего воспитания; я готов совершить преступление. Я решаюсь распечатывать письма, адресованные Марии, чтобы быть в курсе дела. И, несмотря на неограниченное доверие, которое я оказываю ей, разрешая распечатывать в мое отсутствие мои письма, я колеблюсь нарушить священный закон, драгоценнейший плод молчаливого общественного договора, запрещающий нарушать тайну писем.
Но я не могу больше противиться искушению, я теряю всякое уважение к себе и вот однажды держу в руках распечатанное письмо и дрожу, словно моей честь произнесен смертный приговор. Я читаю письмо авантюристки – подруги 1.
В насмешливом и презрительном тоне говорит она о моем безумии и просит милосердного Бога избавить Марию от ее несчастья, отняв у меня мой помутившийся разум.
Списав эти отвратительные строки, я снова запечатываю конверт, который она должна получить с вечерней почтой. В нужную минуту я передаю жене письмо и сажусь рядом с ней, следя за выражением ее лица.
Дойдя на второй странице до того места, где речь идет о пожелании мне смерти, она разражается диким хохотом.
Итак, моя обожаемая видит конец угрызениям своей совести только с моей смертью. Ее последняя надежда избежать последствий преступления покоится на моей смерти. Тогда ей выдадут сумму, в которую застрахована моя жизнь, она получит пенсию после знаменитого поэта, выйдет снова замуж, или останется очаровательной вдовой. Обожаемая моя!
Итак, я приговорен к смерти и, чтобы ускорить катастрофу, я начинаю пить абсент, что приводит меня в прекрасное настроение, и играть на бильярде, что успокаивает мой разгоряченный мозг.
Между тем обстоятельства складываются еще хуже, чем прежде. Литераторша, делавшая вид, что сочувствует мне, переходит на сторону Марии; между ними царит такая нежная любовь, что снова начинают ходить злые сплетни. В то же время подруга литераторши начинает ревновать ее, что еще подтверждают дурные слухи. Однажды вечером, лежа в постели, устав от моих объятий, Мария спрашивает, не люблю ли я мадемуазель Z.
– Нисколько! Эту пьяную женщину! Неужели ты считаешь это возможным?
– А я совсем влюблена в нее! Разве это не странно? Я даже боюсь оставаться с ней наедине.
– Чего же тебе надо от нее?
– Я не знаю! Целовать ее! Она такая прелестная…
Неделю спустя мы пригласили к себе из Парижа друзей с их женами; это все были художники – люди без всякого стыда и предрассудков.
Мужчины приезжают, жены же остаются, они ссылаются на всевозможные предлоги, чтобы не оскорблять нас.
Затем справляется оргия, и скандальное поведение мужчин выводит меня из себя.
С обеими подругами Марии они обращаются, как с девицами легкого поведения, и во время всеобщего пьянства я замечаю, как Мария несколько раз позволяет себя поцеловать какому-то лейтенанту.
Я требую объяснения и поднимаю на них биллиардный кий.
– Ах, ведь это друг детства, родственник, – возражает Мария. – Не будь смешным! И вообще в России целуются очень охотно, а мы русские подданные!
– Это ложь! – кричит один из приятелей. – Они не родственники, это ложь!
Я готов убить ее, и только мысль лишить детей и отца и матери удерживает меня.
Оставшись наедине с Марией, я набрасываюсь на нее:
– Девка!
– За что?
– Ты ведешь себя, как проститутка!
– Ты ревнуешь!
– Конечно; я берегу свою честь, достоинство семьи, имя моей жены, будущее моих детей! А ты своим дурным поведением добилась того, что мы изгнаны из общества порядочных женщин! Позволять обнимать себя постороннему мужчине! Ты окончательно помешалась, ты ничего не видишь, не слышишь и отбросила всякое сознание долга. Я отправлю тебя в сумасшедший дом, если ты не исправишься, и я запрещаю тебе видеться с твоими подругами. Разве фрекен 2 не объявила тебе и мне, когда была по обыкновению пьяна, что на родине ее приговорили бы к ссылке?
– Но ведь ты не признаешь никаких пороков!
– Если эти девицы развлекаются друг с другом, это меня не касается, потому что не влечет никаких последствий для моей семьи. Но с той минуты, как эти особые обстоятельства, назови их так, затрагивают нас, это является уже вредным поступком. Для меня, как философа, не существует никаких пороков, кроме как в смысле телесных или физических недостатков. И теперь, когда в Париже палата депутатов дебатирует вопрос о противоестественных пороках, все выдающиеся медики сходятся на том, что закон не должен вмешиваться в это дело, кроме тех случаев, когда этим серьезно затрагиваются интересы граждан.
Я с таким же успехом мог проповедовать перед рыбами, как развивать свою философию перед этой женщиной, которая следует только своим животным инстинктам.
Но так как я хотел знать все относительно распущенных слухов, то написал в Париж одному преданному другу, прося его сказать мне правду. Он откровенно сообщил мне, что по твердому убеждению моих соотечественников жена моя предается недозволенной любви и что обе датчанки, ее подруги, известны в Париже как трибады и посещают кафе, где процветает лесбийская любовь.
Та к как в пансионе мы задолжали, а средств больше не хватало, то не было никакой возможности бежать. К нашему счастью датчанки перевезли к себе из деревни одну прелестную молодую девушку и навлекли на себя этим ненависть всей деревни, так что принуждены были уехать. Я не хотел резко обрывать знакомство, длившееся восемь месяцев, а так как барышни были из хорошей семьи, довольно воспитаны и сочувствовали моим страданиям, то я решил подготовить им почетное отступление и поэтому устроил прощальный обед в мастерской одного молодого художника.
За десертом, когда все уже опьянели, Мария поднимается, уже не в силах владеть собой, и со стаканом в руках поет прощальную песнь, сочиненную ею самой на известный мотив песни Миньоны.
Она пела страстно и искренно, ее большие, миндалевидные глаза были затуманены слезами и отражали пламя свечей, она широко раскрыла свое сердце, и я, даже я был захвачен ею. Ее наивность, ее трогательная искренность отгоняла все нечистые подозрения; женщина воспевала женщину! И странно, ни в выражениях ее, ни в приемах не было ничего мужественного, нет, это была любящая, нежная, таинственная, загадочная, неуловимая женщина. А предмет этой любви? Странное существо русского типа, мужественное лицо с крючковатым длинным носом, толстым подбородком и желтыми глазами, со щеками, распухшими от пьянства, с плоской грудью, крючковатыми пальцами – словом отвратительное существо, какое только можно вообразить себе, которое оттолкнул бы даже конюх.
Кончив песнь, Мария садится рядом с уродиной, которая встает и берет Марию за голову; широко раскрыв рот, она захватывает обе губы Марии и втягивает их в свою отвратительную пасть. Это уже совершенно плотская любовь, говорю я себе, чокаюсь с русской и окончательно напаиваю ее, так что она, в конце концов, падает на колени, смотрит на меня блуждающими глазами и, прислонясь, к стене, хохочет, как безумная.
Я еще никогда не встречал такого безобразия в образе человека, и мои взгляды на женскую эмансипацию принимают на будущее время определенную форму.
После скандала на улице, когда художница, сидя на камне, дико выла, празднество кончилось, и на следующий день подруги исчезли.
Мария переживает ужасный кризис, и мне становится ее жаль. Ее охватывает невыразимая тоска по подруге, она ужасно страдает и представляет из себя зрелище несчастно влюбленной. Она ходит одна гулять в лес, поет любовные романсы, отыскивает места, где бывала ее подруга, – одним словом проявляет все симптомы глубоко раненного сердца, и я начинаю, наконец, бояться за ее рассудок. Она несчастна, и мне никак не удается отвлечь ее мысли на другое. Она отклоняет мои ласки и отталкивает меня, когда я хочу поцеловать ее, и я начинаю смертельно ненавидеть эту подругу, укравшую у меня любовь жены.
Мария нисколько не старается скрывать причину своего горя и оповещает весь мир о своих терзаниях и любовной тоске. Это положительно невероятно.
Во время этой горестной разлуки подруги ведут горячую переписку, и однажды в бешенстве от моего вынужденного вдовства я перехватываю письмо уехавшей подруги. Настоящее любовное послание! Моя белая курочка, моя кошечка, умная Мария с нежными, благородными чувствами и рядом с ней грубый муж, дурак, полоумный! А затем попытки увлечь ее, склонить бежать! Я восстаю против совратительницы и однажды вечером, о, праведный Боже, при лунном свете происходит настоящий бой; она кусает мне руки, а я тащу ее на берег реки, чтобы утопить ее как кошку, и только мысль о детях заставляет меня очнуться.
Я решаюсь на самоубийство, но перед смертью я хочу рассказать свою жизнь. Первая часть уже готова, когда в деревне распространяется новость, что датчанки на лето сняли квартиру.
Я сейчас же велю уложить чемоданы, и мы переезжаем в немецкую Швейцарию.
Веселое местечко Ааргау – это Аркадия, где почтмейстер сам водит стада на пастбища, бургомистр правит единственным в городе дилижансом, где молодые девушки хотят выйти замуж девственными, где парни стреляют в цель и бьют в барабан, это сказочная страна; страна светлого пива и соленых колбас, родина игры в кегли, Габсбургов и Вильгельма Телля, народных праздников, простых сердечных песен, пасторш и душевных идиллий.
Воспаленный мозг снова успокаивается, я воскресаю, а Мария, утомленная борьбой, замыкается в полнейшее равнодушие. Игра в шашки вводится в наш дом в виде громоотвода, опасные разговоры заменяются постукиванием шашек, а славное, успокаивающее пиво сменяет абсент и возбуждающее вино.
Влияние окружающего начинает сказываться, и я не перестаю удивляться, что после стольких бурь жизнь опять проясняется и душа наша настолько эластична, что может выдержать столько потрясений; наступает полное забвение прошлого, и в мечтах я воображаю себя счастливейшим супругом вернейшей из жен.
У Марии нет ни знакомых, ни подруг, и она обращается к своим материнским обязанностям; дети носят теперь платья, скроенные и сшитые их матерью, и она не устает заниматься с ними все время. Но она начинает как-то слабеть, прежнее веселое настроение исчезает, наступает время зрелого возраста. Какое горе, когда у нее выпадает первый зуб! Бедная Мария! Она плакала, прижимала меня к себе и умоляла не лишать ее моей любви. Ей уже тридцать семь лет, волосы редеют, грудь опускается, как волны после бури, лестницы становятся слишком высоки для ее маленьких ножек, и легкие тяжело дышат при малейшем напряжении. И при этом я люблю ее еще сильнее, потому что теперь она всецело принадлежит детям и мне, хотя я и вижу перед собой расцвет моей второй весны, мои силы крепнут, здоровье поправляется. И вот, наконец, она принадлежит исключительно мне; охраняемая от искушений, она состарится под моей охраной и затем посвятит всю свою жизнь детям.
Признаки ее выздоровления проявляются самым трогательным образом, и, сознавая опасность быть женой молодого тридцативосьмилетнего мужчины, она оказывает мне честь, ревнуя меня, она начинает обращать больше внимания на свою наружность и не забывает являться настоящей женщиной при моих ночных посещениях.
Принимая во внимание мою чисто моногамическую натуру, ей не грозит никакой опасности, но вместо того, чтобы злоупотреблять моим положением, я делаю все возможное, чтобы избавить ее от ужаснейших страданий ревности, успокаивая ее проявлениями моей обновленной любви.
Осенью я предпринимаю долгое трехнедельное путешествие. Мария все еще упорно считает меня больным и старается отговорить меня от такого опасного намерения:
– Это может убить тебя, мой милый!
– Ну, это мы еще посмотрим.
Путешествие стало для меня вопросом чести, этот геройский поступок должен пробудить ее любовь ко мне как к мужу.
Я возвращаюсь укрепленный невероятными усилиями, загорелый, сильный и цветущий. Она смотрит на меня восхищенно и вызывающе; но на ее лице замечается легкое разочарование. Я обращаюсь с ней, как с возлюбленной и женой, я обнимаю ее за талию и пользуюсь своими правами мужа, хотя и проехал безостановочно сорок часов. Она еще не знает, как ей следует отнестись к этому; она изумлена, боится выдать свои настоящие чувства, и, может быть, ее пугает, что в муже может проснуться требовательный мужчина. Собравшись с мыслями, я замечаю какую – то перемену во внешности Марии; присмотревшись, я вижу, что она вставила себе фальшивый зуб, что делает ее моложе, а некоторые мелочи в туалете указывают на преднамеренное кокетство; продолжая свои наблюдения, я наталкиваюсь на чужую девочку лет четырнадцати, с которой у Марии завязалась тесная дружба. Они целуются, вместе гуляют, купаются, и я вижу, что нам необходимо уехать.
Мы переезжаем в немецкий пансион на Фирвальштедтское озеро.
Тут происходит новая история и наиболее опасная.
В том же доме живет некий лейтенант. Мария ухаживает за ним, они играют в кегли и гуляют в саду в то время, как я работаю.
За табльдотом мне начинает казаться, что они обмениваются нежными взглядами, не разговаривая между собой. Говоря откровенно, мне кажется, что своими взглядами они выражают свою любовь. Я решаюсь сейчас же поймать ее, я наклоняюсь вперед и заглядываю ей в лицо. Застигнутая врасплох, она скользит взглядом по виску лейтенанта и переводит его на стену, где висит плакат пивного завода. Смутившись, она произносит первое, что приходит ей в голову:
– Что это за завод?
– Ты перемигивалась с лейтенантом, – отвечаю я.
Она опускает голову, как лошадь, затянутая на мундштуке, и сердито молчит.
Однажды вечером, ссылаясь на усталость, она прощается со мной и уходит к себе в комнату. Я тоже ложусь и читаю, когда вдруг слышу, как Мария поет внизу в салоне, где стоит пианино.
Я встаю и приказываю горничной позвать жену.
– Скажите моей жене, чтобы она сейчас же шла сюда, или я сойду вниз и ударю ее при всех!
Мария сейчас же приходит, красная от стыда; с невинной миной она спрашивает меня о причине такого странного приказания, запрещающего ей быть в обществе, среди которого были и дамы.
– Меня возмущает не это, а твои хитрости, ты заставляешь меня уйти из салона, чтобы оставаться там одной.
– Ну, хорошо, если ты так хочешь, я пойду спать.
Какая невинность, какое внезапное послушание! Что же произошло?
За осенью следует снежная, пасмурная, унылая зима. Мы остаемся последними в этом скромном пансионе. По случаю холода мы обедаем в большой, пустынной зале ресторана. Однажды утром какой-то человек крепкого телосложения, с виду лакей, довольно красивый для своего звания, присаживается за стол выпить стакан вина.
Мария, следуя своей необузданности, устремляет пристальный взгляд на посетителя, следит за линиями его тела и погружается в задумчивость. Посетитель уходит, по-видимому несколько смущенный таким почетным вниманием.
– Какой красавец! – восклицает Мария, обращаясь к хозяину.
– Это мой бывший портье, – отвечает он.
– Правда? У него такая изящная внешность, что редко встречается в его звании. Он положительно красавец!
И к изумлению хозяина она начинает распространяться о подробностях мужской красоты.
На следующий день, когда мы выходим в зал, портье уже сидит на своем месте. Он принарядился, надел праздничное платье, тщательно причесал волосы и бороду, и имеет вид, словно уже знает о своей победе. Нахал кланяется нам и, получив в ответ грациозный поклон моей супруги, усаживается с сознанием своей красоты.
Это великолепно!
На следующий день он снова является с намерением познакомиться. С истинно лакейской любезностью он заводит разговор с моей женой, пересыпая его комплиментами, какие можно слышать только у ворот; он обращается прямо к моей жене, не прибегая к обычному приему познакомиться сначала с мужем.
Это положительно невероятно!