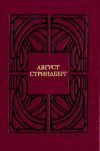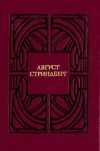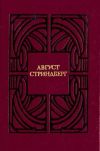Текст книги "Исповедь глупца"

Автор книги: Август Стриндберг
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Бывают минуты, когда меня влечет к уличным женщинам; но моей моногамической природе противна такая замена, и в сущности говоря, как ни несовершенна наша любовь, она доставляет нам духовные радости, может быть, более продолжительные, а неутоленный, неугасимый пыл свидетельствует о продолжительности нашей любви.
* * *
Первого мая подписаны все бумаги, отъезд назначен на третье. Она приходит ко мне и садится ко мне на колени.
– Вот я, – кричит она, – бери меня!
Так как мы никогда не говорили о свадьбе, то я не совсем понимаю, о чем она говорит. Мне кажется, в ее положении более удобным переехать на другую квартиру. И вот мы сидим в моей каморке задумчивые и печальные. Теперь, когда я знаю, что все дозволено, искушение слабеет. Она упрекает меня в холодности, и я спешу доказать ей противное. Теперь она обвиняет меня в чувственности. Она требует поклонения, фимиама и молитв.
Затем следует дикая вспышка, и в припадке истерии она заявляет, что я ее больше не люблю. Уже начинается! бесконечные уговоры и лесть, наконец, образумливают ее; но теперь она снова усаживается за стол, приведя меня в полное отчаяние. Теперь она меня любит. Чем униженнее она видит меня, на коленях, маленьким и ничтожным, тем сильнее она восхищается мной. Она не хочет меня мужественным и сильным, и, чтобы заслужить ее любовь, я становлюсь жалким и несчастным. Она успокаивается, разыгрывает из себя нежную мать и утешает меня.
Мы ужинаем у меня; она накрывает на стол и подает кушанье. Потом я хочу воспользоваться своими правами любовника, диван обращается в кровать, и я раздеваю ее.
Тут снова просыпается любовь. Девственница, юная девушка принадлежит мне! Какой нежной и тонкой становится чувственность в отношении женщины, которую любишь. К этому духовному единению не примешивается ничего животного, и нельзя сказать, где оно начинается и где кончается.
Успокоенная наблюдениями, которые она производит только теперь, она всецело отдается мне и испытывает полнейшее удовлетворение; она счастлива и благодарна, сияет красотой, а глаза ее лучатся от блаженства. Моя жалкая мансарда превращается в храм, в сверкающий дворец; я зажигаю сломанную люстру, рабочую лампу, свечи, чтобы осветить блаженство и радость жизни, единственное, для чего нам стоит жить.
И эти опьяняющие моменты удовлетворенной любви руководят нами на тернистом пути скорби, это – воспоминания тех радостей, что хотела омрачить нам зависть; тем сильнее и продолжительнее будет чистая любовь.
– Не говори ничего о страданиях любви, – говорю я ей. – Преклонись перед откровенной природой, чти Бога, который заставляет нас быть счастливыми даже против нашей воли.
Она молчит, потому что она счастлива. Возбуждение утихает, лицо оживляется и наполняется тепло пульсирующей кровью при бурных объятиях: влажные от наслаждения глаза отражают пламя свечи, окраска сетчатой оболочки выделяется резче, как у птиц в период любви. Она кажется шестнадцатилетней девушкой – так нежны и чисты ее формы.
Ее маленькая запавшая в подушки головка с растрепавшимися волосами кажется головкой ребенка. Ее маленькое тело, скорее стройное, чем худое, лежит полуприкрытое батистовой рубашкой, похожей на греческий хитон, которая бесчисленными складками обтягивает бедра, скрывая то, что должно быть скрыто, но обнажая колени, где соединяется столько прелестных мускулов, связок и жил, образуя путаницу линий как на жемчужной раковине; а сквозь кружева, покрывающие грудь как решеткой, видны две козочки с розоватыми мордочками, и плечи, словно выточенные из слоновой кости.
Вот лежит оно, мое божество; она замечает, что я любуюсь ею, потягивается, потирает глаза, искоса бросая на меня полные любви взгляды, полустыдливо-полувызывающе.
Как целомудренна в своей наготе любимая женщина, в самозабвении отдающаяся любовнику! А мужчина, превосходящий по уму женщину, счастлив только тогда, когда соединяется с существом, равным ему. Мои прежние любовные похождения, мое общение с уличными женщинами представляется мне теперь животным развратом, регрессом, вырождением. Разве вырождение – белая кожа, совершенные по форме ноги с розоватыми ноготками, ровными как клавиши пианино, нежная рука? Взгляните на это дикое, неукротимое существо, на блестящие волосы, тонкие руки, недостаток мускулов и множество нервов! Красота женщины – это совокупность качеств, которые достойны быть приведены в гармонию с мужчиной, который сумеет оценить их. Муж не умел ценить этой женщины, она перестала ему нравиться и с тех пор перестала принадлежать ему. Ее красота не была ему больше доступна, и на мне лежала задача заставить распуститься этот цветок, видимый только для избранных.
Какое богатое наслаждение в обладании возлюбленной! Это подобно выполнению долга и должно бы быть преступлением! Сладкое преступление, дивная кража, божественная бесчестность!
Бьет полночь. В казармах сменяется караул. Я иду провожать ее домой.
Во время длинного пути я высказываю ей новые надежды, нелепые планы, зародившиеся в наших горячих объятиях; она прижимается ко мне, как если бы это прикосновение укрепляло ее, и я возвращаю ей то, что получаю от нее. Подойдя к калитке, она вспоминает, что забыла ключ. Как это неприятно! Но, желая показать ей свою храбрость, я перелезаю через высокую калитку, спрыгиваю одним прыжком на двор и стучу в дверь, готовый к бурной встрече с бароном. Моя робкая душа жаждет ссоры с бароном на глазах возлюбленной; таким образом возлюбленный попадает в герои! На счастье вниз спускается служанка и отпирает дверь; мы прощаемся спокойно и холодно под презрительным взглядом служанки, ничего не отвечающей, когда мы говорим ей «добрый вечер».
* * *
Теперь она убеждена в моей любви и злоупотребляет ею. Сегодня она была у меня. Сначала она восхваляет своего бывшего мужа. Глубоко огорченный отъездом кузины, он сдался на просьбы баронессы и обещал проводить ее на вокзал, где мы оба должны присутствовать, чтобы не придать ее отъезду вида поспешного бегства.
К несчастью, барон, уже переставший сердиться на меня, дал уговорить себя и примет меня сегодня вечером, а чтобы заставить замолчать сплетни, он согласился на этих же днях показаться со мной на улице.
Как ни восхищался я благородством этого наивного, прямодушного человека, но сильно восстал против этого плана.
– Я должен нанести ему это оскорбление? Никогда, – отвечал я.
– Но раз дело идет о моем ребенке, – возразила она.
– Но, дорогая, его честь тоже чего-нибудь да стоит!
Честь других была для нее безразлична. А я был просто фантазер!
– Но это уже слишком! Ты толкаешь меня в пропасть, ты позоришь всех нас! Это неслыханно, это бестактно!
А она начинает плакать. Слезы делают ее еще упорнее, и после целого часа рыданий и упреков я обещаю ей сделать все, что она захочет, я бешусь на этот деспотизм и проклинаю эти кристальные капли, еще более усиливающие власть ее чарующих глаз.
Положительно она сильнее нас обоих и водит нас за нос к нашему позору! Чего она хочет добиться этим примирением? Она боится, что между соперниками разразится борьба не на живот, а на смерть, и благодаря этой борьбе возникнут разные нежелательные разоблачения.
Какое мученье создает она мне, заставляя меня идти в этот опустевший дом! Эта ужасная эгоистка не знает совершенно те жертвы, которые ей приносят. Она взяла с меня клятву, что я буду опровергать все сплетни о кузине и буду доказывать невинность ее поведения. С тяжелым сердцем и подгибающимися коленями отправляюсь я на это последнее свидание. В саду цветут вишни, благоухают нарциссы. Кустарник, возле которого мне явилось ее волшебное видение, стоит весь в зелени, грядки выделяются в траве как могилы; мысленно я вижу, как покинутое дитя блуждает тут по саду с служанкой и учит уроки; девочка будет расти, развиваться и в один прекрасный день узнает, что мать бросила ее!
Я вхожу по лестнице мрачного дома, стоящего на краю песчаного обрыва, и во мне просыпаются грустные воспоминания юности. Дружба, родство, любовь – все прошло здесь, а теперь и нарушение брака, каково бы оно ни было, осквернило порог этого дома. Но кто виноват?
Баронесса отворяет мне дверь и целует меня тайком за дверями гостиной. В это мгновенье я ненавижу ее и невольно отталкиваю ее от себя. Это напоминает мне приемы прислуги в сенях, и сердце мое сжимается! За дверями! Распутная женщина, ни гордости, ни достоинства!
Она делает вид, что принимает это за робость, и просит меня войти в гостиную, как раз в тот момент, когда я ясно сознаю всю унизительность моего положения и решаю вернуться назад. Но она удерживает меня одним взглядом и порабощает; бессильный перед ее решимостью, я сдаюсь.
В гостиной все указывает на разрушение семьи; кругом на мебели лежат белье, платье, нижние юбки, принадлежности туалета; на пианино кружевные рубашки, так хорошо мне знакомые; на письменном столе целая груда панталон; чулки, еще недавно возбуждавшие мой восторг, теперь вызывают во мне отвращение! А она ходит среди всего этого, подходит то к тому, то к другому, складывает, пересчитывает, без стыда и совести.
Неужели я так испортил ее за это короткое время, спрашиваю я себя, глядя на эту выставку интимных вещей порядочной женщины.
Она оглядывает туалеты и откладывает в сторону то, что требует починки.
Мне кажется, словно я осужден присутствовать при собственном обезглавливании; горькое чувство поднимается во мне. Но она не обращает внимания, прислушивается одним ухом к моей болтовне и ждет барона, который что-то пишет, запершись в столовой.
Наконец, дверь отворяется; я вздрагиваю; мое волнение принимает совсем другую форму при виде ребенка, который пришел спросить о причине всего этого беспорядка.
В сопровождении пуделя своей мамы она подходит ко мне, чтобы я, как и раньше, поцеловал ее. Я краснею, сержусь и дрожащим голосом упрекаю мать.
– Вы могли бы, по крайней мере, избавить меня от этого мученья.
Она меня не понимает.
– Мама уезжает, деточка, но она скоро вернется и привезет тебе игрушек.
Пудель помахивает мне хвостом. И он тоже? Наконец, выходит барон.
У него утомленный, разбитый вид; он дружески здоровается со мной, пожимает мне руку. Но он не в силах произнести ни слова. И я тоже почтительно молчу перед лицом этого непоправимого горя. Он выходит.
Темнеет; служанка входит зажечь лампы, не здороваясь со мной. Подают ужин, и я собираюсь уходить. Но барон, поддерживаемый женой, так сердечно и трогательно просит меня остаться, что я сдаюсь.
Мы снова садимся за стол втроем. Это торжественная, незабвенная минута. Мы говорим обо всем, со слезами на глазах спрашиваем себя: – кто виноват? Никто, – судьба, ряд случайностей. Мы пожимаем друг другу руки, чокаемся, заключаем дружеский союз, все, как раньше. Одна только баронесса сохраняет свое настроение, она набрасывает план завтрашнего дня, встречу на вокзале, прогулку по городу, и мы подчиняемся всем ее распоряжениям. Наконец, я поднимаюсь. Барон ведет нас в гостиную, соединяет наши руки и говорит глухим голосом:
– Будь ее другом, моя роль кончена. Охраняй ее, защищай против злого света, развивай ее талант, ты лучше можешь сделать это, чем я, простой солдат. Бог да сохранит вас на вашем пути!
После этого он выходит, запирает за собой дверь и оставляет нас одних.
Был ли он искренен в эту минуту? Мне так казалось, а теперь я положительно убежден в этом. Своим чувствительным сердцем – если вообще оно у него было – он любил нас обоих и не хотел бы видеть мать своего ребенка в руках врага.
Возможно, что позднее, под дурным влиянием, он изменился, и теперь обманывал нас. Все это не подходило к его прежнему характеру; но после несчастья каждый стремится снять с себя подозрение в том, что он был обманутым.
* * *
В шесть часов вечера я иду на центральный вокзал. Поезд в Копенгаген отходит в 6 часов 15 минут, а баронессы и барона еще не видно.
Все представляется мне последним актом драмы, и я с дикой радостью жду развязки. Еще четверть часа, и наступит покой. Мои расстроенные нервы жаждут успокоения, и эта ночь должна вернуть мне нервные силы, затраченные на любовь к опытной женщине.
Наконец, она подъезжает в экипаже – как всегда с опозданием.
Она как безумная быстро бежит мне навстречу.
– Он не сдержал слова, изменник! Он не приедет! Она говорит так громко, что обращает на себя внимание проходящей мимо публики.
Это очень прискорбно, но в душе я уважаю его за это и из чувства противоречия отвечаю:
– Он поступил правильно и как нельзя более благоразумно.
– Купи скорее билеты до Копенгагена, – приказывает она, – иначе я опоздаю.
– Нет, – отвечаю я, – если я поеду тебя провожать, это будет иметь вид похищения, и завтра весь город будет говорить об этом.
– Что мне за дело! Иди скорее!
– Нет, я не хочу!
В эту минуту меня охватывает глубокая жалость, положение невыносимо, это грозит ссорой – ссорой между любящими.
Она схватывает меня за руки, зачаровывает взглядом, обезоруживает меня. Волшебница бросает меня на землю, связывает мою волю, и я сдаюсь.
– Но только до Катариненгольма, – умоляю я.
– Хорошо!
Она поспешно сдает багаж.
Все потеряно, даже честь, и меня ждет мучительная ночь.
Поезд трогается. Мы одни в купе первого класса. Отсутствие барона гнетет нас. Это совершенно непредвиденная опасность и дурное предзнаменование.
Томительное молчание царит в вагоне, и мы ждем, кто заговорит первый. Наконец, она не выдерживает:
– Ты меня больше не любишь!
– Может быть, – отвечаю я, – измученный историями всего этого месяца.
– А я всем пожертвовала для тебя!
Вот опять начинаются упреки!
– Твоей любви, а не мне! Впрочем, я приношу тебе всю мою жизнь. Ты сердишься на Густава; свали свой гнев на мою голову и успокойся!
Она плачет, плачет! Вот это свадебная поездка! Нервы мои закалились, я надеваю свой панцирь. Я делаюсь бесчувственным, суровым, непроницаемым.
– Оставь в стороне свои чувства! Сегодня тебе нужно все благоразумие! Выплачь все свои слезы и потом успокойся! Ты сильная, и я поклонялся тебе как королеве, как властительнице, я подчинялся тебе, так как считал себя более слабым. Не доводи же до того, чтобы я начал презирать тебя! Не сваливай всю вину на меня одного! Вчера вечером я поразился великой мудростью Густава, он понял, что важнейшие события в жизни невозможно сводить к одному рычагу. Кто несет на себе вину? Ты, я, он, она, грозящее разорение, твоя страсть к театру, женские болезни, наследство твоего дедушки, который трижды разводился, ненависть к семье твоей матери, передавшей тебе слабость характера, бездеятельность твоего мужа, которому его служба оставляет слишком много свободного времени, мои низменные, мещанские взгляды, случайная связь с финкой, столкнувшая меня с тобой, бесчисленное множество внутренних побуждений, из которых мы сознаем только очень немногие. Не опускайся до народа, который завтра же двумя словами осудит тебя. Не будь так наивна, чтобы верить, что ты разрешаешь сложный вопрос, равнодушно относясь и к измене мужа и к обольстителю! Разве я соблазнял тебя? Будь искренна сама с собой и со мной, когда мы одни, без свидетелей.
Нет, она не хочет быть искренней, да и не может, потому что это противно женской природе. Она чувствует себя соучастницей, терзается угрызениями совести и хочет избавиться от них, сваливая всю вину на меня.
Я оставляю ее в покое и погружаюсь в упорное молчание. Наступает ночь; я опускаю окно и, облокотившись на дверцу, слежу за темными рядами елей, из-за которых медленно поднимается луна. Затем мелькает озеро, обсаженное березами, а дальше ручей и ольхи по берегам. Иногда меня охватывает дикое желание броситься из вагона, освободиться от этой тюрьмы, где меня караулит враг, где волшебница держит меня в плену. Великая ответственность за будущее давит меня как кошмар, на мне лежат заботы о жизни этой чужой женщины, ее будущих детей, ее матери, тетки, целой семьи на вечные времена. Я должен буду заниматься ее театральной карьерой, должен буду нести на себе все ее страдания, разочарования, неудачи, и наступит день, когда она выбросит меня на улицу, как выжатый лимон, меня, всю мою жизнь, мой мозг, мою кровь в отплату за любовь, которую я даю ей и она принимает и которую, по ее мнению, она приносит мне в жертву! Галлюцинация влюбленного, половой гипноз!
Она упорно молчит до десяти часов; еще один час, и мы расстанемся.
Теперь она просит о прощенье и вытягивает ноги на противоположный диван, притворяясь внезапно усталой. До сих пор я оставался спокойным и сильным, несмотря на ее нежные взгляды, ее слезы, ее хитросплетенную логику, но при виде ее обожаемых ножек, маленького кончика ее башмачка, я слабею.
На колени, Самсон! Положи голову ей на колени, прижмись к ее бедрам, проси у нее прощенья за свои жестокие слова – которых она не поняла, – отрицай свой разум, откажись от своей веры и обожай ее! Ты раб! Ты теряешься перед ее белым чулком, вид которого отнимает у тебя силы поднять весь мир на свои плечи! А она, она любит тебя только потому, что ты лежишь во прахе, она подкупает тебя минутным опьянением, слишком дешевым для нее самой, ничего тебе не дающим, но высасывающим у тебя капли твоей крови!
Паровоз свистит, мы приближаемся к последней станции. Она матерински целует меня, крестит, хотя она протестантка, поручает меня Богу, просит меня заботиться о себе и не грустить.
Поезд исчезает во мраке, и я почти задыхаюсь в волнах каменноугольного дыма.
Наконец я вдыхаю свежий ночной воздух, воздух свободы. Но только на минуту.
В деревенской гостинице я падаю, изнемогая от тоски. Я люблю ее, люблю такой, какой она явилась мне в минуту разлуки; и во мне встают воспоминания о первых днях нашей связи, как она, жена и мать в одно и то же время, ласково и нежно ласкала меня, как ребенка.
И я люблю ее и горячо жажду ее как женщину.
Может быть, это противоестественное стремление? Или я жертва игры природы? Моя любовь порочна, потому что я жажду обладать ею, моей собственной матерью? Моя любовь – это бессознательное кровосмешение сердца?
Я спрашиваю письменных принадлежностей и пишу ей письмо, в котором поручаю Богу заботу об ее благополучии.
Первый этап падения мужчины достигнут, остальные сами собой последуют за ним до отупения, до границы безумия.
II
На следующий день весь город знал о похищении баронессы чиновником королевской библиотеки X. Я предвидел это и боялся за нее; я старался спасти ее дурную репутацию, но в припадке малодушие все поставил на карту. Она все погубила, а я должен был нести последствия, должен был улаживать, может быть, грозные препятствия к ее сценической карьере, потому что для нее существовала только одна сцена, а свободные нравы были плохой рекомендацией для ангажемента в королевский театр.
Чтобы доказать свое алиби, я сейчас же по возвращении утром нанес визит заведующему библиотекой, которого болезнь удерживала дома. Затем я показался на главных улицах и в обычный час был уже на службе. Вечером я отправился в клуб журналистов, рассказывал там о разводе баронессы, объясняя его исключительно стремлением к сцене, доказывая, что разрыв этот совершенно мирный и происходит с полного согласия обоих супругов, которые расстаются, только уступая общественным предрассудкам.
Если бы я предвидел последствия, какие принесла эта речь о невинности баронессы, я все равно поступил бы точно так же.
Все газеты поместили этот случай в отделе «Разных известей», но публика не хотела верить в эту любовь к искусству, которую она – по крайней мере у актеров – ценит не очень-то высоко. Женщины особенно не шли на эту удочку – покинутый ребенок являлся для них отягчающим вину обстоятельством.
Между тем я получаю от нее письмо из Копенгагена! Это сплошной вопль скорби! Подавленная бременем угрызений совести и тоской по ребенку, она приказывает мне немедленно приехать к ней; родные ее мучат и заодно с бароном, как она думает, не выдают ей бумаг, необходимых для развода.
Я решительно отказываюсь ехать и в своем гневе пишу угрожающее письмо барону; он отвечает мне заносчиво, и между нами наступает полный разрыв.
Одна телеграмма, две телеграммы, и мир восстановлен; бумаги отыскались, и можно начать процесс.
Чтобы рассеять мрачное настроение, я пишу ей по вечерам и снабжаю ее необходимыми указаниями; я советую ей работать, изучать ее искусство, посещать театры, а чтобы доставить ей заработок, рекомендую ей писать корреспонденции, которые я брался устроить в одной распространенной газете.
Никакого ответа, и я имею все основания думать, что мои достойные советы плохо воспринимаются этим независимым умом.
Прошла целая неделя забот, беспокойства и работы, когда однажды утром мне подают в постель письмо из Копенгагена.
Она весела и спокойна; она не может скрыть некоторой гордости по поводу ссоры между мной и бароном, а так как мы оба послали ей наши письма, то ей легко судить об этом. Она находит стиль в его письме и восхищается моим мужеством.
«Как жаль, – прибавляет она, – что два таких славных человека, не могут оставаться друзьями!» Затем она рассказывает мне о своих развлечениях. Она веселится, посещает клуб начинающих художников, что мне не особенно нравится. В сопровождении молодых людей, которые ухаживают за ней, она посещает театр-варьете, пленила одного юного музыканта, порвавшего с семьей ради искусства, – трогательная аналогия с ее судьбой Тут же приложена подробная биография юного мученика и просьба не ревновать!
Что это? – думаю я, смущенный насмешливым и в то же время сердечным тоном этого письма, которое, как мне кажется, было написано в несколько приподнятом настроении!
Неужели эта холодная, сладострастная мадонна принадлежит к классу прирожденных проституток, неужели она кокетка?
Я сейчас же отвечаю ей выговором, колю правдой в глаза, называю ее мадам Бовари и настоятельно прошу очнуться от этого сна на краю бездны.
В ответ на это в доказательство своего высшего доверия она пересылает мне письма, полученные от юного энтузиаста. Любовные письма! Старая игра словами, дружба, невыразимая симпатия душ, целый репертуар обычных, использованных уже нами самими, фраз. Брат и сестра, материнские чувства, товарищи и другие нежные названия, за которыми прячутся любовники, чтобы, в конце концов, заключить игру животной страстью!
Этого не следовало думать! Одержимая, бессознательная грешница, ничему не научившаяся из ужасных часов последних двух месяцев, хотя сердца трех людей пылали на раскаленной печи! А я превращен в козла отпущения, ширму, чучело, я бегу сломя голову, чтобы расчистить жизненный путь для комедиантки, которая снова разрушит его.
Новое страдание! То, чему я поклонялся, ниспровергнуто в грязь!
А потом меня охватывает невыразимая жалость, я предугадываю будущую судьбу этой порочной женщины и клянусь снова возвысить ее, поддержать и спасти от неминуемого падения, если даже это будет мне стоить моих последних сил.
Ревность! Отвратительное слово, выдуманное женщиной, чтобы ввести в заблуждение мужчину, который обманут или готов стать таковым! Она злоупотребляет им; при первом выражении неудовольствия со стороны супруга она ослепляет его этим словом: ревность. Ревнивый муж, обманутый муж. И есть женщины, которые равняют ревнивого мужа с бессильным, так что, в конце концов, они закрывают глаза и становятся действительно бессильными перед такими упреками.
Через две недели она возвращается: прекрасная, посвежевшая, полная приятных воспоминаний, потому что она веселилась! Но в ее туалете я нахожу следы экстравагантности дурного тона. Прежде такая простая и изящная, что с нее брали пример, теперь она превратилась в даму, которой самой следует позаимствовать у других.
Встреча гораздо холоднее, чем можно было ожидать, и после тягостного молчания разражается гроза.
Опираясь на поклонение своего нового друга, она разыгрывает из себя неприступную, дразнит и вышучивает меня, и когда она кладет свое новое платье на мой истрепанный диван, она повторяет старую игру, и вся ненависть выливается в жгучем объятии; а остаток бешенства изливается во взаимных упреках. Утомленная моей неумеренной страстностью, которая не соответствует ее вялой природе, она начинает плакать.
– Как ты можешь думать, – восклицает она, – что я играю с этим юношей? Обещаю тебе никогда больше не писать ему, хотя он может за это упрекнуть меня в невежливости!
Невежливость! Это тоже одно из ее боевых словечек. Мужчина ухаживает за ней, заходит дальше, чем принято, она все спокойно принимает, боясь быть невежливой!
На мое несчастье, она купила себе новые башмаки, совсем крошечные, и я всецело отдаюсь на ее милость и гнев, я погиб! На ней черные чулки, обрисовывающие ее икры, а ее колени выделяются над ними белые, живые. Ее черные ноги, виднеющиеся из-под волн юбок, имеют в себе что-то дьявольское. Чтобы войти в эту область, где сочетаются небо и ад, я заключаю договор с дьяволом. Устав от вечной боязни, я лгу. После тщательных розысков в библиотеке я нашел секрет обманывать природу и предлагаю ей средство вполне безвредное; я говорю ей, что у меня органический недостаток, который если не совершенно исключает возможность иметь детей, то, во всяком случае, делает меня почти безопасным. В конце концов, я сам начинаю этому верить, и она предоставляет мне свободу действий, взваливая на меня всю ответственность.
В это же время она переезжает к матери и тетке, живущим на самой оживленной улице города во втором этаже. Баронесса под угрозой своих посещений ко мне заставляет меня приходить к ней, хотя совсем не весело проходить мимо двух старух, стоящих на часах и к тому же все время моего визита подслушивающих у дверей.
Теперь она начинает понимать, что она потеряла. Она, баронесса, замужняя женщина, хозяйка дома, снизошла на степень ребенка, живущего под надзором матери, запертого в одной комнате на положении инвалида. И целыми днями мать вспоминает, что она растила дочь для почетного положения, а дочь вспоминает тот счастливый час, когда пришел ее муж и освободил ее из материнской тюрьмы. А горькие ссоры по этому поводу, слезы и жесткие слова, которые я выслушиваю каждый вечер, когда я посещаю ее, посещаю в тюрьме, со свидетелями за дверью!
Родным надоедают эти тягостные посещения, и мы рискуем назначать свидания в общественном саду; но, подставляя себя под презрительные взгляды толпы, мы попадаем из огня в полымя.
Весеннее солнце, озаряющее нашу печаль, противно нам; мы стремимся к мраку, с нетерпением ждем зимы, чтобы скрыть свой позор; а близится лето с его длинными белыми ночами.
Все отстраняется от нас. Настроенная сплетнями, моя сестра начинает относиться к нам недружелюбно. На последнем вечере бывшая баронесса, чтобы подбодрить себя, начала пить; она выпила слишком много, начала говорить речи, курить и в конце концов заслужила себе порицание всех замужних женщин и презрение мужчин.
– Развратная женщина! – заявляет один женатый господин по секрету моему зятю, который спешит мне это передать.
Однажды в воскресенье вечером мы были приглашены к моей сестре; мы явились в назначенный час. Нас как громом поражают слова служанки, что господ нет дома, они приглашены в гости.
Это был апогей унижения. Мы провели весь вечер у меня в комнате, полные отчаяния, готовые дойти до самоубийства. Я спустил занавеси, чтобы скрыться от дневного света, и жду сумерек, чтобы проводить ее домой. Но солнце садится так поздно, а в восемь часов мы начинаем чувствовать голод. У меня нет денег, у нее тоже, и в доме у меня нет ни еды, ни питья. Нас охватывает предчувствие нужды, и я провожу ужаснейшие часы моей жизни. Упреки, холодные поцелуи, бесконечные слезы, угрызения совести, враждебность.
Я предлагаю ей идти ужинать к матери, но она не выносит солнечного света; кроме того, она не сумеет объяснить свое раннее возвращение домой, так как рассказала о приглашении моей сестры. С обеда, с двух часов, она ничего не ела, и печальная перспектива лечь голодной спать будит в ней животные инстинкты. Она выросла в богатом доме, привыкла к роскоши, не знает бедности, и сердце ее наполняется горечью. Мне голод давно знаком, еще с юных лет; но мне невыразимо тяжело видеть в таком положении любимую женщину. Я обыскиваю шкаф и ничего не нахожу. Я роюсь в ящиках письменного стола; наконец, среди разных сувениров, сухих цветов, розовых записочек и полинявших ленточек я нахожу две конфеты, сохраненные мною на память об одних поминках. Я предлагаю ей конфеты, завернутые в черные бумажки с серебряными полосками. Какое печальное угощенье, напоминающее собою катафалк!
Подавленный, в полном отчаянии я разражаюсь проклятиями против честных женщин, запирающих перед нами дверь, отталкивающих нас.
– За что эта ненависть и презрение? Разве мы совершили преступление, нарушили нравственность? Нет! Нам предстоит открытый, законный развод, удовлетворяющий все требования закона.
– Мы были слишком порядочны, – утешается она, – мир полон негодяев. Открытое бесстыдное нарушение брака терпится, а развод нет. Прекрасная нравственность!
Мы согласны в этом.
Но как бы то ни было, преступление установлено; оно грозит нам, и мы склоняемся под ударами судьбы.
Я кажусь себе уличным мальчишкой, разорившим птичье гнездо. Мать унесена, и птенчик лежит на земле и жалобно пищит, так как ему не хватает согревавшей его матери. А отец? В один воскресный вечер, как сегодняшний, отца оставили одного в его разоренном гнезде, где прежде собиралась вся семья: одного в гостиной, где смолкло фортепьяно, одного в столовой, где он одиноко вкушает свою пищу, одного в спальне…
– Нет, – прерываю я себя, – я имею полное основание думать, что он сидит, развалившись на диване у камергера, зятя кузины, и сытый и веселый пожимает руку своей Матильды, этого бедного, ослепленного ребенка, и передает ей невероятные истории о дурном поведении его недостойной супруги, не находившей никакого удовольствия в гаремной жизни. Охраняемые симпатией и уважением этого лицемерного мира, они кидают в нас первый камень!
После еще более глубокого рассмотрения этого вопроса я заявляю, что барон насмеялся над нами, что он нарочно освободился от жены, чтобы жениться на другой, которая противозаконно присвоит себе приданое.
Но она сердится!
– Не говори о нем дурно! Это моя вина!
– Почему не говорить о нем дурно? Разве его особа священна?
По-видимому, да, я заметил, что она всегда защищает его против моих нападок.
Связывают ли ее с бароном общие классовые интересы? Или в ее жизни есть тайны и секреты, благодаря которым барон может выступить ее опасным врагом? Одним словом, это несомненный факт, так же как ее неизменная нежность к барону, несмотря на его явную неверность ей.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.