Текст книги "Королева в раковине"
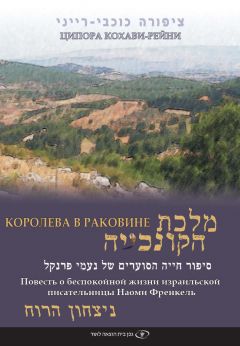
Автор книги: Ципора Кохави-Рейни
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
Бертель идет рядом с ним на встречу со своим кумиром. Но от чувства неполноценности ей трудно дышать. В молодежном движении не придают значения ее интеллекту. Израилю нужны сильные духом и телом репатрианты. Реувен счастливчик. Помогая садовнику на еврейском кладбище, он роет землю, удобряет, сажает цветы, готовясь к труду чернорабочего в кибуце. Бертель внутренне восстает против собственного, как ей кажется, бессилия и ничтожества. Реувен – весьма средний ученик в школе – избран во все комиссии молодежного движения, а она – лучшая ученица – всего-то избрана в редколлегию стенгазеты. Она развешивает по стенам статьи, написанные на иврите. Отбирает материалы на немецком языке о положении в стране. Вырезает политические обзоры из независимой газеты "Мир в полдень" или из коммунистической газеты "Красное знамя". Из газеты либералов – "Берлинский ежедневный листок" – ничего не берет, чтобы не сердить воспитанников – приверженцев социализма.
В центре сионистского движения ее ждет разочарование: Реха Приер уехала, и неизвестно, когда вернется.
Головокружение охватило Германию. Приближается день выборов – шестое ноября, и нацистская пропаганда делает успехи. Низкорослый, прихрамывающий на одну ногу, щуплый, черноволосый, с темной кожей Йозеф Геббельс творит чудеса, внедряя в души людей нацистскую идеологию. Он – архитектор фашистской пропаганды. Внешне не симпатичный и не впечатляющий, он невероятно хитер и изощрен. Он женат на красивой голубоглазой блондинке, типичной немке, внешне похожей на легендарную Брунгильду. Геббельс со своими помощниками и хорошо смазанной машиной пропаганды ведет красочную, эстетически искусную пропаганду нацистских идей.
В эти дни Бертель и ее товарищи потрясены тем, что увидели на театрализованном нацистском представлении во дворце спорта. Беседы в молодежном клубе не улучшили их настроение. Именно поэтому инструкторы поступили вопреки законам движения и вышли на огромную демонстрацию против нацистов, организованную коммунистами.
Но ничто не может затмить гипнотическое впечатление от массового нацистского выступления.
Каждую ночь всплывают в сознании Бертель детали феноменального шествия. В центре города раздавали прохожим листовки о выступлении Адольфа Гитлера во дворце спорта. Любопытство гнало воспитанников-сионистов вместе с толпами народа. По Потсдамской улице, в сторону Потсдамской площади в западном Берлине, скакала кавалькада конной полиции в строгом порядке, а оттесненные в сторону продавцы цветов, стояли вдоль тротуара. «Адольф выступит с речью, а ты без цветов?!» – выкрикивали они в сторону бесконечного людского потока, размахивая букетами. – «Для Адольфика! Для Адольфика!». Горячие сосиски, соленые огурцы, напитки продавались в невиданном количестве.
Яркими цветными плакатами был облеплен черный забор, окружающий дворец спорта. Они рекламировали будущие выступления чемпионов велосипедных гонок, чемпионов по боксу, хоккеистов, футболистов, артистов балета на льду, акробатов. Но этот вечер не был посвящен спортивным соревнованиям. В этот вечер ревели трубы, гремели барабаны, пылали огненные факелы, развевались красные флаги и флажки со знаками черной свастики в белых кругах. Истерические крики – организованные и спонтанные – возвестили о прибытии вождя – «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!», «Страна едина! Народ един!». Члены организации СС в коричневой форме, взявшись за руки, отделили цепью автомобиль фюрера от толпы, напирающей вдоль тротуара. Гитлер стоял в открытом автомобиле, и рука его была вздернута над бесчинствующей от прилива чувств толпой. Малыша в коричневой эсэсовской форме с букетом роз подвели к фюреру.
Бертель с товарищами также взялись за руки, но были проглочены бушующей толпой. Рабочие, безработные, хулиганы, люди высшего общества, промышленники и люди искусства, представители всех слоев общества пришли приветствовать идола. В этом бушующем человеческом море молодые сионисты чувствовали себя так, словно попали в иной мир, в иные времена. Фюрер и его телохранители – подразделение СС в черных мундирах, маршировали во главе колонны, за которыми шел строй солдат в коричневом. В слепящем свете прожекторов двигались они, – за рядом ряд – в едином ритме, в сторону трибуны, и у каждого на рукаве фосфорически сверкала на повязке свастика.
Организаторы церемонии орали: «Хайль Гитлер!». И масса людей в экстазе подхватывала вслед за ними этот клич. Фюрер поворачивал голову направо и налево. Лицо его было напряжено. Он был окружен подростками из гитлерюгенд, которые несли факелы.
«Фюрер приказывает – мы подчиняемся!» – со всех сторон вопили группы активистов и возбужденные до предела люди.
«Хайль Гитлер!» – Фюрер отдавал честь людям в форме, и каждый его шаг сопровождали звуки симфонии Рихарда Вагнера. Он поднялся на трибуну в багровых бликах огня, который взмывал из огромных медных чаш. Гитлер начал свою речь, и мгновенно на стадионе воцарилось молчание. Голос его восходил с широко распростертого поля, долетая до множества людей.
– Мы сильны, мы – народ воинов! – выкрикивал он короткие лающие фразы.
– Хайль! Хайль! Хайль! Да будет благословен наш фюрер!!! – отвечала толпа кричащим громкоговорителям. Фюрер патетически вещал о Боге, словно он плоть от плоти божественного духа, говорил о всемогуществе этого духа, и всем было ясно, что он говорил о себе. Он и есть сверхчеловек, человек-бог.
– Коммунистическая идеология – это козни евреев с целью овладеть миром!!! – он весь выкручивался, вздымал руки. – Или арийцы уничтожат евреев-марксистов, или марксизм уничтожит арийцев!
Молодые евреи стояли, замерев, словно околдованные этим представлением. Воспитанники "Ашомер Ацаир" были просто загипнотизированы. Слышали и не слышали, что всю тьму истории, все зло в этот мир принесли евреи, и что корнем всех зол человечества являются десять заповедей еврейской религии. Подстрекательские крики неслись предупреждением, что арийская раса подвергается опасности заражения кровью еврейского народа. Юные сионисты постепенно начали осторожно выбираться из толпы, подобно лунатикам. Они направлялись с Потсдамской площади в клуб, преследуемые пламенем факелов, ревом труб и боем барабанов, хриплыми подстрекательскими голосами, истекающими ядом ненависти.
Фрида была в панике. Уже было поздно, когда Бертель вошла в дом и поднялась по винтовой лестнице. Дрожь сотрясала все ее тело. Фрида зашла вслед за ней в ее комнату с компрессом в руках. Бертель сидела на кончике кровати и протянула к ней трясущиеся руки и ноги. Голоса массовой истерии, рев толпы, пламя факелов, бьющие в голову удары барабанов, визг труб, звериный экстаз потерявших человеческий облик людей, довели девочку до полной потери чувств.
Каждую ночь всё это взрывалось в ее мозгу, вырывало из сна. «Мы будем немилосердно преследовать их до могилы!» – выкрикивал фюрер, имея в виду три партии, которые нацисты собирались убрать с политической сцены. – «Будьте жестоки! Никакой жалости! Европа должна сотрястись от ужаса! Я уничтожу любого, кто встанет на моем пути!» Взгляд его гипнотизировал, угрозы, обвинения мешались с обещаниями. Толпа ловила, как манну небесную, его выкрики о том, что властвует только сила, и террор – самый эффективный политический инструмент.
Каждую ночь Бертель застывает от ужаса. Гитлер хочет вырастить белокурых бестий, молодежь, жестокую, как стадо зверей, чтобы держать в страхе весь мир. Он мечтает о расе завоевателей, чтобы подготовить их к тотальной войне.
Две недели подразделение не могло прийти в себя. Чтобы освободить воспитанников от этого наваждения, воспитатели нарушили запрет – не вмешиваться в политическую жизнь страны, и решили принять участие в массовой коммунистической демонстрации. Бертель так и не смогла вернуться к себе прежней. Голоса преследовали ее, она ощущала себя муравьем, которого легко раздавить. Только великая идея все еще сохраняла душу.
Шестое ноября. В доме ликование. Гитлер не получил большинство голосов, необходимых для того, чтобы стать будущим канцлером. Сестры-близнецы вернулись в кафе на улице Унтерденлинден, посещают вместе с Фердинандом и друзьями кабаре и подвалы развлечений на Фридрихштрассе или дворец "Бролина" в западном Берлине.
– Ну что, черный ворон, Гитлер сошел с трибуны! – длится бесконечный спор между дедом и Гейнцем.
Дед опирается на факты. 31 июля нацисты достигли вершины успеха, получив 37,3 процента голосов избирателей. Выборы 6 ноября доказывают, что он, дед, был прав, считая нацистскую партию фарсом. Теперь они получили 33,1 процент, и этот процент будет продолжать снижаться, вплоть до исчезновения. Гейнц упрямится. Потеря нацистов незначительна. На последних выборах они сохранили силу, как самая большая фракция в рейхстаге.
– Все это глупости, – близнецы поддерживают оптимизм деда, – Гитлер не может прийти к власти. Немцы – народ прогрессивный, – повторяют они слова своих друзей-христиан, немецкой элиты, с которой встречаются каждый вечер в театре, ночных клубах, на вечеринках.
По мнению сестричек, пропасть отделяет их товарищескую среду от истерии уличной толпы. Гейнц потрясен их легкомыслием. Руфь и Эльза звонили певице кабаре Марго и пригласили ее на вечеринку. Марго попросила их больше ей не звонить. Сестры спросили, что случилось, может быть, они чем-то обидели ее. Марго бросила трубку. На вечере в кабаре на Фридрихштрассе им стало известно, что Марго больше не выступает со своим любовником-евреем Аполло. Куплетист и певец арестован. Теперь Марго выступает в трактире нацистов, расположенном в центре улицы развлечений. В доме Френкелей неспокойно.
– Нацисты теряют влияние, черный ворон, – подтрунивают над Гейнцем сестры.
– Улица полна насилия, Фон Папен слаб. Боится нацистов. Не добивается выполнения приказа о смертной казни для террористов.
– Чего вы выглядите такими несчастными, – говорит вернувшаяся из подразделения Бертель.
Дед – весь клубок нервов, у Гейнца опавшее лицо. Сестра-сионистка повышает голос:
– Германия – не наша страна, и немцы меня не интересуют! Я еврейка.
Из обрывков разговоров в доме она понимает, насколько ухудшилось положение. Даже дед, гордый буржуа, не чурается сомнительных людей, говорить с которыми раньше считал ниже своего достоинства. В эти дни, когда голод гуляет по Берлину, дед сумел добиться заказа на литье головы великого поэта Гёте, и, таким образом, принес неплохие доходы своей литейной фабрике. При этом вполголоса признался, что если бы не ухудшающееся экономическое положение, он бы не пошел на эту сделку.
– Девочка, не говори глупостей, – вмешательство этой маленькой ребецен выводит деда из себя. – Ты родилась в Германии, воспитывалась на германской культуре, так не рассказывай сказки.
Дед не может терпеть преувеличений. Эта маленькая сионистка каждый раз приходит к нему с какой-нибудь сумасшедшей идеей. Объявляет, что "Кранцлер" – буржуазное кафе, и она не желает его посещать вместе с дедом и Бумбой. Теперь она отказывается от своей немецкой идентичности. Гейнц ее защищает:
– Дай ей высказать то, что она чувствует.
17 ноября. Спустя одиннадцать дней после выборов канцлер Фон-Папен, консерватор, верный армии и промышленным кругам, подает в отставку. "Правительство баронов", созданное им, держалось всего полгода. Гейнц в панике. Дед врывается в его комнату. Газета "Берлинский ежедневный листок" – "Берлинер Тагеблатт" – трясется в его руках и прыгает перед глазами. Привычку скрывать лицо за газетой во время полдневного отдыха он приобрел в молодости, когда ожидал встречи со специалистами, переходя из одной гильдии в другую. Фердинанд перенял эту привычку у деда. И Бумба носится с этажа на этаж, передавая газету то одному, то другому. Бертель же не покидает комнату Гейнца, приходит и садится ему на колени, успокаивая его. Чутье подсказывает ей, что дом в панике с того дня, как началась большая забастовка транспортников.
Гейнц ведет счет потерям, ущербу, который приносит забастовка, а дед выходит из себя. Напряжение ощущается во всем.
– Гитлер уже у власти, – поддерживает Бертель Гейнца. – Коммунистов это не волнует. Они считают, что народ убедится сам в том, что Гитлер не в силах править. И тогда они придут и возьмут власть в свои руки.
Члены Движения разочарованы сотрудничеством коммунистов и нацистов в организации забастовки. В эти дни Бертель с Реувеном толкутся в толпе, на перекрестке у площади Александерплац. Здесь можно увидеть, как идет забастовка. Кареты, розвальни, маленькие автомобили забили центральные улицы. В преддверии рождественских праздников бесконечные потоки людей заполонили центр столицы. Наряды полицейских и пикеты бастующих ходят по площади, расцвеченной гигантскими плакатами забастовщиков вперемежку с торговыми рекламами к Рождеству, портретами Гитлера, Тельмана, изображений Святой Марии, Иисуса, ангелов. Множество мелких торговцев суетится в толпе. Над крышей универмага – огромный святой Николай весь в цветных лампочках, с раздутым мешком подарков, несет широкую улыбку толпящимся в дверях покупателям. Вдоль фасада универмага бойко торгуют с лотков. Параллельно серому зданию Главного полицейского управления, в южной части площади, движутся трамваи, набитые пассажирами, под усиленной охраной полиции. Реувен присоединяет свой голос к кричащим забастовщикам: «Позор штрейкбрехерам!». Вопли, проклятия, ругань, рукоприкладство, драки между теми, кто выступает против забастовки и теми, кто поддерживает ее. Страх, ненависть, гнев, мужество.
В зависимости от настроения Реувен поддерживает то одних, то других. В одну минуту он коммунист, ругающий нарушителей забастовки, в следующую минуту он – сионист. Вместе с Бертель они едут в трамвае под защитой полицейских с резиновыми нагайками и пистолетами.
Реувен начал работать с четырнадцати лет, все время был в рабочей среде, и весь – в политике. Ему интересно всё, что творится на улицах. Все время он повторяет:
– Политика важна в любом месте, а не только в Израиле.
Она возражает:
– Страна Израиля это главное. Все остальное несущественно.
Коммунистка Люба держится за свое:
– Все, что происходит в Германии, влияет и на Израиль.
Берлин бурлит. Нацисты и коммунисты идут в единой демонстрации.
Коммунисты поют:
Левой, левой, левой, —
Строго держите строй, —
Дадим полиции бой.
Вперед, вперед, рабочий народ, —
Пустим кровь классу господ,
Их призовем к ответу.
Мы строим счастья грядущий мир —
Германский Союз Советов.
Нацисты поют:
Выше знамена,
Сплотим ряды,
Спасем Германию от беды,
Быть в наших рядах – лишь тот достоин,
Кто смел и жесток, как древний воин.
Большая забастовка влечет к себе и некоторых воспитанников Движения. В эти дни Берлин выглядит как поле сражений гражданской войны. Лотшин лично обратилась к властям, прося защиты от насилия забастовщиков, парализующих работу литейной фабрики. Вооруженные полицейские были посланы охранять фабрику, владельцы которой – евреи.
Гейнц снял вывеску «Мориц Гольц» с ворот фабрики и начал подсчитывать убытки от нацистско-коммунистической забастовки.
– Ты уже в детстве был пессимистом, – гневно стукнул дед тростью.
– Гейнц умница, – поддержала Лотшин действия брата.
– Перестань глотать дым! – взгляд Фриды наткнулся на сигару в руках Гейнца.
А забастовки множатся, чередуясь с уличными демонстрациями и угрожая устойчивости семейного дела. Гейнц весь изнервничался от событий сотрясающих фабрику, курит сигарету за сигаретой. Политическая революция, сплошная разруха… Евреев избивают и убивают. Дед-патриот не разрешает внуку оплакивать отечество.
– Нацисты вовсе не ненавидят всех евреев, только тех, которые высовываются. Кто сидит тихо, того не трогают, и ему нечего бояться.
Дед требует от Гейнца оставить за пределами дома свои мрачные предчувствия. Гейнц не должен впадать в депрессию от вида нацистского флага, водруженного на древко над стоящим напротив домом покойной баронессы, превращенным в клуб гитлеровской молодежи. Это факт, и к нему необходимо привыкнуть.
Бертель не может привыкнуть к этому огромному нацистскому флагу, развевающемуся на ветру над виллой баронессы, "вороньей принцессы". Покойница завещала свой роскошный особняк нацистской партии, и с тех пор девочку охватывает дрожь при виде нацистского флага над ним. Она попросила садовника Зиммеля открыть заднюю калитку из сада, чтобы уходить в школу, не видя флага. Садовник предупредил ее, что так она очень удлинит свой путь до остановки трамвая. Она ответила, что будет вставать очень рано, чтобы не опоздать в школу, и будет выходить даже в темноте, лишь бы не проходить мимо флага.
– Если ты сбежишь от флага, он будет тебя преследовать в любом месте, – ответил ей садовник.
Бертель прислушивается к его совету. Она поднимает голову и смотрит в упор на флаг, не сдвигается с места до тех пор, пока ей не станет безразлична черная свастика. Она жмурится от солнца и швыряет камни во флаг, чтобы таким образом его унизить.
Земля Германии сотрясается. Старик Гинденбург президентским указом назначил генерала фон Шлейхера канцлером. Гейнц собирает семью. Он говорит, что договора задерживаются и положение фабрики резко ухудшается. Хозяева предприятий, связанных с нацистской партией, получили приказ не выполнять договора с евреями. Он, Лотшин и Лоц обратили внимание на постоянную слежку нацистов за разгрузкой стальных плат, которые идут на выплавку кухонных плит. По его мнению, выхода нет: фабрику придется закрыть. Дед с этим не согласен. Вот уже несколько месяцев адвокат Рихард Функе, член нацистской партии, помогает обойти возникающие препятствия.
По мнению семьи, следует сократить текущие расходы, чтобы подготовиться к тяжелым временам. Семейный водитель уволен, и уволен собачник. Теперь ответственным за собак будет Лоц. Прачки также уволены, и стиркой и шитьем будут заниматься Эльза и Руфь, которая постоянно живет в доме со своим маленьким ребенком Гансом. Жених ее, мотоциклист, любимец всей семьи, погиб в дорожной катастрофе, и Руфь никак не может прийти в себя. Семья решает работать, как единый организм. Даже Бумба заявил, что в связи создавшимся положением продаст все свои игрушки.
«Он нацист», – говорит Гейнц, глядя на красный флаг с черной свастикой над домом майора. Каждый раз, когда они встречаются, Гейнц с ним не здоровается, травмируя деда.
– Ну, какое тебе дело, антисемит он или не антисемит, еврей или христианин, нацист или коммунист, консерватор или либерал? Каждый имеет право на свое мировоззрение и свою веру.
Что же касается майора и его жены, они не терпят нацистов, но лишь благодаря нацистской партии они могут вызволить сына, закованного в цепи в тюрьме – Бранденбургской крепости. Сын их осужден на пятнадцать лет каторги за планирование убийств. Он принадлежит к крайне правой организации демобилизованных солдат, которые планировали убийство министра иностранных дел еврея Вальтера Ратенау и пролетарских вождей – Розы Люксембург, Карла Либкнехта, Вильгельма Пика, Карла Пинеса – и других по всей Германии. Они убивали всех, кто, по их мнению, был предателем. Именно потому сын майора заключен в самую жестокую тюрьму. Гейнц сердится на деда, который защищает майора и его жену, поддерживающих нацистов, но дед стоит на своем: просвещенность немецкого народа вылечит слепоту наивных людей и откроет им глаза на Гитлера и его преступную клику.
Дед затыкает уши, слыша мнение многих, что Гитлер медленно, но верно идет к успеху с того дня, когда был приглашен в начале года в Берлин стариком Гинденбургом, чтобы обсудить шансы последнего на еще одну каденцию президента. Президент возражает против назначения Гитлера канцлером, но это явление временное. Гейнц напряжен, подобно пружине. Правительства – одно за другим – подают в отставку. Убийства с двух сторон – нацистов и коммунистов – усиливаются с приближением выборов. Акулы капитала используют Гитлера, чтобы сломить немецкое рабочее движение и левых социалистов.
Начиная с февраля, промышленники переводят нацистской партии большие суммы денег. Крупп, Тиссен и финансовые воротилы боятся социалистов и коммунистов. Они не дадут Гитлеру проиграть, а всеми способами будут его усиливать. Это только дело времени, диктатор-клоун станет альтернативой существующему канцлеру или следующему за ним. Гейнц борется с иллюзиями деда. Декларация «Свобода и хлеб» в дни жестокого экономического кризиса и отчаяния масс принесет нацистской партии новых избирателей. Голод, нищета, унижение и насилие выводят миллионы людей на улицы. В Берлине полный хаос. В последние месяцы промышленники начали открыто поддерживать Гитлера, но дед-патриот все еще настроен оптимистически. На домах их тихого аристократического квартала то здесь, то там возникают надписи и множатся красные флаги с черными свастиками, как в других кварталах и пригородах Берлина. Чувство страха преследует Бертель, куда бы она ни шла. В школе поют «Германия превыше всего», завершают пение гимна благословением президента и побаиваются слишком критиковать распоясавшихся на улицах нацистов. Доктор Герман, социал-демократ, не клеймит прилюдно хулиганство нацистов. В молодежном движении все сильнее ощущается страх в связи с усиливающейся агрессивностью в отношении евреев. Банды нацистской молодежи мочатся и мажут калом стены еврейского общинного дома. Группы членов «Ашомер Ацаир» охраняют дом, внушая чувство безопасности людям, заполняющим его коридоры.
Воскресное утро начала декабря 1932 началось с неприятностей. Реувен посадил Бертель на раму велосипеда и поехал в старый квартал периода Фридриха Вильгельма Первого собирать пожертвования для Еврейского Национального Фонда в еврейских семьях.
На прямой улице, как в строю, стоят дома. По ходу движения Реувен, как обычно, начинает произносить в ее адрес поучительные речи, но на этот раз критикует не очень сильно. В это пасмурное утро он торжественно объявляет ей о решении окончательно оставить Движение. Как коммунист, он считает своим долгом вести войну во имя пролетариата. Это последний раз, когда он с ней собирает пожертвования. Важным тоном он добавляет:
– Только из чувства долга я присоединился сегодня к тебе.
– Для страны Израиля собирают деньги только из чувства любви, – решительно отвечает она, велев немедленно остановить велосипед, и соскакивает, не отрывая от него пронзительного взгляда.
– Во имя Еврейского Национального Фонда разреши мне довезти тебя до места. Дома стоят далеко друг от друга. Сама ты не сможешь собрать пожертвования.
Он сует в ее протянутую руку список адресов и квитанционную книжку Фонда. Он идет за ней следом до первого адреса и остается ждать в полутемном холодном коридоре, пока она, колеблясь, поднимается по ступенькам старого дома. Сердце ее сильно колотится. Прошло двадцать минут, и терпение его лопнуло.
Если бы она не заупрямилась, он бы вернул себе квитанционную книжку и коротко, по-деловому, уверенно взял деньги у жертвователя. С ней же невозможно. Она не попросит деньги у какого-либо еврея без того, чтобы не рассказать ему о книге «Альтнойленд» Теодора Герцля, и из-за этого он тут битый день проторчит в холодном неуютном коридоре.
Когда она, в конце концов, спустилась с третьего этажа, отирая рукавом слезы, с покрасневшим лицом, отчаяние его обернулось жалостью.
– Что, не было у них в доме денег? Ничего страшного, – положил он руку ей на плечо, чтобы смягчить ее обиду. Они вышли на улицу, дрожа от холода.
– Как раз у них были деньги, и они пожертвовали, – сказала она, прикрыв лицо ладонями.
– Так в чем же дело? – напрягается Реувен
– Пожертвовали. Три женщины. Им не дают возможности репатриироваться в Палестину, потому что они больны и не трудоспособны, – задохнулась она от волнения. – Бабка слепая, мать – вдова, муж ее погиб на войне, она совсем не здорова, работала машинисткой. Ее уволили, а дочь работает кассиршей в универмаге. В офисе сионистского движения сказали, что у нее нет шансов получить сертификат для въезда в Израиль, если нет капитала. Но у нее нет необходимой тысячи фунтов стерлингов.
– Что же ты им сказала?
– Что я могла им сказать?
– На твоем месте я бы сказал им, что их место – бороться вместе с пролетариатом за свои права.
– Это не откроет перед ними ворота Израиля.
– Кто говорит о стране Израиля. Я говорю о классовой борьбе! Конечно же, им не дадут въехать в страну Израиля, ибо они там не принесут никакой пользы.
– Так почему же мы берем деньги с больных, стариков, нетрудоспособных, если у них нет шансов репатриироваться в Израиль?
– Берем, чтобы строить страну для евреев.
– А эти что же, не евреи?
Скверное настроение, после того, как она увидела взгляды любви, обращенные женщиной к слепой матери и коротко остриженной дочери, заставило Бертель прослезиться. Реувен ловко выудил у нее список и квитанционную книжку Фонда. Долгие часы они обходили еврейские дома, и, как обычно, Реувен показал свое умение собирать пожертвования. Замкнувшись в себе, Бертель тащилась за ним от одного дома к другому, и перед ее взглядом все еще стояли три женщины, обиженные судьбой. На подобные ситуации она еще раньше пыталась обратить внимание инструктора Любы. Та ответила ей: молодые и сильные еврейские первопроходцы подготовят страну Израиля для всех евреев, заложат основы ивритской здоровой национальной и общественной жизни.
В плохом настроении Бертель приехала в клуб на заднем сидении велосипеда Реувена, и Люба сразу обратила внимание на ее беспокойный и печальный взгляд. Взяла ее за руку и потянула в комнату секретариата.
– В вашем доме много комнат. Может быть вы приютите Моше Фурманского, из кибуца Мишмар Аэмек?
У Бертель исправилось настроение. Выясняется, что многие сионисты, даже не из пролетарских семей, переходят к коммунистам, поэтому прислали в Германию инструкторов Моше Фурманского и Мордехая Орена – укрепить сионистский дух у колеблющихся воспитанников. Даже если бы было место в помещении движения, нельзя было кормить Моше, страдающего почками, день за днем селедкой.
– Ну, конечно, он может прийти к нам, – у Бертель вспыхнули глаза.
– Ты не должна спросить разрешения в доме?
– Что вдруг?! В семье должны меня благодарить, что у нас будет гостить израильтянин.
Моше Фурманский, крупный парень, шатен, с большой копной волос, среднего роста, только вошел в дом, как вокруг него возникла легкая и веселая атмосфера. Он скинул пальто, уселся на стул, и дед вперил удивленный взгляд в его рубашку. Недавно он с Бумбой видел в кинотеатре русский приключенческий фильм, герои которого ходили в белых расшитых рубахах, точно таких, как у Моше. В единый миг парень словно бы сошел с экрана.
– У вас в коммуне носят русские рубахи? – спросил дед.
– Таких русских рубах у нас в коммуне много.
Волшебное слово "коммуна" витало по гостиной. Дед в шутку спросил:
– Ты в коммуне Алеф или в коммуне Бет?
Моше искренне удивился: он вообще не слышал о делении коммун на Алеф и Бет.
– Он, несомненно, из коммуны Алеф, – поспешила Моше на помощь Бертель.
Это была неудачная шутка Бумбы: чтобы отделить себя от ее коммуны Алеф, он сказал, что будет принадлежать коммуне Бет.
Дед повел Моше в комнату покойного сына, которая была отведена для гостей. Бертель благодарно пошла вслед за ними. Но тут же радость ее померкла. Дед, зная, что алкоголь и курение запрещены в Движении, выставил на стол бутылку коньяка и предложил гостю сигару. Стыд и срам! Куда девалась жесткость истинного строителя сионизма? Бертель застыла, как статуя.
За короткое время новый инструктор завоевал авторитет воспитанников. Он выпрямился во весь рост и преподал им урок. Начал он с того, что приблизившись к входной двери, обнаружил дверной звонок, висящий на тонкой, готовой в любой миг оборваться, нити. Да и звук его почти не был слышен.
– Клуб сионистов пуст и запущен! Бумаги, книги, газеты, ранцы разбросаны по всем углам! Как может быть такой беспорядок!
Тотчас воспитатели и воспитанники бросились наводить порядок.
Но поведение Моше в доме разочаровало Бертель. Такой образцовый воспитатель и сионист не может не соблюдать положение берлинского клуба, запрещающее пить спиртные напитки и курить, даже если в стране Израиля им это разрешено.
Моше Фурманский ворвался к ним, как луч света с ясного неба. За месяц до завершения траурного для семьи года он принес в их дом радость. Гостиная и столовая сотрясались от народных ивритских песен. Гость из Сиона пел, а Фердинанд аккомпанировал ему на мандолине. Моше то напевал, то насвистывал мелодии, и сам этому радовался от всего сердца. Впервые после смерти сына дед смеялся над историями, которые Моше мастерски рассказывал.
Весь дом радостно слушал его. Только Бертель критически осматривала гостя со стороны. В то время как молодые сионисты в Движении ведут аскетический образ жизни, Моше по вечерам облачался в модную одежду из платяного шкафа Гейнца, посещал театры, кафе, рестораны, танцевал с ее братьями и сестрами. Он чувствовал себя своим в доску с их друзьями и с Фердинандом, проводя время в клубах на улицах Фридрихштрассе или Унтер-ден-Линден. Ночь за ночью она не смыкала глаз до утра. Бертель слышала веселые голоса, вдыхала запахи горячительных напитков и дыма сигарет, когда вся компания вваливалась в дом. Бертель не могла ему простить такое поведение.
Фурманский уехал, и радость, которую он внес в семью, сменилась голосами протеста. Братья и сестры восстали против запретов "черного ворона" Гейнца. В первое Рождество без отца никто из домочадцев не отправится на экскурсию в горы. Бертель умоляла отпустить ее в Кротошин – увидеться с родителями покойной матери, дедом и бабкой, родившимися в Польше, колыбели движения Ашомер Ацаир. У нее такое чувство, сказала она Гейнцу, что если она их сейчас не увидит, то не увидит их никогда.
Гейнц проявил твердость: Рождество на носу, пик безработицы и невиданного до сих пор голода. Такого глубокого экономического кризиса в декабре никто не помнит. Атмосфера ужаса и страха на улицах Берлина выводит массы аплодировать нацистам, марширующим сплоченными рядами. Хаос в стране. Гигантские плакаты мозолят глаза: «Сегодня Германия – наша! Завтра – весь мир!» Красные знамена с черными свастиками захватили столицу. Именно поэтому Гейнц требует от своих братьев и сестер не удаляться от дома. Он замыкается в своей комнате с бутылкой коньяка и газетами. Сильная оппозиция под руководством Гитлера привела к отставке канцлера фон Папена, которого сменил генерал фон Шлейхер. Нового канцлера атакуют со всех сторон. Промышленники гневаются на его попытки провести экономические реформы. Юнкеры не принимают
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































