Текст книги "Записки адвоката"
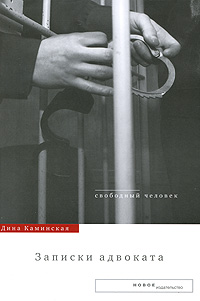
Автор книги: Дина Каминская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Товарищ секретарь, суд удостоверяет, что такая запись в стенограмме отсутствует.
Я: Прошу удостоверить, что в рукописном протоколе допроса подсудимого Кабанова в томе третьем на листе дела 96 записано: «Я бросил кофту Марины недалеко от забора руслановской дачи».
В магнитофонной записи эти его показания зафиксированы: «Кто из нас прятал кофту Марины и где – не помню».
Хорошо помню, как вскочила Волошина с криком: – Этого не может быть! Наверное, есть уточнение в конце протокола!
Но я спокойна. Ни в начале, ни в конце представленной самим прокурором расшифровки этого нет.
И опять:
Карева: Товарищ секретарь, суд удостоверяет.
Еще одно такое сопоставление, и взрывается Карева:
Товарищ адвокат, суд вновь предлагает вам аргументировать ваше ходатайство. Объясните, для чего вы заставляете нас делать эту работу?
Я: Пожалуйста, товарищ председатель. Основанием моего ходатайства является статья 294 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Она обязывает меня просить вас об удостоверении тех материалов дела, которые имеют значение для защиты. Поскольку протоколы допросов моего подзащитного и его очных ставок несомненно являются доказательством по делу, а стенограмма вами уже приобщена, я и прошу вас об удостоверении отдельных выдержек из них.
Карева: Это все, что вы можете сказать в обоснование вашей просьбы?
Я впервые вижу Кареву такой. Все ее лицо покрыто красными пятнами. Она с трудом сдерживает не волнение даже, а бешенство. Бешенство от впервые ощущаемого ею собственного бессилия – у нее нет возможности отказать мне. Она вынуждена каждый раз произносить:
– Удостоверяю.
Говорю спокойно, каким-то, как мне казалось, даже скучным голосом. Только почему-то не могу остановить дрожь в коленях, скрытых от всех адвокатской трибуной. Но это не потому, что боюсь и волнуюсь. Это от необходимости сдерживать презрение к ней, судье – «объективному и беспристрастному избраннику народа».
Уже потом, в перерыве, Юдович и Чайковская сказали, что ни разу в процессе не видели у меня такого лица. Лица, полностью лишенного всякого выражения.
Так продолжалось около часа. А потом Карева сделала еще одну попытку остановить меня:
– Товарищ адвокат, по плану работы суда мы должны сегодня закончить судебное следствие. Мы слушаем вас достаточно долго. У суда нет времени целый день тратить на такую работу.
– Вы ошибаетесь, товарищ председательствующий. У суда всегда есть время, чтобы проверить материалы дела так, как этого требует закон. Вы знаете, что не можете отказать мне в осуществлении моего права на защиту из-за отсутствия на то времени.
И так было до конца. Пока все 26 пунктов нашего списка не были внесены в протокол.
Так закончилось судебное следствие в Московском городском суде.
Прения сторон – заключительная часть судебного процесса. После речей обвинителя и защиты только последние слова подсудимых и. приговор.
Подсудимые ждут этого дня почти с таким же волнением, как дня приговора. Большинство из них твердо уверено – как скажет прокурор, так и будет. Может быть, только год или два суд сбросит.
В том, что Волошина будет просить признать мальчиков виновными, сомнений ни у кого из нас не было. Понимали это Алик и Саша. Понимали это и их родители.
И все же мы не только предполагали, мы были почти уверены, что нас ожидает во время прений сторон нечто необычное. И что это необычное прозвучит с трибуны обвинения. Так это и случилось.
Первый раз слова «вина не доказана» и «прошу оправдать» в деле мальчиков произнесли не мы, адвокаты. Этими словами закончила свою речь общественный обвинитель Сара Бабенышева.
Передо мной и сейчас лицо Сары, ее смущенная улыбка, когда прозвучало: «Слово для поддержания обвинения предоставляется общественному обвинителю товарищу Бабенышевой».
Ее первый, чуть растерянный, даже испуганный взгляд. Помню, как медленно она встала, слышу ее негромкий голос. Кажется, она начала так: «Я шла в суд с чувством глубокого сочувствия горю матери, трагически потерявшей своего ребенка. Я шла с чувством ужаса перед совершенным преступлением и негодованием против тех, кто виновен в гибели Марины. Я сохранила эти чувства и сейчас. Так же, как и тогда, я готова просить суд наказать убийц Марины. Но сегодня я не знаю, кто они».
Сара рассказывала (именно рассказывала) в своей речи, как она постепенно, слушая показания Саши и Алика, теряла ту непоколебимую уверенность, с которой шла в суд, согласившись быть обвинителем. Как зарождались у нее сомнения в правдивости показаний мальчиков.
То, что произошло у нас в процессе, было просто уникально. Такой самостоятельности и независимости, думаю, не продемонстрировал ни один из общественных обвинителей.
Но помимо этого общего значения речь Сары Бабенышевой была очень интересна и самим анализом доказательств. Особенно в той ее части, которая относилась к показаниям свидетельницы Марченковой.
Много раз, думая о том, как родились эти показания, впервые прозвучавшие на кладбище над могилой, я ощущала их истеричность. Про себя я называла Марченкову кликушей, не находя для нее более точного определения. Бабенышева назвала ее «плакальщицей». Читая показания этой свидетельницы, записанные следователем, Бабенышева сумела ощутить в них традиционный народный ритуал обрядного «плача» над могилой усопшего. И, произнося свою речь, цитируя эти показания, произнося их чуть нараспев, Сара заставила всех нас увидеть и почувствовать это. Она сумела показать, что само построение показаний Марченковой точно укладывается в законы фольклорного жанра. Сначала сожаление о погибшей, неутешность горя о ней. Потом восхваление ее достоинств: «умница», «красавица». Вина живых в том, что недоглядели, не уберегли: «Прости, Мариночка, деточка, прости меня, старую. Отпусти меня. Зачем снишься мне каждую ноченьку. Не уберегла тебя, не спасла тебя» и т. д.
Сара говорила, что содержание посмертного оплакивания, в котором единственное достоверное – смерть оплакиваемого, следствие сделало краеугольным камнем обвинения. Придало силу свидетельского показания литературному вымыслу.
Я хорошо помню, что Юдович произнес в тот день блестящую защитительную речь. Но вспомнить сейчас, через многие годы, отдельные куски его речи, строй его аргументов я не могу. Я помню сейчас свою речь только потому, что привезла с собой ее стенограмму. Я помню куски из речи прокурора Волошиной, но именно те куски, которые цитирую или на которые отвечаю в своей речи.
Это не потому, что мы, адвокаты, произнесли плохие, неинтересные речи. Отнюдь нет. Стенографические записи наших речей были предметом специального изучения и обсуждения на заседании криминалистического общества Московской коллегии адвокатов.
Обсуждались и изучались наши речи и на специально посвященных этому производственных совещаниях в юридических консультациях.
Но эти речи, при всей непохожести стиля, манеры изложения, все же оставались традиционными судебными речами. Это не слабость? Это закон профессии. Речь Бабенышевой так запомнилась именно в силу ее абсолютной нетрадиционности, необычности для суда. В этом была особая сила эмоционального ее воздействия.
Речь прокурора Волошиной, как мы и ожидали, была дословным повторением того, что записано в обвинительном заключении. И хотя прокурор вынуждена была признать, что следователь Юсов допустил нарушения закона при производстве расследования, закончила она свою речь так: «Я не могу не признать, что Буров и Кабанов были хорошими мальчиками. Ничто в их поведении не свидетельствует о том, что у них были преступные наклонности. Если бы они не отказались от признания своей вины, они могли бы прийти в суд с гордо поднятой головой. Но они от этого признания отказались. Я считаю их вину доказанной и прошу суд приговорить их по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР к 10 годам лишения свободы каждого».
Мне казалось тогда, да и сейчас я придерживаюсь этого мнения, что ничто лучше не выражает психологическое пристрастие к «признанию», его гипнотическую силу, чем эти слова: «Они могли бы прийти в суд с гордо поднятой головой».
Слова, произнесенные в отношении тех, кого сама прокурор считала виновными в совершении одного из самых тяжких и самых безнравственных преступлений.
Прения сторон по делу мальчиков длились два дня. Я произносила речь на второй день. После моей речи был объявлен обеденный перерыв.
Мы стояли в длинной очереди в столовой Городского суда между судьями, прокурорами, адвокатами. Некоторые из них слушали наши речи. Левину – вчера, мою – сегодня. Нам обоим довелось тогда выслушать много лестных слов в наш адрес. И то, что это говорили судьи и прокуроры, было не только приятно. Это вселяло и некоторую надежду. Нам казалось, что если они, судьи, так безоговорочно признают убедительность наших доводов, если они соглашаются с тем, что мы опровергли достоверность признания, то ведь и Карева такая же судья, как и они. Может быть, и она, несмотря на свою предубежденность, спокойно оценит все «за» и «против».
Именно в этот момент, когда мы со Львом обменивались этими словами, вошла Карева и, обращаясь ко мне, громко сказала:
– Товарищ Каминская, я не могу удержаться, чтобы не сказать вам, что вы сегодня произнесли замечательную речь.
А я стояла подавленная, понимая, что надеяться не на что. Что Карева никогда не сказала бы так в присутствии своих и моих коллег, если бы не решила безоговорочно, что мальчиков она осудит.
А через три дня – 23 ноября 1967 года – мы, стоя в зале Московского городского суда, слушали приговор. С волнением, когда кажется, что сердце замирает, ждали, когда же услышим те главные слова, ради которых работали столько месяцев. Ради которых действительно не спали ночами. Ради которых вкладывали в эту работу не просто умение и добросовестность, но и кусок своей жизни.
И вот они звучат, эти слова.
Именем Российской Социалистической Федеративной Республики. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда приговорила: признать Бурова и Кабанова виновными в предъявленном им обвинении по статье 102 Уголовного кодекса. И определить им наказание в виде 10 лет лишения свободы каждому.
Как мы ни были к этому готовы, каким тяжким, как будто непредвиденным грузом ложатся эти слова. И так всегда. Во всех делах, где уверен в своей правоте. Как бы ни понимала умом, что осудят, все равно абсолютно иррационально надежда продолжает жить до этой последней минуты.
Я, как, наверное, и все адвокаты мира, немного волнуюсь перед речью. Мне, как и всем, хочется сказать ее хорошо. Здесь и чувство профессиональной чести, наверное, и немного тщеславия. Кому неприятно услышать после речи похвалу?.. Но я никогда не сравню интенсивность этого волнения с той, которую испытываю в день вынесения приговора. И когда меня товарищи спрашивали: «Когда ты больше волнуешься – перед речью или после нее?» – я всегда отвечала:
– Больше всего, несравнимо больше волнуюсь, ожидая приговор и во время его чтения.
Суд очень утомляет. Часто, приходя домой вечером, я от усталости не хотела и не могла ни с кем разговаривать. Молча ела обед, молча, не читая, не глядя на телевизор, сидела потом у себя в кабинете.
После обвинительного приговора это была уже не просто усталость, а изнеможение. Ощущение такой слабости, когда трудно и лень протянуть руку, сделать лишний шаг.
В день вынесения приговора Саше и Алику, бессонной ночью, я думала: «Проклятая работа. Я ненавижу эту профессию. Лучше стать дворником, прислугой – кем угодно, но не участвовать в этой гнусной комедии».
И я действительно в эти часы ненавидела свою профессию – ту, которую называю профессией моей жизни.
Карева вынесла не только обвинительный приговор. Она вынесла еще частное определение, утверждая, что Саша отказался от тех показаний, где признавал себя виновным, под влиянием адвоката Козополянской. Карева не нашла ничего предосудительного во всех тех беззакониях, которые творил Юсов. Она не только не вынесла частного определения в его адрес, но и в самих формулировках приговора обошла все то, что бесспорно было установлено в суде. И незаконный арест, и незаконное – сверх срока – содержание в камере предварительного заключения, да еще вместе со взрослыми.
Ни слова не было сказано в приговоре о приписках к протоколу допроса, которые она сама же удостоверила.
Карева вынесла определение против Козополянской не потому, что было доказано в суде, что под ее влиянием Саша изменил свои показания. Осуждая мальчиков, она была обязана указать причину изменения ими показаний. Определение против Козополянской работало на обвинительный приговор.
Карева обошла молчанием все нарушения, совершенные Юсовым, не потому, что не понимала их серьезности. Но определение против Юсова работало бы против обвинительного приговора.
Кассация
Самое трудное в том состоянии подавленности, в которое меня привел этот чудовищно несправедливый приговор, было не поддаться отчаянию, не потерять активности в борьбе. Не дать овладеть собою ощущению безнадежности от сознания – все, что делали, все, чего добились в Областном суде, было впустую. Заставить себя надеяться – ведь впереди Верховный суд.
На следующий день после приговора, вечером, у меня была назначена встреча с родителями Саши.
На эту встречу с Сашиным отцом Георгием и с Клавдией Кабановыми я шла с чувством глубокой вины и стыда перед ними. И никакие самоуспокоения – я ведь сделала все, что могла, – не снимали этого чувства.
Клавдия и Георгий пришли в консультацию с огромным букетом роз. И опять я поразилась врожденному чувству благородства и чуткости этой простой женщины. После такого приговора, на следующий день после того, как ее сын, в невиновности которого она была уверена, получил 10 лет, Клавдия пришла ко мне только для того, чтобы сказать:
– Я благодарю вас. Я никогда не забуду того, что вы для нас делаете.
Не я успокаивала ее, а она говорила мне все те слова, которые собиралась сказать ей я.
– Ведь это не конец, Дина Исааковна, – говорила она. – Не может быть, чтобы Верховный суд оставил приговор в силе. Мы верим, что вы и Юдович добьетесь правды.
А на следующий день в следственном кабинете тюрьмы № 1 почти те же слова повторил мне Саша. И слова благодарности, и слова непоколебимой уверенности, что все будет хорошо.
Их вера в советское правосудие была больше моей – ведь они его меньше знали. В отличие от них я никогда не могла сказать: «Не может быть…» У меня было право только на слово «Надеюсь…».
Наступил новый, 1968 год. С момента ареста Алика и Саши прошло 16 месяцев. За это время они имели одно свидание с родителями – после вынесения приговора. Теперь же дело направлено в Верховный суд, и права на свидание нет и у нас – адвокатов. Алик и Саша будут сидеть в тюрьме в полном неведении о том, что происходит с их делом, до тех пор пока Верховный суд республики не рассмотрит его. А тогда – либо лагерь, если приговор останется в силе, либо опять тюрьма, если приговор отменят с направлением на новое дополнительное расследование. Поэтому хотелось, чтобы этот срок особенно строгой изоляции был как можно короче. Чтобы дело в Верховном суде назначили как можно скорее. Но помочь этому никакой адвокат не может. Это та рутина, изменить которую невозможно.
Наконец нам сообщили – 9 апреля 1968 года в 10 часов утра дело слушается в Верховном суде.
Состав коллегии нам хорошо известен – эти судьи рассматривают все жалобы на приговоры Московского городского суда. Председательствовал в тот день один из лучших судей Верховного суда Романов. Докладчик – член суда Карасев.
Народу собралось очень много. Пришли наши товарищи адвокаты. Все уже были наслышаны о том, какое это спорное и интересное дело.
Карасев докладывал больше часа. Изложил доводы приговора, положенные в обоснование осуждения мальчиков. Очень подробно изложил аргументацию наших кассационных жалоб. Левина жалоба очень большая, обстоятельная, почти 50 страниц. Моя несколько короче, но тоже 30 страниц. В ней пять основных разделов. Вот их заголовки.
I. В материалах дела нет объективных доказательств вины Кабанова.
II. Ни один из допрошенных свидетелей не изобличает Кабанова в изнасиловании и убийстве Марины.
III. Обвинительный приговор основывается на самооговоре Бурова и Кабанова.
IV. Признавая себя виновными, Буров и Кабанов дали противоречивые показания.
V. В материалах дела имеются бесспорные доказательства невиновности Кабанова.
Жалоба заканчивалась так:
На основании изложенного, считая, что Кабанов осужден Московским городским судом за преступление, которого он не совершал, что материалы дела не только не подтверждают обвинительной версии, но и полностью опровергают ее, прошу Судебную Коллегию по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор Московского городского суда в отношении Кабанова отменить и дело производством прекратить.
После докладчика давали объяснения мы, адвокаты. Слушали нас внимательно, с интересом, который, мне казалось, не ослабевал.
По установленному порядку адвокат в кассационной инстанции лишь дополняет жалобу, более подробно, детально аргументирует отдельные ее тезисы. Несмотря на то что мы подали очень подробные жалобы, таких дополнений к ним было много.
С не меньшим интересом выслушал суд и объяснения Бабенышевой.
А потом встал прокурор-представитель высшей прокурорской инстанции Республики. Его заключение сводилось к следующему.
Дело расследовано достаточно полно. Вина подсудимых бесспорно доказана их собственным признанием на предварительном следствии. Их вина также доказана показаниями свидетельницы Марченковой и других многочисленных свидетелей, утверждающих, что Буров и Кабанов отсутствовали не менее 35–40 минут. Этого времени было совершенно достаточно, чтобы изнасиловать и убить Марину.
И суд его слушал так же внимательно и так же благожелательно, как и нас.
И уже третий раз мы стоим, встречая выходящий из совещательной комнаты суд.
В руках у Романова два небольших листа. Это слишком мало для определения об отмене приговора. И мы – я и Лев – смотрим друг на друга с таким отчаянием. Ведь это почти конец. Почти безнадежность.
Оглашается резолютивная часть определения.
Мы переглядываемся – опять надежда. Для того чтобы отказать нам, не надо много времени. Не надо писать только заключительные строки.
И вот:
Руководствуясь статьей 339 Уголовно-процессуального кодекса, Судебная Коллегия постановила:
Приговор Московского городского суда от 23 ноября 1967 г. в отношении Бурова и Кабанова отменить. Дело о них направить в тот же суд на новое рассмотрение со стадии предварительного рассмотрения. Меру пресечения Бурова и Кабанова не изменять.
Как мы счастливы! Как тогда, в Областном суде, год тому назад, когда Кириллов тоже признал доказательства вины недостаточными и направил дело на доследование. Мы были счастливы тогда, хотя понимали, что для Алика и Саши впереди еще месяцы тюрьмы. Понимаем мы это и сейчас. Но ведь все-таки отменили. Все же признали, что суд осудил мальчиков неправильно.
Через три дня я сижу в Верховном суде и читаю полный текст определения. Все наши доводы, именно в наших формулировках вошли в текст этого определения как обоснование отмены приговора. Тут и то, что приговор суда основывается только на самооговоре подсудимых, и то, что в деле отсутствуют объективные доказательства вины, что заключения экспертиз не дают оснований для утверждения, что «убийство М. Костоправкиной было совершено именно подсудимыми».
И так по всем пунктам.
Специально фиксируются в определении все те нарушения закона, которые допустил Юсов во время расследования дела, – на четырех страницах определения полностью цитируются разделы наших жалоб, посвященные этому вопросу.
Это была победа. Это была серьезная награда за наш труд. А Саша и Алик ничего об этом не знают и еще не скоро узнают. Ведь права на свидание с ними опять не имеют ни родители, ни мы, адвокаты.
Наконец 29 мая узнаю, что дело отправлено в прокуратуру. И в тот же день мы с Юдовичем направляем прокурору Московской области Гусеву заявление. Мы пишем, что Буров и Кабанов содержатся под стражей сверх установленного законом предельного срока, и просим немедленно их освободить.
Никакого ответа.
Какая-то стена молчания окружала «Дело мальчиков». От родителей Саши и Алика знаем, что никого из измалковских свидетелей в прокуратуру не вызывают. Впечатление такое, что делом вообще никто не занимается.
Так прошло три месяца, и нам ничего не удавалось добиться, ничего узнать о деле.
17 августа мне и Льву были переданы телефонограммы: на следующий день в 10 часов утра прокурор Московской области Гусев может принять нас.
И вот мы у него в кабинете.
Высокий мужчина сидел за огромным старинным письменным столом. Увидев нас, даже не приподнялся, только кивнул головой, что должно было означать или «здравствуйте», или «садитесь». Я решила расценить это как и то и другое и, не ожидая приглашения, села в стоящее прямо у стола кресло. Рядом со мной Лев. Гусев не дал нам выговорить ни единого слова.
– Я решил удовлетворить вашу просьбу. Дело для расследования передано следователю прокуратуры товарищу Горбачеву. Я также принял решение удовлетворить вашу просьбу и освободить Бурова и Кабанова из-под стражи. В ближайшие дни они будут дома. Можете сообщить это родителям.
Как прекрасно это неожиданное известие! Скорее вниз по лестнице на улицу, через дорогу, на любимый всеми москвичами Пушкинский бульвар. Где старые липы, а на скамейках всегда пенсионеры и влюбленные.
И где сейчас стоим мы – сияющие и смеющиеся. Ведь у нас такая радость – наших мальчиков выпускают, наши мальчики уходят из тюрьмы.
В такой день невозможно заниматься никакими делами. У нас праздник. Только одно дело мы не можем отложить. Надо скорее сообщить об этом родителям. Донести этот праздник, эту радость до них.
Позвонить в Измалково мы не можем – ни у одного из ее жителей телефона нет. Поехать туда мы тоже не можем. Если увидят в деревне нас, входящих в дом Буровых или Кабановых, будет скандал. Встречаться с родителями мы можем только в консультации.
Решаем заехать ко мне домой, взять моего сына, довести его до ближайшего к деревне места на шоссе и там ждать, пока он пешком пойдет в дом Кабановых.
Через два часа мы вернулись ко мне домой. Все было прекрасно, Лев поднял наш традиционный тост:
– За нашу профессию!
Как мы любили ее – нашу профессию – в этот день!
А тут раздался телефонный звонок. И когда я подняла трубку, там только рыдания. Ни одного слова. Только рыдания, которые невозможно сдержать. И я тоже начинаю плакать вместе с ней – с Сашиной мамой.
20 августа 1968 года, через 23 месяца и 20 дней, мальчики вернулись домой. С этого же дня возобновилось следствие по их делу. Оно длилось семь месяцев. И мы опять не знали ничего о том, что происходит там, уже в другом следственном кабинете, у другого следователя, но в той же прокуратуре Московской области.
Через несколько дней после отмены приговора в Верховном суде, когда я переписывала определение, ко мне подошел Карасев, который был докладчиком по нашему делу.
– Что, товарищ Каминская, продолжаете свою работу над делом? – полушутя спросил он, увидев, как я, почти дословно, переписываю весь текст.
– Не могу отказать себе в удовольствии иметь полный текст этого определения.
– А я им недоволен. – И в ответ на мой вопросительный взгляд добавил: – Дело нужно было прекращать. Здесь нечего доследовать.
Но потом решили предоставить эту возможность прокуратуре. Пусть они сами тихо прекратят это дело. Так будет меньше жалоб, меньше шума.
Мы с Юдовичем мало верили, что прокуратура прекратит дело. Слишком много нарушений было допущено не только Юсовым, но и начальником следственного управления прокуратуры и самим Гусевым, санкционировавшим незаконный арест Саши и Алика и незаконное их содержание под стражей.
Уже не только защита Юсова, – им бы пожертвовали легко, – но и защита чести мундира всей прокуратуры области определяла их настойчивость – добиться осуждения мальчиков и этим самым списать допущенные нарушения закона.
Наступил 1969 год.
В середине марта следователь Горбачев вызвал мальчиков, Юдовича и меня, чтобы объявить, что расследование по делу закончено. Нам предоставлена возможность вновь знакомиться с делом… после чего оно будет направлено в суд. Сейчас это уже 10 толстых томов от 300 до 500 страниц в каждом.
Начинаем с девятого тома, с документов, идущих после определения Верховного суда.
И сразу неожиданность.
В то время как мы посылали жалобы с просьбой освободить Алика и Сашу, в то время, когда мы тщетно ждали ответов на эти жалобы, дело вновь рассматривалось в Верховном суде РСФСР. В его Президиуме, с участием самого Льва Смирнова – в то время председателя Верховного суда РСФСР, а ныне председателя Верховного суда Союза ССР. Только теперь – в марте 1969 года – нам, защитникам, делается известным, что еще в июне 1968 года заместитель прокурора РСФСР принес протест на определение Верховного суда. Просил отменить его и оставить в силе приговор Московского городского суда.
По закону адвокатов не извещают о дне слушания протеста. Но ведь нас не просто не известили, от нас скрыли сам факт, что такой протест принесен.
К счастью, в этом нашем случае Президиум Верховного суда РСФСР протест прокурора отклонил. Более того, в постановлении, которое он вынес, еще более резко отмечались нарушения закона и низкое качество расследования. А если бы было принято другое, противоположное решение? Разве не чудовищна сама возможность полного лишения права на защиту в такой высокой судебной инстанции?
Лишение адвокатов права не только дать объяснения при рассмотрении дела (это предусмотрено законом), но даже написать и подать свои возражения на протест.
Вторая, не менее поразительная неожиданность, – это то, что прокуратура разыскала и допросила взрослых, которые содержались в камерах предварительного заключения с Буровым и Кабановым.
Разыскать их оказалось совсем не трудно. Все это время они безвыездно проживали в самом Одинцове. Но самое поразительное – это то, что Кузнецов оказался вовсе не Кузнецовым, а Скворцовым. И именно под этой фамилией та же одинцовская милиция его задержала. А Ермолаев оказался совсем не Ермолаевым, а Дементьевым.
Во имя чего начальник милиции Одинцовского района подписал справку в суд, в которой все было неправдой – и фамилии задержанных, и их возраст, и то, что им было предложено милицией выехать из Москвы и из Московской области? Скрывать подлинные имена этих взрослых было нужно и выгодно только в одном случае – если эти взрослые были посажены в камеры предварительного заключения со специальной целью, специальным заданием. И выгодно это было не руководству милиции, а следователю Юсову и тем работникам уголовного розыска, которые по его заданию такую оперативную разработку проводили.
Скворцов и Дементьев давали показания очень скупо. За что их задержали, не знают. Сказали, какая-то проверка. Почему держали целую неделю, тоже не знают. Выпустили их в один день – 7 сентября 1966 года (на следующий день после того, как Саша и Алик признались). Никаких подписок о выезде из Московской области с них не брали. Действительно, оба они содержались в одной камере с мальчиками. Сейчас уже смутно помнят и самих мальчиков, и о чем разговаривали. Но никто им не поручал уговаривать мальчиков признаться.
Третья неожиданность.
Следователь Горбачев вновь выезжал с понятыми на место происшествия, в совхозный сад. Отдельно с каждым из тех шести понятых, которые уже раньше выезжали туда вместе с Юсовым и Буровым и Кабановым. Каждый понятой указал в совхозном саду место под яблоней, на которое в 1966 году показывали Буров и Кабанов, как на место изнасилования Марины. Тут же при выезде были проведены все необходимые замеры. Результаты замеров во всех шести случаях были абсолютно одинаковыми. Утверждения Алика и Саши о том, что они показывали на разные места, на вторую по счету яблоню от противоположных концов сада, результатами этих измерений опровергались.
Это было тем более удивительно, что двух из этих понятых допрашивали в Московском областном суде и тогда они полностью подтвердили показания Саши по этому вопросу.
Обсуждая со Львом эти новые данные, я прочла ему выписки из протоколов всех шести выездов на место происшествия. На каждом из этих протоколов стояла дата выезда – одна и та же на всех шести. На каждом из них проставлено время, когда начался выезд и когда он закончился. Одно и то же время на всех протоколах. Значит, ясно было, что было сделано не шесть выездов отдельно с каждым понятым, не шесть замеров, которые все совпали сантиметр в сантиметр, а один выезд и один замер. Это еще не свидетельство того, что мы получим при допросе этих понятых правдивые ответы. Это только первая ниточка, потянув за которую мы можем рассчитывать добиться правды.
Оба согласованно решаем – о вызове и вторичном допросе понятых просить сейчас не будем. Об установленной нами новой фальсификации, кроме нас двоих, никто не должен знать. Весь расчет – на полную неожиданность при допросе понятых в суде.
Было и еще одно немаловажное изменение – свидетель Марченкова на допросе у следователя Горбачева показала, что ранее давала неправдивые показания, так как боялась мести со стороны родителей Бурова. Что она не только слышала голос Марины, но и видела Марину и мальчиков. Явная неправдоподобность этих показаний была очевидна для каждого, кто видел, как Марченкова, несмотря на сильные стекла очков, ощупывает палкой дорогу перед собой. И это в освещенном помещении суда. Как же могла она увидеть из окна своей комнаты лица тех, кто находился от нее на расстоянии 15 метров, да еще при условии, что люди эти были в темноте?
Повторяем вновь то ходатайство, которое заявляли еще в Московском областном суде, – истребовать из поликлиники, где Марченкова состоит на учете, подлинную историю ее болезни.
28 марта 1968 года все мы – Юдович, я, Саша и Алик – подписали необходимый протокол в том, что с материалами дела мы полностью ознакомились. Теперь надо ждать того дня, когда оно вновь, уже в третий раз, начнет слушаться в суде.
Как долго придется ждать, никто предсказать не может. Один-два, а может, и четыре месяца. Счастье, что мальчики теперь на свободе, дома, что это многомесячное испытание будет не таким тягостным и мучительным.
Ровно через два месяца – 28 апреля Сашу и Алика опять арестовали.
Это сделал прокурор Московской области, впоследствии заместитель Генерального прокурора СССР, а ныне заместитель председателя Верховного суда СССР Гусев, который так «великодушно» решил отпустить Алика и Сашу всего только шесть месяцев назад.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































