Текст книги "Записки адвоката"
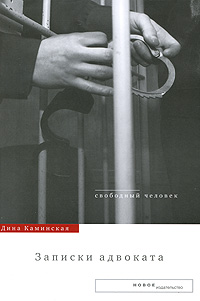
Автор книги: Дина Каминская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Все это с подробностями записано в пространном протоколе допроса от 17 мая (том 1, лист дела 65), который назван «Чистосердечные показания».
Но проходит всего несколько дней, и в эти «чистосердечные показания» Галансков начинает вносить коррективы. 31 мая (том 1, лист дела 105):
Кто передал «Белую книгу», я не знаю. Я в этом не участвовал.
8 июня (том 1, лист дела 111):
Шифрованное письмо для иностранки Нади я писал, но не отправлял, а сжег. В этом неотправленном письме я писал о взаимоотношениях между молодыми поэтами «смогистами».
12 июня (том 1, лист дела 118):
О передаче «Белой книги» ничего не знаю. Газету «Посев», шапирограф и книги НТС я Добровольскому не давал.
12 июня (том 1, лист дела 127):
Никаких книг НТС у меня не было. От НТС ни книг, ни посылок не получал. Показания Добровольского полностью отрицаю.
16 июня (том 1, лист дела 136):
Все показания о моих встречах с представителями НТС, о получении от них шапирографа, копирки, денег, литературы – вымышленные. Я хотел выручить Добровольского, который уже длительное время просит меня об этом.
19 июня (том 1, лист дела 154):
Все мои показания, начиная с 6 мая, – чистый вымысел. Я сознательно оговорил себя, поддавшись на просьбы, даже мольбы Добровольского.
Если бы на этом можно было поставить точку! Если бы защита имела возможность в суде утверждать, что признание Галанскова было кратковременным! Еще в ходе следствия он отказался от ложного признания и объяснил мотивы, которые его на эту ложь толкнули.
Но проходит месяц, и вновь допросы Галанскова следуют один за другим: 21 июля, 26 июля, 28 июля, 31 июля. И в каждом из протоколов:
«Я встречался с представителями НТС…», «Я получил от них шапирограф, литературу и деньги…», «Я передал все это Добровольскому…», «Я поручил Добровольскому написать зашифрованное письмо…».
12 августа Юрий пишет собственноручные показания (том 1, лист дела 246). В протоколе этого допроса специально оговорено: «Обвиняемый Галансков выразил желание записать показания собственноручно»:
В конце лета или в начале осени я последовательно встречался с четырьмя иностранцами. От них получил две папки с материалами НТС и книги. Все эти иностранцы называли себя представителями зарубежной организации – Комитета содействия СМОГу.
В ноябре приезжал иностранец по имени Генрих – он назвался представителем какой-то организации юристов. От него я получил 260 долларов и 300 рублей советскими деньгами. С ним я отправил на Запад «Белую книгу». В январе приехала иностранка по имени Надя. От нее получил копирку для тайнописи, условный цифровой шрифт и два адреса, по которым я смогу направлять письма для НТС. Через Надю я передал свой журнал «Феникс».
Если бы это было все. Если бы на этом можно было поставить точку.
Следствие по этому делу было закончено 21 сентября, а за 3 дня до этого Юрий вновь изменил свои показания.
Он теперь не отрицал встреч с иностранцами, но отрицал, что они были представителями НТС. Он не отрицал того, что писал зашифрованное письмо, но отрицал, что оно было адресовано в НТС. Он признавал, что в ноябре встречался с иностранцем по имени Генрих, но отрицал, что передавал ему «Белую книгу». Он признавал, что встречался с иностранкой по имени Надя, но отрицал, что передал ей журнал «Феникс». Он признавал свое участие в перепродаже долларов, но говорил, что получил их не от иностранца, а от Добровольского, которому согласился бескорыстно помочь. Закончил он свои показания так:
Признавая все то, что на меня наговорил Добровольский, я хотел выручить его, считая, что мне все равно отвечать за составление журнала «Феникс» и «Открытое письмо Шолохову».
Если учесть, что Юрий относился к предстоящему суду как к балагану и видел наиболее правильную для себя линию поведения в предстоящем процессе в откровенном издевательстве над судом, думаю, что мой читатель согласится с тем, что задача, стоявшая передо мной, была очень нелегкой.
Юрий был трудным подзащитным. Он соглашался со всеми моими доводами, внимательно выслушивал мои советы. Был как-то по-особому нежно благодарен за каждый знак внимания и сочувствия, которые я могла проявить. Но он был предельно изнурен физически и измучен нравственно. Слабость и неудовлетворенность собой он пытался скрыть бравадой, грубой насмешкой над следователем, иногда даже переходящей границы приличия. Он смеялся над ними, когда ему хотелось кричать от боли. Не хотел, чтобы чужие и враждебные ему люди видели, как ему трудно. Он шел на то, чтобы вызвать у них раздражение, так как не хотел вызвать у них чувство жалости.
К 12 октября 1967 года, за несколько дней до истечения максимального срока содержания обвиняемых под стражей до суда, мы закончили ознакомление со всеми девятнадцатью томами следственных материалов.
Мы расставались с Юрием до суда. Мне предстояла интенсивная подготовка к защите, осмысление огромного материала, который нужно было систематизировать и анализировать. Мои коллеги по процессу и я с нетерпением ждали времени, когда дело будет назначено к слушанию и у нас появится возможность без следователя и без наших подзащитных вновь, только для себя, перечитать особенно важные показания и совместно обсудить линию защиты. Но время шло, а о том, когда будет рассматриваться дело, нас никто не извещал. Наконец, в самых первых числах декабря адвокатам сообщили, что дело будет слушаться 11 декабря в 10 часов утра под председательством Льва Миронова – члена Московского городского суда.
Это было вдвойне нерадостное сообщение. Времени, которое оставалось до начала суда, было недостаточно для необходимой нам подготовки к делу. Перспектива участвовать в процессе под председательством Миронова была тоже не из приятных.
Я всегда очень осторожно относилась к тем оценкам, которые адвокаты дают судьям. Знаю, что зачастую хвалим мы судью только за то, что дело «хорошо» кончилось, и ругаем, когда оно закончилось «плохо». Но это далеко не самый надежный и, во всяком случае, не абсолютный критерий. И все же, когда узнала, что наше дело будет рассматривать именно Миронов, я была искренне огорчена. Уж очень единодушно ругали его все мои товарищи, которые знали его еще народным судьей. Слишком часто применительно к нему звучало слово «садист».
За годы работы Миронова в Московском городском суде я часто видела его, но звучание его голоса услышала впервые, когда он произнес:
– Судебное заседание объявляю открытым.
За 10 лет, которые прошли после процесса над Галансковым, мы тоже встречались множество раз, но поздоровался он со мной только однажды.
Это было в обеденный перерыв. Толпы посетителей, прокуроров, адвокатов, судей, секретарей стремились вниз по лестнице с верхних этажей в подвал. Там расположена столовая Московского городского суда, где, простояв в очереди 35–40 минут, можно было, давясь от спешки, так как время перерыва уже исчерпано, съесть горячий обед. В эти же часы по той же лестнице ежедневно спускались с третьего этажа руководители суда. Раньше – Николай Осетров и два его заместителя. Позже – Лев Алмазов и его заместители Миронов и Ряжский. Они не спеша выходили на улицу к ожидавшей их у подъезда машине и уезжали обедать в какую-то специальную столовую для ответственных работников.
В тот день по лестнице спускались не трое, а четверо. Вместе с Алмазовым и его заместителями спускался Осетров, в то время и ныне заместитель министра юстиции. Они проходили мимо меня, о чем-то оживленно беседуя, что уже само по себе было нарушением обычного ритуала. Обычно Алмазов со своими заместителями всегда проходили молча.
Глядя на этих «высоких» чиновников, мы, адвокаты, часто вспоминали время, когда Алмазов был просто народным судьей, приветливым и благожелательным, выделявшимся среди многих интеллигентностью. Сколько раз, выступая в те далекие годы в процессах под его председательством, я видела в нем нормального живого человека и очень неплохого судью. Сколько раз разговаривала с ним в коридорах того народного суда. Потом Алмазов стал заместителем Осет рова. Постепенно с его лица пропала приветливая улыбка, потом обычное «здравствуйте» было заменено молчаливым кивком головы. К тому времени, когда Алмазов стал председателем Московского городского суда, заменив ушедшего на повышение Осетрова, исчез и этот кивок.
Но в тот день, повторяю, они шли вчетвером, о чем-то оживленно беседуя, и мне даже показалось, что в лице Алмазова проступили прежние человеческие черты.
Увидев меня, Осетров внезапно остановился. Остановились и его спутники.
– Здравствуйте, товарищ Каминская, – обратился ко мне Осетров.
– Здравствуйте, товарищ Каминская, – как эхо повторили Алмазов и Ряжский. Миронов промолчал.
– Ты разве не знаком с адвокатом Каминской? Она ведь выступала у тебя в процессе. Неужели забыл? – обратился к нему Осетров.
Вот тогда-то и произошло это событие: Миронов сказал мне «здравствуйте».
В этот день мои коллеги, наблюдавшие эту сцену, поздравили меня с официальным признанием. Никого не удивило, что со мной поздоровался заместитель министра Осетров, но Миронов.
Среди моих товарищей были такие, которые неоднократно выступали у Миронова. И все они говорили:
– Он не только не здоровается, но и не смотрит в нашу сторону. Ты теперь знаменитость.
Прошло день или два, и мы опять почти в том же составе стояли в холле. И опять мимо нас прошел Миронов, но на этот раз без Осетрова. Он шел, как всегда, медленно, как всегда с неподвижным каменным лицом, как всегда – не здороваясь. Все стало на свое место.
Отношение Миронова к адвокатам следовало бы назвать пренебрежительным. Его отношение к подсудимым было враждебно-издевательским. Я не думаю, что эта враждебность определялась спецификой нашего дела, его политическим характером. Миронову просто доставляла удовольствие сама возможность унизить человека, проявить свою власть над незащищенным, зависящим от него, будь то подсудимый или даже свидетель.
Но все это я узнала потом. Первое же мое знакомство со стилем работы Миронова произошло так. Утром, когда рабочий день в суде только начался, вдоль широкого коридора третьего этажа старого здания Московского городского суда шествовала следующая процессия. Впереди, указывая дорогу, шла секретарь спецканцелярии Валя Осина. За ней адвокат Швейский, неся на вытянутых вперед руках уложенные стопкой тома дела. Замыкала это шествие я. Так же, как и Швейский, я несла большую стопку томов в коричневых обложках. На каждом томе было написано: «Дело по обвинению Гинзбурга, Галанскова и других».
Внезапно я услышала громкий голос. Выглянув из-за стопки томов, я увидела высокого плотного мужчину, тяжело опиравшегося на палку. Он только что поднялся по крутой лестнице на третий этаж и еще не мог отдышаться.
– Почему вы позволяете себе надо мной издеваться? – громко и с явным раздражением спрашивал он, обращаясь к Вале. – Сколько раз я должен подниматься сюда и опять спускаться, чтобы получить простую справку. Я хочу знать, на когда назначено дело Гинзбурга. Почему вы не отвечаете мне?
– Я уже объяснила вам, что ничего о таком деле не знаю. Такого дела в нашей канцелярии нет, – отвечала ему Валентина, с отчаянием оглядываясь на нас и как бы проверяя, сможет ли ее собеседник прочесть крупную надпись на обложке верхнего тома: «Дело по обвинению Гинзбурга…»
– Владимир Яковлевич, – это незнакомец обращается к Швейскому, – может быть, вы объясните мне, что здесь происходит?
Но Швейский не успевает ответить, как Валентина вмешивается в разговор.
– Я могу дать вам совет, – говорит она, – обратитесь к товарищу Миронову. Если такое дело действительно поступило в Московский городской суд, Миронов, несомненно, знает о нем.
И уже нам:
– Пожалуйста, товарищи адвокаты, пойдемте. Я покажу, где вы будете работать.
Всю нелепость ситуации, в которой мы оказались, я оценила, когда узнала, что встретившийся нам мужчина был клиентом Швейского по этому делу. Именно он, знаменитый генерал Петр Григоренко, обратился к Швейскому с просьбой защищать Добровольского[4]4
Бывший генерал Петр Григоренко – одна из самых ярких фигур диссидентского движения. В 1961 году он – генерал, начальник кафедры Военной академии имени Фрунзе, кавалер множества боевых орденов, старый и убежденный коммунист – выступил на партийной конференции с критикой деятельности всесильного в ту пору Хрущева. Тогда Григоренко отделался строгим выговором по партийной линии и переводом с большим понижением по службе на Дальний Восток. Но он и там продолжал публично критиковать политику партии и правительства и в конце концов был изгнан из партии и из армии. А позже последовали арест и заключение в специальную психиатрическую больницу. Уже в эмиграции он подвергся в Соединенных Штатах обследованию двух известных американских психиатров и был признан абсолютно психически здоровым.
[Закрыть].
Надо сказать, что, направляя генерала Григоренко к Миронову, Валя прекрасно знала, что Миронов его не примет.
Конечно, судья не обязан сам принимать посетителей и отвечать на интересующие их вопросы. Но Миронов запретил секретарям давать такие справки.
Я пыталась тогда найти какое-нибудь разумное объяснение этому распоряжению. Но не могла. Уверена, что распоряжение Миронова было просто формой издевательства над этими и без того измученными горем людьми.
Однако основное, что в те дни волновало адвокатов, был не дурной характер Миронова, а явная невозможность из-за недостатка времени серьезно подготовиться к предстоящей защите.
Изучая дело в КГБ, все мы старались как можно полнее зафиксировать в своем досье все существенное. Но, естественно, переписать 19 томов следственных материалов было невозможно. Дома, перечитывая свои записи, каждый из нас наметил вопросы, которые требовали уточнения, в которых надо было разобраться дополнительно. Так неизбежно бывает при изучении большого дела с разнообразным следственным материалом.
Решить эти проблемы за несколько дней, которые нам предоставили для подготовки, было тем более невозможно, что каждый из нас должен был хотя бы два дня посвятить беседе со своим подзащитным, хотя бы дважды встретиться с ним до суда и вновь после полуторамесячного перерыва готовить его к судебной процедуре. В порядке судебной подготовки к делу, от имени всей защиты мы заявили два самостоятельных ходатайства. Первое – отложить слушание дела на 5–6 дней; второе – в соответствии с процессуальным законом слушать дело в открытом заседании. (Так как Миронов, без всяких к тому оснований, руководствуясь только тем, что на обложке стоял уже знакомый моему читателю индекс «С», то есть «секретно», решил рассматривать его в закрытом судебном заседании.) Вот против этого незаконного решения, никак не вытекавшего из сущности предъявленного обвинения, мы решили возражать.
В тот вечер через секретаря нам сообщили, что дело будет слушаться в точно назначенный срок, и, следовательно, в первом ходатайстве нам было отказано. Второе же ходатайство будет рассмотрено позже.
Мы решили, что, как только откроется судебное заседание, вновь заявим это ходатайство, а пока, еще до встречи с нашими подзащитными, нам нужно было обсудить и выработать общую линию защиты по центральному и наиболее тяжелому обвинению, связанному с распространением и хранением литературы, изданной Народно– трудовым союзом (издательства «Посев» и «Грани»), а также в преступной связи с этой организацией.
НТС, с точки зрения советских властей, не просто антисоветская по своим идеям зарубежная организация, а организация, имеющая целью
…свержение существующего в СССР строя и реставрацию буржуазных порядков путем идейной и вооруженной борьбы с коммунистической властью.
(Цитирую по обвинительному заключению и по приговору Московского городского суда по делу Галанскова.)
Все, исходящее от НТС, – журналы, книги, брошюры – автоматически признавалось антисоветским. Распространение и даже хранение такой литературы было достаточным для привлечения к уголовной ответственности.
«НТС – на службе ЦРУ», «НТС – зарубежный филиал ЦРУ», «НТС – шпионская организация» – вот те обычные определения, которые сопровождали всякое упоминание об НТС в советской прессе.
Первый вопрос, который стоял перед адвокатами, был: действительно ли НТС является антисоветской организацией? Может ли защита оспаривать этот тезис обвинения?
Мое знакомство с политической литературой, издаваемой НТС, ограничивалось тогда брошюрами, изъятыми при обыске у Добровольского и приобщенными к делу. Такая же степень осведомленности была и у моих коллег. Но даже того немногого, что мы прочли, было достаточно, чтобы прийти к категорическому выводу: оспаривать этот тезис обвинения невозможно. И не потому, что это опасно или тактически вредно, а потому, что НТС действительно является антисоветской организацией. Ее цель – не демократизация и либерализация советского режима в рамках уже существующего государственного строя, а замена его принципиально новым политическим режимом. Авторы брошюры «Солидаризм – идея будущего» и других книг и статей, которые мы тогда читали, исходили при этом из того, что Советский Союз является тоталитарным государством. Авторы этих брошюр, книг и статей не только подвергали убедительной критике все основы советской государственности, но и призывали к борьбе со старым и за установление нового режима с использованием при этом самых разнообразных средств от идеологической борьбы до освободительной революции и насильственного свержения власти.
Мы все были согласны, что спорить с антисоветским характером литературы, призывающей к свержению существующего строя, защита не может. А раз существует закон, карающий за распространение такой литературы, то юрист обязан признать, что закон нарушен и его подзащитный виновен. Однако все мы были также единодушны в том, что соглашаться с обвинением можно, только анализируя содержание каждой брошюры в отдельности и категорически отвергая тезис обвинения: «Все, изданное НТС, является антисоветским».
Такова была общая принципиальная позиция защиты, которую мы потом последовательно проводили в судебном следствии и в защитительных речах. Никто из нас от этой позиции не отошел, несмотря на то что Золотухин и я просили суд об оправдании наших подзащитных по всей группе эпизодов, связанных с НТС. Ария, защищавший Лашкову, просил переквалифицировать обвинение со статьи 70 Уголовного кодекса (антисоветская пропаганда) на статью 190-1 (клевета на советский государственный и общественный строй), а Швейский признавал обвинение доказанным.
В суде Галансков отрицал сам факт получения, чтения и распространения антисоветской литературы. Именно поэтому у меня было право и даже обязанность утверждать, что это конкретное обвинение является недоказанным. Лашкова и Добровольский признали, что читали и давали читать другим эти брошюры, и их защитники сделали все то, что, оставаясь в рамках закона, мог сделать адвокат.
Второй вопрос, по которому мы, адвокаты, несмотря на антагонистические противоречия между нашими подзащитными, хотели достичь единства, – это оценка криминальности литературно-публицистических произведений, которые были помещены в составленном Галансковым «Фениксе-66» и в «Белой книге», составленной Александром Гинзбургом. Это была очень трудная и очень ответственная часть подготовки к делу. Вновь и вновь перечитывали мы эти произведения, обсуждали совместно каждую сомнительную фразу. Тот спор, который вел с обвинением каждый из нас в суде, во многом был результатом общего, коллективного труда, тех единодушных выводов, к которым мы пришли после долгих споров, расхождений в оценках и новых, уже во время судебного процесса, размышлений.
С адвокатами Арией, Золотухиным и Швейским меня связывали долгие годы совместной работы и, уверена, взаимного уважения.
И, как ни странно, труднее всего писать именно о них, о тех, кого никогда не называла полным именем, к кому всегда обращалась с дружеским «ты», с которыми столько часов, дней и лет провела в одних и тех же судебных залах.
Каждый из них настоящий профессионал, адвокат высокой квалификации и несомненного таланта.
Семен Ария, Владимир Швейский и я – люди одного поколения. Борис Золотухин гораздо моложе. Когда слушалось дело, ему было не более 35–36 лет. В адвокатуру он пришел из прокуратуры Москвы. Пришел уже с именем прекрасного судебного оратора, с репутацией образованного юриста и принципиального, независимого человека.
Борис был блестящим адвокатом. Природа наградила его талантом, который сочетался с требовательностью к себе, постоянной неудовлетворенностью собой.
Дело Галанскова и Гинзбурга было первым политическим делом в практике Золотухина. Оно стало и последним его делом. О том, как Золотухин был исключен из Московской коллегии, как происходила эта отвратительная по своему цинизму и несправедливости расправа, я расскажу в следующей главе. Сейчас же мне хочется только добавить, что за все годы моей работы в адвокатуре у меня не было лучшего, более преданного и более любимого мною друга, чем он.
В начале декабря мы четверо с утра до вечера, не давая себе отдыха, готовились к процессу. Назначенный день открытия процесса приближался, а у нас возникали все новые и новые вопросы, порождавшие все новые и новые решения. Как вдруг на третий или четвертый день нашей работы Миронов через секретаря спецканцелярии сообщил: слушание дела откладывается. Наша просьба удовлетворена.
Как радовались мы тогда в первые минуты, когда, перебивая друг друга, задавали один и тот же вопрос:
– Когда будет слушаться дело? На сколько отложено?
– Не знаю, товарищи адвокаты. О новой дате слушания дела вас известят дополнительно. Работайте спокойно, времени у вас теперь совершенно достаточно.
Когда мы остались одни, когда первая минута радости прошла, так же одновременно прозвучало:
– Что это может значить? Почему Миронов решил отложить процесс? Почему отложил его на неопределенный срок?
Казалось бы – чему мы удивились? В чем сомневались? Сами просили отложить дело, а теперь, когда наша просьба удовлетворена, ищем в этом какой-то скрытый смысл, а может быть, и угрожающий признак.
Если бы Миронов отложил дело на 3–5 дней, мы бы тоже удивлялись – политические процессы обычно не откладывают, как бы настойчиво об этом ни просила защита. Но дело откладывалось на неопределенный и, очевидно, длительный срок. Следовательно, сделано это было не для адвокатов. Мы понимали, что за кулисами этого процесса что-то происходит. Что где-то вне суда принимаются, возможно, новые решения, для выполнения которых требуется время, и что наше ходатайство было использовано лишь как благовидный предлог.
И опять шли дни. Мы уже закончили подготовительную работу, уже каждый из нас по нескольку раз беседовал со своим подзащитным, уже кончился декабрь и наступил новый – 1968-й – год.
4 января в консультацию пришла телефонограмма: дело Галанскова назначено на 8 января в 10 часов утра.
На третьем этаже Московского городского суда расположены несколько кабинетов судей и один зал судебного заседания. Это самый большой зал в суде. Он занимает почти весь этаж. В этом зале происходят совещания московских судей. Когда слушаются дела с большим числом обвиняемых (20–30 человек), они проводятся в этом зале.
Подсудимые тогда сидят не сбоку за барьером, а впереди – прямо перед судом. Сидят на длинных деревянных скамейках со спинками и подлокотниками. По два человека на скамейке, чтобы оставалось место, куда положить бумагу для записи, тетрадь с выписками из дела; чтобы каждый из них, устав, мог опереться на подлокотник.
Когда 8 января мы вошли в этот большой зал, где должно было начаться слушание нашего дела, мы его не узнали. Скамьи были вынесены. Половина зала была пуста. А перед судейским столом на значительном расстоянии друг от друга стояли четыре узких стула. За ними опять пустое пространство, и уже где-то ближе к концу зала в несколько рядов места для публики.
Вскоре эти места были заняты специально приглашенными. Несколько человек из Верховного суда РСФСР, из прокуратуры республики, журналисты, подобранные властями, сотрудники следственного управления КГБ. Увидела среди приглашенных и знакомого кинорежиссера, о чьих личных дружеских связях с высшими чинами КГБ он сам рассказывал. Даже убеждал, что Юрий Владимирович (Андропов) очень добрый человек: каждый раз, когда дает санкцию на арест диссидента, он расстраивается почти до слез.
Были и какие-то незнакомые мне люди из Московского комитета партии, представители московского партийного аппарата. Свободными остались всего несколько мест, очевидно специально зарезервированных, чтобы потом по ходатайству защиты разрешить присутствовать на суде самым близким родственникам подсудимых – родителям и женам. Ни одного из друзей в зал не впустили.
Ввели арестованных. Впервые увидела Веру Лашкову. Вера показалась мне совсем девочкой. Очень худенькая, тоненькая. На тонкой шее маленькая головка. Волосы затянуты назад и схвачены резинкой. Она и Гинзбург заняли первые два стула, ближе к суду. Около каждого из них – солдат с автоматом.
Во втором ряду Галансков и Добровольский и тоже солдаты с автоматами.
В эти считанные минуты, оставшиеся до начала заседания, мы беседуем со своими подзащитными. Какие-то последние наставления. Помню, как вступила в спор с начальником конвоя, требуя, чтобы для подсудимых, хотя бы для больного Юрия, поставили вместо стула скамейку. Но вмешался сам Юрий:
– Мне не нужно от них ничего. Буду сидеть как все.
И так провел пять дней процесса, корчась от боли, сгибаясь или стараясь поднять колени как можно выше, но ни разу не пожаловавшись.
Странная это вещь – адвокатская психология. Я хорошо помню, как, когда знакомилась с делом еще в первой стадии – в Лефортовской тюрьме, с каждым днем уходили сомнения первых дней. Как все больше крепла уверенность – Добровольский лжет, он оговорил Юрия. Это было не только результатом знакомства с материалами дела. Не только потому, что объективные доказательства способствовали такой убежденности. Но и потому, что, вопреки моему желанию, сознание очень охотно воспринимало все то, что говорило в Юрину пользу. Добровольский действительно в те дни стал для меня врагом номер один.
Длительный перерыв до рассмотрения дела в суде был временем раздумий над конструкцией защиты и анализа собранных следствием документов. В вопросе о конструкции зашиты мои сомнения относились лишь к некоторым деталям. К тому, как более убедительно, более аргументированно построить спор с обвинением. В том же, что я должна спорить с обвинением, сомнений никаких не возникло.
Я не только не могла – я обязана была вести этот спор даже в том случае, если бы вещественные доказательства были найдены не у Добровольского, а у Галанскова. Даже если бы Юрий не три, а десять раз менял свои показания. Это профессиональный долг. Сомнения, которые мучили меня в то время, относились к другому вопросу.
Ведь, защищая Юрия, я становилась в этой конкретной ситуации обвинителем другого человека, не менее Юрия перестрадавшего. Такая ситуация, конечно, не уникальна. В практике каждого адвоката в обычных уголовных делах она встречается довольно часто и требует от защитника большого профессионального умения и такта, чтобы не перейти грань. Не увлечься самим азартом борьбы, который может заслонить судьбы живых людей. И не только судьбу другого подсудимого, но и собственного подзащитного.
Ведь агрессивная защита всегда вызывает ответную агрессивную реакцию. И тогда обвинение и суд получают возможность черпать из защитительных речей новые доказательства и аргументы виновности уже не одного, а обоих подсудимых.
Готовясь к защите, я понимала, что спора с Добровольским избежать не смогу. Больше того, я не смогу просто сказать, что Добровольский оговорил Юрия; я должна буду сказать и то, во имя чего он на эту ложь пошел. А значит, сказать: он виноват, он спасает себя, перекладывая вину за реально совершенные им действия на Галанскова.
Такая позиция была оправдана профессиональным долгом – защищать всеми законными средствами, а значит, и профессионально этична.
И все же какое-то внутреннее сомнение оставалось.
Когда перечитывала нелогичные показания Юрия, все чаще стал возникать вопрос: а вдруг? А вдруг в показаниях Добровольского о Галанскове не все ложь?.. Были такие детали в его показаниях, которые находили пусть косвенное, но все же подтверждение в показаниях Лашковой, чье поведение на следствии было разумным (а потом в суде – безупречным). Я легко могла найти для всех этих деталей вполне правдоподобное объяснение. Они не изобличали Юрия, а лишь порождали сомнения. Но даже если признать, что Галансков совершил все, в чем его обвиняли, он все равно, на мой взгляд, не заслужил бы нравственного осуждения. Я не видела тогда и не вижу сейчас ничего безнравственного в том, чтобы получать, читать самому и давать читать другим литературу, изданную любым издательством и развивающую любые идеи. Не вижу ничего безнравственного и в том, чтобы писать зашифрованные письма, так как безнравственным может быть содержание письма (а в этом Галанскова не обвиняли), а не способ, которым оно написано. Государство само своим тотальным полицейским надзором, перлюстрацией частных писем толкает граждан на то, чтобы пользоваться такими методами.
Связь с НТС тоже не вызывала у меня осуждения, если эта связь не приводила человека к совершению безнравственных поступков.
Нравственный аспект защиты в политических процессах приобретает особое значение, и это, безусловно, сказывается на методе и тактике самой защиты. Эти методы с трудом поддаются классификации, но они, несомненно, существуют. Не случайно в деле о демонстрации на Красной площади никто из адвокатов не пользовался в своей защите такими обычными аргументами, как меньшая, по сравнению с другими подсудимыми, роль его подзащитного. Не выясняли вопросов о том, кто был инициатором демонстрации, кто писал лозунги. Адвокаты тогда восприняли высоконравственную линию поведения своих подзащитных.
Обычная для уголовных, но необычная для политических дел коллизия между подсудимыми – между Добровольским и Галансковым – не освобождала адвоката от повышенных нравственных требований к самому себе. Казавшийся мне раньше справедливым пафос разоблачения Добровольского постепенно перестал казаться таким справедливым. Упреки в его адрес переставали казаться заслуженными.
С этим чувством я и пришла в суд. Я хотела сохранить это ощущение отстраненности, которое давало возможность быть беспристрастной и объективной.
Но вот после обычной процедуры начала судебного заседания, после чтения обвинительного заключения начался допрос первого подсудимого – Алексея Добровольского. И с каждой минутой, с каждой произносимой им фразой, с каждым упоминанием имени Юрия возвращалось прежнее ощущение, прежняя эмоциональность восприятия.
– Галансков сказал, что встречается с иностранцами, получает от них литературу, средства тайнописи, деньги и шапирографы.
– Литература, которую привозили Галанскову, была издана НТС.
– Галансков передал на Запад «Белую книгу» через иностранца Генриха.
– От Генриха Галансков получал деньги в советской и иностранной валюте.
– Галансков говорил, что передал «Феникс» через иностранку Надю, – она сотрудница «Граней».
– Галансков дал мне шапирограф и антисоветские листовки для размножения.
– Галансков говорил, что он поддерживает связь с НТС путем переписки через особую копирку – тайнописью.
– От Галанскова я получил обнаруженные у меня при обыске 2 тысячи рублей.
– Деньги, которые передал Генрих Галанскову, предназначались как помощь в деятельности Галанскова.
– Галансков воспитывал меня в духе тех принципов, которые пропагандировал НТС (Протокол судебного заседания. Листы дела 173–176).
Таково содержание ответов Добровольского на вопросы прокурора Терехова. Нужно ли удивляться тому, что с первого же дня процесса Добровольский вновь стал для меня врагом номер один. Я уже не думала о том, что Добровольский измучен арестом и длительным сроком тюремного заключения, хотя ни на минуту не забывала об этом, когда речь шла о Галанскове. Исчезло свойственное мне сочувствие к человеку в беде.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































