Текст книги "Записки адвоката"
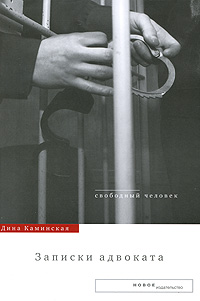
Автор книги: Дина Каминская
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
И опять говорит Владимир Буковский.
Показания 5 мая 1967 г. (том III, лист дела 157).
Свои политические убеждения не скрываю и привык говорить о них открыто. Мои политические убеждения как противника коммунизма сложились к 1960 году и с тех пор почти не претерпели изменений.
Я противник монопольной роли коммунистической партии в осуществлении демократических свобод. Считаю, что демократическим и правовым государство будет только тогда, когда обеспечит гражданам демократические свободы. Изменять свои убеждения или отказываться от них я не собираюсь.
Этими словами закончил Буковский в том – 1967-м – году свой разговор с КГБ. Больше ему вопросов не задавали.
Наверное, никогда раньше, до защиты Владимира, я не испытывала такого страстного желания помочь человеку, желания, соединенного с пониманием того, что передо мной стена, прошибить которую не могу ни логическими рассуждениями, ни ссылками на закон.
(Потом, в последующих политических делах оба этих чувства возвращались всегда. Они не ослабевали со временем, не становились менее мучительными.)
Дни и часы я проводила за изучением этого, такого несложного по своей фабуле, по правовой структуре, но такого необычного для советской жизни дела. Для меня было уже совершенно ясно, что я буду ставить вопрос об отсутствии состава преступления и об оправдании Владимира. Сказала я об этом и ему.
Так из «предполагаемого» защитника я превратилась в защитника, которому он начал доверять.
Помогло этому и то, что я не последовала совету моих товарищей по защите и не заявила ходатайства о проведении повторной стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Мои коллеги были тут, собственно, передаточным звеном. Инициатива, как я поняла, исходила от руководства Следственного управления КГБ.
Такое ходатайство открывало новый, казавшийся моим товарищам выгодным путь для разрешения всего дела: «Буковского направят на экспертизу, и дело будет приостановлено. Это даст возможность оттянуть слушание дела до празднования пятидесятилетия советской власти, а следовательно, до амнистии. При любом заключении экспертизы Буковский выигрывает. Если он будет признан здоровым, он, как и наши подзащитные, подпадет под действие Указа об амнистии. Если же, вопреки ожиданиям, его признают душевнобольным, то принудительное лечение в психиатрической больнице все равно лучше, чем суд и лагерь». Мои коллеги были совершенно искренни, давая такой совет. В те годы никто из нас даже отдаленно не мог предположить, что психиатрия станет средством борьбы с инакомыслием, способом самой чудовищной, антигуманной расправы с ним.
Дело Буковского было первым в моей практике, породившим такие подозрения.
О том, что Владимир уже несколько раз подвергался психиатрическому обследованию и даже принудительному лечению в специализированной больнице, я знала еще до встречи с ним, как знала до встречи с ним о его детстве, обстановке в семье. Знала о его вкусах и склонностях, интересах, особенностях его характера.
Его мать – Нина Ивановна Буковская – очень быстро почувствовала ко мне доверие. Поняла, что я спрашиваю ее обо всем этом не из любопытства, что это часть моей подготовки к защите. А я, в свою очередь, радовалась, что она человек умный, наблюдательный и очень объективный в своих оценках. Но когда она сказала, что Владимира признавали невменяемым, направляли на принудительное лечение, долгое время держали в сумасшедшем доме только за его политические взгляды, что он совершенно здоровый человек, – я ей не поверила.
Нина Ивановна прекрасно знала, что надежды на то, что Владимира после суда отпустят домой, нет. Она знала, что его ждет лишение свободы. Я видела, чего ей стоило быть всегда выдержанной, держаться с достоинством. Но когда нам приходилось говорить о времени, которое Владимир провел в психиатрической больнице, она теряла самообладание. Она никогда не плакала, но лицо ее покрывалось сплошным красным пятном. Я видела, что она боится больницы для Владимира гораздо больше, чем лагеря.
И все же я не могла поверить в то, что она рассказывала. Не могла допустить, что в сумасшедший дом сознательно помещали здорового человека. И, естественно, считала, что не могу руководствоваться ее мнением и противопоставить его мнению профессионалов. Сомнения появились и все более увеличивались после встречи с Владимиром. Его ясный ум, способность логически мыслить и четко формулировать мысль, отсутствие всякой нервозности, взвинченности удивительно противоречили моему хотя и непрофессиональному, но и не совсем дилетантскому представлению о душевнобольном человеке.
Заключения психиатров усилили мои сомнения.
За сравнительно короткий срок (с 1963 года) Владимир успел пройти два стационарных обследования в Московском институте имени Сербского, два года находился в специальной Ленинградской психиатрической больнице, затем в такой же больнице в подмосковном городе Люблино, потом в психиатрической больнице «Столбовой».
В период следствия по нашему делу его вновь подвергли психиатрической экспертизе и на этот раз признали вменяемым.
Сколько врачей его смотрели за это время, а выводы оказывались совершенно разные, взаимоисключающие: «вялотекущая форма шизофрении», вывод – «невменяем»; «психопатическое развитие личности», вывод – душевным заболеванием не страдает, вменяем, ответственен за свои действия.
Я не могла отнести противоречивость выводов за счет сложности диагностики, неясности клинической картины или существенных изменений в его состоянии – развитии или компенсации заболевания, так как в описательной части каждого из актов экспертизы перечислялись одни и те же симптомы. Я впервые столкнулась с медицинскими документами, в которых независимость политических суждений и критика советского образа жизни открыто признавались признаками душевного заболевания.
Я обратилась за консультацией к двум крупным психиатрам – клиницистам с многолетним опытом работы в психиатрических больницах. Оба моих консультанта, независимо друг от друга, пришли к абсолютно совпадающим выводам. Они отказались дать категорическое заключение о психическом состоянии человека, которого не видели, но утверждали, что приведенная в документах симптоматика не давала оснований для признания его душевнобольным.
Помню, как один из них все никак не мог поверить, что я показываю ему точную копию заключения экспертизы.
– Вы уверены, что переписали все, ничего не упустили? Не может быть, чтобы только по таким симптомам врач позволил себе констатировать болезнь. Это было бы чудовищно!
Когда мои коллеги пришли ко мне с предложением заявить ходатайство о направлении Владимира на экспертизу, я уже прошла весь этот путь от сомнений до уверенности. Я считала, что не обязана, пользуясь противоречиями в заключениях, настаивать на повторном обследовании. А право на то, чтобы использовать эти противоречия для «облегчения» участи Владимира, принадлежит не мне, а ему. Я считала, что только он может решить, действительно ли это облегчение и хочет ли он этим облегчением воспользоваться. Вот почему я отказалась заявить ходатайство.
Не согласился на этот путь, на это «облегчение», и Владимир. Именно тогда, по собственному его признанию, он окончательно поверил в то, что у него «честный» адвокат.
Мы привыкли друг к другу в долгие часы и дни ознакомления с делом; и все же настоящей слаженности в работе, которая была у меня потом с Павлом Литвиновым и Ларисой Богораз (Даниэль), не получилось.
Частично это можно объяснить несовпадением задачи, которую каждый из нас ставил перед собой. Моей задачей было защищать, то есть применительно к этому делу дать правовой анализ статьи 190-3 Уголовного кодекса, статьи 125 Конституции и тех материалов дела, которые непосредственно относились к самой демонстрации. Владимир же ждал суда как открытой трибуны, которая впервые даст ему возможность высказать «все». Защита правомерности демонстрации была для него лишь частью общей задачи. Он хотел втиснуть в рамки последнего слова все свои политические взгляды и убеждения. Я стремилась помочь ему, чтобы его выступление было очень четким, концентрированным, чтобы он не загромождал его несущественными деталями.
Главным препятствием, как это ни покажется странным, оказались познания Буковского в уголовно-процессуальном законодательстве.
Время содержания под стражей до суда он использовал для изучения процессуальных законов и пришел на свидание со мной с ощущением первооткрывателя. Его цепкая память действительно вобрала, наверное, все 420 статей российского процессуального кодекса. Но от этого он не стал юристом, не обрел способности отбора. Его знания были знаниями дилетанта, уверенного в том, что он один является обладателем этого богатства.
Интересно, что тогда, во время нашей беседы в тюрьме, буквально засыпая меня номерами статей Уголовно-процессуального кодекса, которые не были соблюдены следствием, он ни разу не заговорил о действительно серьезном нарушении закона.
В самом начале расследования дела о демонстрации из него были выделены все материалы об одном из ее участников (Хаустове), и дело в отношении его рассматривалось судом отдельно. Постановление о выделении дела Хаустова было грубым нарушением закона и реально ущемляло законные интересы остальных обвиняемых.
Вошедший в законную силу приговор по делу Хаустова предопределял судьбу остальных обвиняемых. Этот приговор не только устанавливал, что сам факт активного участия в демонстрации 22 января около памятника Пушкину является грубым нарушением порядка и, следовательно, уголовным преступлением, но и перечислял имена тех, кто был этими активными участниками. Так задолго до суда над Буковским, Делонэ и Кушевым вопрос об их виновности был закреплен приговором по делу Хаустова.
Возможно, есть доля и моей вины в том, что Владимир не сумел почувствовать ко мне полного доверия еще тогда, в следствии, а потому не воспользовался некоторыми из моих советов.
Зато, как это ни странно, я почувствовала необычайное доверие ко мне со стороны одного из следователей, который отсиживал положенные часы, наблюдая за нашей работой. Часто уже после того, как Владимира уводили в камеру, мы оставались с ним в кабинете вдвоем. Я читала дело, а он просто томился от скуки. Тогда постепенно он начал рассказывать мне о себе, о своей прежней – до КГБ – работе, о жене, о сыне, которому было тогда 17 лет.
Почти каждый такой разговор переходил на дело, которое я изучала. Видно было, что оно его очень интересует, что ему любопытно, какую позицию по этому делу я займу. Как-то раз он прямо спросил:
– И о чем же вы будете просить суд, Дина Исааковна?
– Об оправдании. Следствие не доказало нарушения общественного порядка.
Он посмотрел на меня очень внимательно и только сказал:
– Трудное у вас положение, Дина Исааковна, – и замолчал.
А на следующий день опять:
– Вот вы говорите – оправдать. А как его оправдывать, когда он враг. На него ведь никакие уговоры не действуют. У него характер несгибаемый. Конечно, вы защитник, вы должны защищать, но что– то с ним делать все-таки надо.
Прошло еще несколько дней, и мы опять остались вдвоем.
– Знаете, Дина Исааковна, я все время думаю о вашем подзащитном. Все рассуждаю – в чем мы промахнулись, упустив такого человека. С таким ведь в разведку идти не страшно, такой никогда не подведет. В мужестве ему не откажешь.
Он это сказал так искренне, с таким неподдельным желанием самому разобраться в этом противоречии – «враг» и «в разведку идти не страшно», – что я поверила, что разговор, который он ведет, – это не провокация. Что он просто пользуется возможностью, редкой возможностью для работника КГБ, говорить с человеком, которого может не опасаться.
Владимир Буковский тоже вспоминает в своей книге этого следователя. Он пишет о рассказе следователя, почти дословно совпадающем с тем, который в те же дни довелось услышать мне. Это рассказ о войне. О том, как погибли, но не сдались его товарищи. О том, как немцы, по приказу своего командира, хоронили их с воинскими почестями.
– Они так хоронили своих врагов, но врагов мужественных. Вот и ваш Буковский хоть и враг, но за мужество я его уважаю.
Слово «враг» он употреблял в каждом разговоре о Владимире. Употреблял его как некое заклинание, успокаивающее совесть.
Обычно я его слушала молча, не вступая с ним в разговор, не возражая ему. Он следователь, я адвокат. Не с ним обсуждать мне достоинства или недостатки человека, которого он обвиняет, а я защищаю. Но в этот раз я не промолчала:
– Ну что же, будем считать эти слова о Володином мужестве теми воинскими почестями, которыми вы сопровождаете вами же подготовленные похороны.
Следователь больше не заводил со мной разговор ни в этот, ни в несколько последующих дней, последних дней моего ознакомления с делом.
Наступил последний день. Все материалы дела – показания обвиняемых, свидетелей, заключения экспертиз – были уже мною досконально изучены. Но я не уходила домой – хотела дочитать фотокопию книги Джиласа «Новый класс». Когда еще представится такая возможность! Мне было неловко, что я задерживаю нашего следователя – ведь он не вправе был уйти раньше меня. Я нервничала и мысленно ругала Владимира за отвратительное качество этой копии.
– Читайте спокойно, Дина Исааковна, – вдруг сказал следователь. – Я ведь тоже только здесь это прочел. Я подожду. Мне торопиться некуда.
Когда мы прощались в этот вечер, он очень прочувственно жал мне руку и желал всяческого счастья.
На улице было уже совсем темно. Я шла узким безлюдным переулком вдоль длинной стены, отгораживающей Лефортовскую тюрьму, как вдруг услышала поспешные шаги. Обернувшись, увидела догонявшего меня следователя.
– Мне хочется сказать вам еще несколько слов, Дина Исааковна. Я хочу сказать, что вы взяли на себя трудную задачу. Я не желаю вам успеха – ведь и вы понимаете, что судьба Буковского уже решена. Мы были обязаны его изолировать. Я вам рассказывал о моем сыне. Я его очень люблю. Я очень хочу, чтобы он был счастливым, чтобы у него была хорошая жизнь. Но я хотел бы, чтобы он обладал такими же человеческими качествами, как Буковский.
– Боюсь, что счастливая жизнь с такими человеческими качествами несовместима. Прощайте, я вам тоже желаю всего хорошего, – ответила я.
Больше этого человека я никогда не встречала. Не знаю, ушел ли он из КГБ, как пишет об этом Буковский. Хотелось бы верить, что это действительно так. Уж очень хорошая у него раньше была работа – работа школьного учителя.
СУДЯ ждал этого суда, как праздника, – хоть раз в жизни есть возможность громко высказать свое мнение… Никакой торжественности, трагичности – обычная казенщина, канцелярская скука и безразличие.
В. Буковский. «И возвращается ветер…»
Я не знаю судебного процесса, дни которого были бы для меня будничными и обычными, а тем более скучными. Наверное, потому они сейчас в моей памяти. С лицами судей, прокуроров, адвокатов и, конечно, моих подзащитных. Помню их имена, за что судили, где судили, кто судил.
Дни суда над Владимиром были для меня необычнее этих всегда необычных дней.
Неожиданность, необычность наступала по мере того, как я подходила к зданию Московского городского суда. Одиноко стоящие «фигуры в штатском» среди спешащей толпы привокзальной улицы. Необычайное скопление машин возле суда.
Вместо «Здравствуйте, товарищ адвокат», которым многие годы приветствовал меня постоянный милиционер суда, слышу:
– Вам куда? – И незнакомый человек в штатском преграждает мне дорогу, внимательно рассматривает мое адвокатское удостоверение. – Вы защитник Буковского? Проходите.
9 часов 50 минут. Звенит звонок, предупреждающий о начале рабочего дня. Сейчас вся ежедневная толпа посетителей, ожидающая на улице, вольется в здание, заполнит лестницы, коридоры, залы. Я уже слышу шум голосов.
Пустой коридор Московского городского суда. Я никогда не видела его таким. Ни посетителей, ни адвокатов, ни работников суда.
Уже потом узнала, что для нашего процесса полностью освободили целый этаж. Перенесли слушание других дел, переместили в другие комнаты справочное бюро и канцелярию.
Все для того, чтобы никто из посторонних не мог проникнуть в этот коридор, чтобы никто из непосвященных не узнал, что слушается политическое дело, что судят за демонстрацию.
Начало процесса задерживается – ждут прихода знаменитого эксперта-психиатра доктора Даниила Лунца. Суд вызвал его в заседание для дачи заключения о психическом состоянии Владимира Буковского.
А Владимир сидит за моей спиной, и каждый раз, поворачиваясь к нему, я вижу бледное спокойное лицо и улыбку. Он прекрасно владеет собой, но я знаю, что это спокойствие человека решившегося. Что он только ждет минуты, когда судья произнесет:
– Подсудимый Буковский, суд предлагает вам дать показания по предъявленному обвинению.
И тогда он выскажет им все, что он думает о советской демократии, коммунизме, тоталитаризме. Это его цель. Его задача. И никто и ничто не может его остановить.
Владимиру нужно, чтобы судья и прокурор прерывали его. Тогда он сможет изобличать их в нарушении законов, требовать занесения этих нарушений в протокол судебного заседания. Мне нужно, чтобы дело слушалось спокойно, чтобы суд не ограничивал меня в возможности выяснить у свидетелей то, что я считаю необходимым.
Владимир поставил перед собой цель доказать, что статья 190-3 Уголовного кодекса противоречит Конституции, что она незаконна. Я буду доказывать, что эта статья не противоречит Конституции. Это демагогический путь. Но для меня – единственный путь в борьбе с обвинением.
В Советском Союзе нет такой судебной инстанции, которой было бы дано право признать закон «противоречащим Конституции». У суда нет права критиковать закон. У него есть только одна обязанность – соблюдать закон.
Поэтому и адвокат не может просить суд сделать то, чего закон суду не дозволяет. Но я могу и должна утверждать в суде, что и после принятия нового закона – статьи 190-3 – граждане вправе пользоваться гарантированными Конституцией СССР политическими свободами. Что автоматически ставить знак равенства между демонстрацией протеста и грубым нарушением общественного порядка недопустимо.
Такое утверждение полностью основано на законе. Ни в самом тексте статьи 190 Уголовного кодекса, ни в последующих к ней комментариях слово «демонстрация» вообще никогда не употреблялось.
Для меня это не просто позиция в заведомо безнадежном деле. Для меня это часть борьбы с произволом и беззаконием. Это мое участие в правосудии. Мое место в борьбе за соблюдение закона.
Забегая несколько вперед, я хочу рассказать о небольшом эпизоде, связанном с показаниями Буковского в суде.
Владимир говорил суду, что, организовывая демонстрацию, он был абсолютно уверен, что она будет разогнана, что в распоряжении демонстрантов окажутся считанные минуты.
И тогда судья спросила его:
– Зачем же вы тогда затевали это бессмысленное дело?
– Я не считал нашу демонстрацию бессмысленной и сейчас уверен в том, что это не так. Люди, которые шли по улице, сохранили в своей памяти, что они были свидетелями свободной демонстрации. Они вспомнят о том, что этот забытый метод выражения протеста существует. Вот и вы, гражданин судья, не забудете нашего дела и нас. Вы и потом будете думать о людях, которые вышли открыто выразить свое мнение и которых вы осудили. Так что наша демонстрация была совсем не бесполезной.
Я помню, как внимательно слушала Владимира судья Шаповалова. Ее долгий, пристальный взгляд, пауза. И потом:
– Продолжайте, Буковский, мы вас слушаем.
Так и я, несмотря на то что знала предрешенность этого дела, не считала занятую мною позицию бессмысленной. Как никогда не считала бессмысленной борьбу за точное соблюдение закона, сколько бы раз ни приходилось терпеть в этой борьбе поражение.
Мне больше никогда не приходилось участвовать в судебных процессах под председательством Шаповаловой. Она стала членом Верховного суда РСФСР и уже не слушала дел по первой инстанции.
Но мы часто встречались в коридорах суда. Еще издали, завидев меня, она замедляла шаг и с подчеркнутой приветливостью здоровалась.
Судья Шаповалова перебивала Владимира, когда он проводил параллель между фашистской Испанией и Советским Союзом. Она перебивала его, когда он говорил о произволе в нашей стране. Но я не знаю другого судьи, который позволил бы сказать ему и половину того, что выслушала Шаповалова. Шаповалова осудила его, прекрасно понимая правовую абсурдность обвинения. Но мне кажется, что она не забыла ни этого дела, ни Буковского…
…Наконец появился наш эксперт Даниил Лунц.
Невысокого роста, всегда очень тщательно одетый, очки в толстой роговой оправе. Гладко зачесанные, поседевшие на висках черные волосы. Многие называли его потом «полковником КГБ в белом халате». Но он не был похож на полковника. У него был вид вполне интеллигентного штатского человека. И он действительно происходил из очень интеллигентной и достойной семьи. Его отец был еще до революции известным в Москве детским врачом. Пользовался огромным уважением и популярностью. Он бросил Москву, бросил годами налаженную практику и уехал в деревню – бесплатно лечить крестьянских детей.
Имя его сына – эксперта-психиатра Даниила Лунца впоследствии получило широкую известность, но известность печальную и позорную. Он – ученый, врач с многолетним опытом – стал тем, чьими руками КГБ карал инакомыслящих «пыткой психиатрии». Сейчас начнется судебный процесс.
Секретарь дает распоряжение впустить публику. И сразу же наш небольшой зал наполнился, набился до отказа какими-то необычными для суда людьми. Они все знали друг друга, громко разговаривали, смеялись, какая-то единая по своему облику «оперативно-комсомольская» масса.
Потом это станет привычным, будет повторяться во время каждого процесса над инакомыслящими. Я начну отличать тех, кого видела раньше, от тех, кого впервые включили статистами в эту массовку. Они нужны были для того, чтобы заполнить зал «своей», надежной публикой, чтобы не пустить в зал других – тех, кто с утра до вечера в течение трех дней будет стоять на улице перед судом и ждать каждой вести о своих друзьях-подсудимых. Так власти пытаются обеспечить закрытость этих «открытых» процессов. Так пытаются пресечь всякую возможность утечки информации из зала суда. И все же, чаще всего кому-нибудь из родственников подсудимых удавалось пронести в сумочке или в кармане пиджака магнитофон или кто-то умудрялся тайно стенографировать ход процесса.
Так после каждого процесса появлялась почти дословная запись всего того, что происходило в суде.
За столом защиты я и мои коллеги. Товарищи по профессии – противники по позиции в этом деле. Делонэ защищает адвокат Меламед, Кушева – адвокат Альский. Для них, как и для меня, это первый политический процесс.
Каждый советский адвокат, да и каждый человек, разбирающийся в советской действительности, прекрасно понимает разницу между тем, чтобы сказать в суде по политическому делу: «Мой подзащитный этого не сделал, это не доказано, и поэтому он должен быть оправдан», и утверждением: «Да, он это сделал, это доказано, но это не преступление».
Первое утверждение абсолютно аполитично и потому для адвоката безопасно. Второе же, пусть даже строго основанное на законе, всегда находится в оппозиции к идеологической партийной установке. Именно поэтому оно перерастает рамки правовой и приобретает черты политической защиты.
Если бы мои коллеги могли оспаривать сам факт участия Делонэ и Кушева в демонстрации, они безо всяких колебаний и оговорок ставили бы вопрос об их оправдании. Они произнесли бы эти магические слова:
– Прошу оправдать, – и снискали бы международную славу мужественных и принципиальных адвокатов. Но такая позиция в нашем деле была исключена. Участие всех обвиняемых в демонстрации было доказано. А защищать само действие, защищать право человека на участие в демонстрации протеста они не решались.
Оба они члены партии, и им вести идеологический спор в суде труднее, чем мне. Для них реально существует понятие партийной дисциплины и, особенно, партийной ответственности.
Как я жалела тогда, что дело Хаустова уже рассмотрено, что рядом со мной нет такого единомышленника, как Софья Васильевна Каллистратова. Мы с ней всегда поражались «синхронности» наших мыслей и даже совпадениям формулировок.
Уже после того, как моя кассационная жалоба была рассмотрена и отклонена Верховным судом РСФСР, Павел Литвинов принес мне запись нашего процесса и суда над Хаустовым. Даже из краткой записи видно, что, хотя Каллистратова признавала вину Хаустова в сопротивлении дружинникам, она, так же как и я и до меня, говорила о том, что участие в демонстрации не образует состава уголовного преступления, и просила об оправдании Хаустова по статье 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.
Позиция Меламеда и Альского значительно облегчалась тем, что само государственное обвинение признавало роли Делонэ и Кушева второстепенными. В тексте обвинительного заключения было записано, что они не были ни инициаторами, ни организаторами демонстрации. А их непосредственное участие расценивалось КГБ как менее активное по сравнению с Буковским и ранее осужденным Хаустовым.
Поэтому в суде допрос свидетелей по фактическим обстоятельствам дела для Меламеда и Альского должен был быть подчинен тому, чтобы эту второстепенную роль представить еще менее значительной. Доказать суду, что по степени активности действия Вадима и Евгения мало чем отличались от действий остальных участников демонстрации, которых к уголовной ответственности вообще не привлекли, хотя их имена были известны следствию.
Признавая сам факт участия в демонстрации преступным, адвокаты должны были убедить суд в несправедливости применения к их подзащитным сурового наказания – лишения свободы. Такая просьба к суду была тем более обоснованной, что санкция статьи 190-3 предусматривает, помимо лишения свободы, и такое наказание, как штраф или исправительно-трудовые работы (без направления в лагеря).
Тогда – 29 сентября – перед началом судебного заседания тезисы будущих защитительных речей моих коллег Меламеда и Альского кратко и упрощенно формулировались так:
1. Преступление доказано.
2. Преступные действия квалифицированы правильно.
3. Участие подсудимого в преступлении доказано.
4. При избрании меры пресечения просим учесть.
И далее обычное перечисление: молодость, первая судимость, чистосердечное раскаяние, тлетворное влияние Буковского и так далее и тому подобное.
Вправе ли были мои коллеги соглашаться с обвинением, основываясь на том, что Делонэ и Кушев признавали себя виновными? Обязаны ли были они следовать в защите линии признания вины, которую избрали их подзащитные? Было ли это полезно для достижения конкретной цели – защиты человека, которая всегда стоит перед адвокатом, независимо от того, выступает он в уголовном или политическом деле?
Советское право не дает четких ответов на эти вопросы. Исходя из общих положений советского права и по установившейся практике, позиция подзащитного может считаться обязательной для его защитника только в том случае, когда подсудимый утверждает, что он не совершал тех действий, в которых его обвиняют. Адвокат не вправе признать в суде доказанными те факты, которые отрицает его подзащитный. В тех же случаях, когда обвиняемый признает себя виновным, адвокат, в определенных ситуациях, может разойтись с ним в позиции. Если защитник видит, что обвинение основывается на признании, что нет других бесспорных доказательств вины, что признание противоречит объективным фактам, он не только вправе, но и обязан суд просить об оправдании «за недостаточностью доказательств».
Такая позиция не является чисто академической. Судебная практика знает случаи (хотя их, естественно, очень мало), когда суд, соглашаясь с такой позицией защиты, оправдывал обвиняемого.
Совершенно бесспорно, на мой взгляд, что в тех делах, где защита не оспаривает фактов, где возражения против обвинения ограничиваются толкованием закона и правовым анализом предъявленного обвинения (а именно таким было наше дело), адвокат абсолютно самостоятелен в выборе позиции и ни в какой мере не может считать себя связанным тем, что его подзащитный признает себя виновным. Ведь, не обладая юридическими познаниями, обвиняемый может ошибочно признавать совершенные им действия преступными в тех случаях, когда закон их преступлением не считает.
Значительно труднее ответить на вопрос: являлась ли позиция моих коллег тактически полезной? Имела ли она больше шансов на успех в силу ее реалистичности, чем заведомо безнадежная просьба об оправдании?
Естественно, что у адвоката, когда он просит о снисхождении, значительно больше надежд на то, что суд удовлетворит его просьбу (полное оправдание – явление достаточно редкое в советском правосудии) и победа будет одержана. Но я уверена, что и тот адвокат, который обоснованно просит суд об оправдании, если и терпит поражение, то при этом добивается такого же смягчения участи для своего подзащитного. Добивается потому, что, понимая необоснованность обвинения, но не решаясь вынести оправдательный приговор, судья всегда компенсирует это возможно более мягким наказанием. Именно это последнее соображение давало мне, помимо законного, и моральное право никогда не занимать в суде компромиссную позицию. Именно потому я считала, что позиция моих товарищей не оправдывалась желанием реально облегчить участь Делонэ и Кушева. Ведь, участвуя в политических процессах, адвокат не может руководствоваться тем, что исход дела предрешен. Он должен защищать так, как этого требуют закон и материалы дела. Иначе он неизбежно превращается в пособника судебного произвола.
Задача, которую я ставила перед собой, готовясь к допросу подсудимых и свидетелей, естественно определялась избранной мною позицией защиты Буковского.
В моем досье сохранились краткие тезисные наброски – план моей защиты. Привожу их в том виде, в каком были они тогда, когда я вовсе не предполагала выносить их на суд читателей.
1. Право граждан на демонстрацию гарантировано советской конституцией.
2. Являясь организатором демонстрации на площади Пушкина, Буковский предпринял все необходимое, чтобы никто из ее участников не нарушал общественный порядок.
3. Являясь участником демонстрации, Буковский сам не нарушил общественный порядок.
4. Вмешательство комсомольской оперативной дружины и последующий разгон мирной демонстрации были вызваны только содержанием поднятых лозунгов.
5. Такое вмешательство нельзя признать правомерным, так как содержание лозунгов не образует состава преступления, предусмотренного статьей 190-3 Уголовного кодекса РСФСР.
6. Вывод – просьба об оправдании Буковского.
Этой аргументации и соответствовал круг тех вопросов, которые я собиралась задавать свидетелям. Мне было важно, чтобы они подтвердили, что демонстрация не сопровождалась шумом и бесчинством, что вмешательство комсомольской оперативной дружины было вызвано только содержанием лозунгов, которые они (члены дружины) считали «антисоветскими» и «незаконными». Это последнее было особенно важно. Дело в том, что статья 190-1-3 предусматривает ответственность за совершение трех разнородных преступлений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































