Текст книги "Самодержавие на переломе. 1894 год в истории династии"
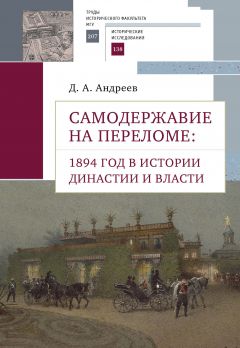
Автор книги: Дмитрий Андреев
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
По-видимому, при составлении текста царского выступления, Победоносцев ориентировался в том числе и на Манифест 13 июля 1826 г. «О совершении приговора над государственными преступниками», подписанный Николаем I в день казни декабристов и приуроченный к этому событию. Его текст подготовил М. М. Сперанский[460]460
На принадлежность Манифеста 13 июля 1826 г. перу Сперанского указывает В. А. Томсинов. См.: Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: исторический портрет М. М. Сперанского. М., 1991. С. 297.
[Закрыть]. В этом документе имеются три места, текстуально и по смыслу созвучные тому, что сказал 17 января 1895 г. правнук Николая I. Первое место: «Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, сердца развратные и мечтательность дерзновенную (курсив мой. – Д. Л.)». Второе место: «Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности (курсив мой. – Д. А.), коих начало есть порча нравов, а конец – погибель». Третье место: «Не от дерзостных мечтаний (курсив мой. – Д. А.), всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления»[461]461
ПСЗ. Собрание второе. Т. 1. № 465. 13 июля 1826.
[Закрыть]. Победоносцев, юрист по образованию, несомненно, хорошо помнил Манифест 13 июля 1826 г. и, возможно, перечитал его перед тем, как написать текст выступления Николая II.
Другой оборот, предложенный обер-прокурором императору, но, как показано выше, замененный последним, присутствовал в дискурсе самого Победоносцева. В 1881 г., через несколько дней после издания подготовленного им Манифеста о незыблемости самодержавия, он писал императору: «В среде здешнего чиновничества манифест встречен унынием и каким-то раздражением: не мог и я ожидать такого безумного ослепления»[462]462
Письма Победоносцева к Александру III. Т. 1: 1865–1882. М., 1925. С. 338.
[Закрыть].
На этом фоне не приходится сомневаться в том, что приписывание авторства царской речи вел. кн. Сергею Александровичу не имеет под собой оснований. Более того, судя по переписке и дневниковым заметкам московского генерал-губернатора, он накануне выступления Николая II вообще не общался с ним лично. 14 января Сергей Александрович писал брату, вел. кн. Павлу Александровичу: «Чувствую, что мне следовало бы поехать в Питер и многое сказать Ники, но не решаюсь – посмотрю!» Он считал, что «ехать и говорить» – это его «долг», дань памяти его державного брата, но тут же оговаривался: «Et avec cela en allant a P[eters]burg j’ai I’air de me donner tant d’importance (И вместе с тем, если я поеду в Петербург, это будет выглядеть так, будто я возомнил о себе, фр. – Д. А.) – если б кто-нибудь мог мне сказать и посоветовать – я все боюсь показаться нахалом, тем более что в данную минуту у меня нет предлога ехать»[463]463
Великий князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы. Кн. 5: 1895–1899. С. 23.
[Закрыть]. А 17 января, после выступления императора перед депутациями, Сергей Александрович порядка часа прогуливался со своим державным племянником и затем записал в дневнике: император «объявил, что говорил депутац[иям] и сказал великолепно все, все – я ликую!»[464]464
Там же. С. 70.
[Закрыть]. Обе приведенные записи убедительно свидетельствуют о том, что генерал-губернатор Москвы был в курсе готовившейся речи лишь в самых общих чертах, никак не участвовал ни в ее составлении, ни в разработке сценария выступления.
Что же касается «плагиата» Победоносцева резолюции Николая II на докладе Дурново, то здесь можно усмотреть начало интриги обер-прокурора против министра внутренних дел – интриги, завершившейся через несколько месяцев назначением на пост главы МВД ставленника Победоносцева – И. Л. Горемыкина.
На этом фоне уместно обратить внимание на один факт, приводимый А. Ю. Полуновым. Автор вслед за Ю. Б. Соловьёвым связывает записку о самодержавии, поданную обер-прокурором императору в январе 1895 г., с речью государя о «бессмысленных мечтаниях»[465]465
Полунов А. Ю. Указ. соч. С. 297. Саму записку см.: Начало царствования Николая II и роль Победоносцева в определении политического курса самодержавия // Археографический ежегодник за 1972 год. М., 1974. С. 311–318. В привязке к выступлению императора 17 января 1895 г. рассматривают эту записку также В. Л. Степанов и С. Л. Фирсов. См.: Степанов В. Л. Указ. соч. С. 154–155; Фирсов С. Л. Указ. соч. С. 103–104.
[Закрыть]. Признавая взаимосвязь обоих текстов, хочется указать на особенность победоносцевской записки, на которую оба историка не обратили внимания. Эта записка была написана по-французски. Указанное обстоятельство, а также само содержание записки (доказательство того, что самодержавие является единственной возможной для России формой организации власти) наталкивают на неожиданное предположение. Возможно, настоящим адресатом записки являлась именно молодая императрица, которой обер-прокурор на понятном для нее языке стремился объяснить основы государственного устройства той страны, в которой ей предстояло царствовать. В противном случае возникает вопрос: зачем Победоносцеву надо было все это доказывать императору, да еще по-французски? Тем более что на сегодняшний день не известно ни одного документа, написанного обер-прокурором Николаю II на французском языке.
Теперь историю с речью Николая II перед депутациями и реакцией на нее необходимо рассмотреть со стороны не власти и представителей высшей бюрократии, а земцев и – шире – тех, от чьего лица они выступали. И если разбирать событие 17 января в таком ракурсе, то наиболее важным представляется вопрос: действительно ли составители адресов просили самодержца всего лишь об ограничении произвола, препятствовавшего законной земской деятельности, и на тот момент были готовы тем удовлетвориться или же прошения об устранении препятствий, мешавших нормальной земской работе, были просто прикрытием конституционалистских идей?
Следует сразу сказать, что на поставленный вопрос невозможно дать однозначный ответ. Но вполне реально систематизировать некоторые факты, изложенные лицами, участвовавшими в подготовке адресов, или лицами из их круга как по свежим следам 17 января, так и уже в эмиграции, и дать им соответствующую интерпретацию.
Первым по времени появления свидетельством является статья бывшего – на январь 1895 г. – весьегонского уездного предводителя дворянства и, тоже в прошлом, гласного Тверского губернского земского собрания Родичева, который непосредственно готовил проект адреса тверских земцев. В изданной анонимно (поскольку автор находился в России и опасался преследований, даже о себе самом из соображений конспирации он говорил в третьем лице) в 1895 г. в Женеве статье (в виде отдельной брошюры)[466]466
См.: Первая царская речь: [17 января 1895 г.]. Женева, 1895.
[Закрыть], посвященной выступлению Николая II 17 января, он старательно проводил мысль, что в представленных императору земских адресах не содержалось ничего противоречившего действовавшим на тот момент Основным государственным законам Российской империи. По его словам, там говорилось лишь о важности функционирования земства в официально отведенных ему рамках, о необходимости строгого соблюдения законности на всех уровнях государственного управления и о чаемом «обуздании административного произвола». Из слов Родичева следовало, что некоей общей для всех адресов формулой могло бы стать утверждение: против «абсолютизма канцелярии» – за «истину самодержавия» как «оплота свободы жизни народной и прав личности». Тут же в статье утверждалось, что виной всем перекосам во внутренней жизни страны стала политика Александра III, который под «лозунгом авторитета власти» укреплял лишь «авторитет произвола» и в результате был обречен на «бессильную борьбу с запросами времени». От такой манеры властвования Россия «устала», и поэтому со вступлением на престол молодого государя «надежды зашевелились», общество стало внимательно следить за его первыми шагами и истолковывать их как свидетельства перемен. «Этому поверили» и посчитали возможным обратиться к верховной власти с просьбами о соблюдении законности, недопущении любого произвола, «доверии к обществу». (Иными словами Родичев излагал те же самые идеи, которые, как показано выше, возмутили Тихомирова, усмотревшего в них требование «правового порядка».)
Но в ответ на эти устремления 17 января самодержавие было «противопоставлено общественной самодеятельности» и «отождествлено с бюрократией». Но даже после произошедшего Родичев оставлял верховной власти теоретическую возможность для реабилитации в глазах общественности, усматривая в произнесенной императором речи не его собственные мысли, а происки «Дурново с компанией» и констатируя пока сохраняющуюся «надежду на государя» и не исчезнувшую «готовность объяснить слова 17 января недоразумением», тем более что народ «не отождествляет еще царя с чиновниками, не видит в нем притеснителя, а ждет в нем заступника права»[467]467
Первая речь императора Николая II (17 января 1895 года) // Родичев Ф. И. Воспоминания и очерки о русском либерализме. Newtonville, 1983. С. 181–184, 188–189.
[Закрыть].
Через два дня после выступления императора молодой марксист П. Б. Струве написал свое знаменитое (как упоминалось выше, также анонимное, как и брошюра Родичева) «Открытое письмо к Николаю II». Этот документ выстраивался вокруг двух утверждений.
Во-первых, Струве, как и Родичев, отмечал, что земская лояльность верховной власти была абсолютной и податели адресов мечтали единственно о поддержке со стороны царя в деле борьбы с «административным произволом», тем более что, по их разумению, сам царь был заинтересован в разрушении «бюрократически-придворной стены», которая отделяла его от остальной страны.
Во-вторых, автор «Открытого письма» делал прогноз, чем обернется царское выступление: и в этом вопросе, в отличие от Родичева, он не оставлял Николаю II никакого шанса исправить допущенную им ошибку. По словам Струве, император, который позволил, чтобы его устами говорила «вовсе не идеальная самодержавная власть», но «ревниво оберегающая свое могущество бюрократия», сам уничтожил ореол, сложившийся за последнее время вокруг его «неясного молодого облика», превратился в «определенную величину, относительно которой нет более места “бессмысленным мечтаниям”». Общественность пока пребывает в «обиде и удрученности» после полученного 17 января оскорбления, но вскоре она начнет «мирную, но упорную и сознательную борьбу» во имя своих идеалов, а кто-то и подавно станет «бороться с ненавистным строем всякими средствами»[468]468
Струве П. Б. Ф. И. Родичев и мои встречи с ним. Глава из воспоминаний // Возрождение (Париж). 1948. № 1. С. 32–34.
[Закрыть].
Казалось бы, и Родичев, и Струве не оставляли сомнения в том, что никакого подтекста в кампании с адресами не было. В то же время другой видный участник либерального движения (в будущем, а на начало 1895 г. – преподаватель Московского университета) А. А. Кизеветтер вспоминал в эмиграции, что завуалированный посыл земских адресов был гораздо глубже и радикальнее их непосредственного содержания. По его словам, адреса явились «лишь осторожным пробным шаром, первоначальным нащупыванием почвы, а вовсе не исчерпывающим изложением подлинных стремлений прогрессивных общественных кругов». Разве что курское земство позволило себе высказать осторожную надежду на то, чтобы мнения земцев выслушивались, в том числе и по проблемам, затрагивающим «общие интересы», а не только касающимся местных нужд. Между тем, как подчеркивал Кизеветтер, Родичев при обсуждении тверского адреса четко обозначил перспективу, которую надо иметь в виду, – «необходимость конституционных гарантий» [469]469
Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: воспоминания 1881–1914. М., 1996. С. 142–143. На эту особую точку зрения Кизеветтера обратил внимание П. И. Шлемин. См.: Шлемин П. И. Земско-либеральное движение и адреса 1894/95 г. // Вестник Московского университета. Серия IX. История. 1973. № ЕС. 62–63.
[Закрыть].
Очень симптоматично, что это признание своего бывшего товарища по кадетской партии решительно оспаривал Маклаков. Что касалось приписывания Родичеву якобы произнесенных им слов о «необходимости конституционных гарантий», то в его воспоминаниях, вышедших в эмиграции, воспроизводился текст адреса, и ни слова о конституции в этом адресе не было. Близкой по смыслу являлась фраза: «Закон, ясное выражение мысли и воли монарха, пусть господствует среди нас и пусть подчинятся ему все без исключения, больше всего и прежде всего представители власти». В этих словах, по мнению Маклакова, не содержалось «намеков на конституцию», а под законом подразумевались «мысль и воля монарха».
Из упования Родичева: «…голос этих (в смысле, народных. – Д. А.) потребностей, выражение этой (в смысле, народной. – Д. А.) мысли всегда будут услышаны государем, всегда свободно и непосредственно, по праву и без препятствий дойдут до него», – делался вывод, что если здесь и содержался намек, то имелось в виду лишь «совещательное представительство при самодержце» (что, несомненно, уже выходило далеко за пределы Основных законов!), при этом самодержавие как политический режим «остается незыблемым», в полном соответствии с известной формулой: «Народу мнение, воля государю». (Что это, как не попытка «загримировать» Родичева под Ивана Сергеевича Аксакова, как не очевидная аллюзия на проваленный в 1882 г. М. Н. Катковым и тем же Победоносцевым проект Н. П. Игнатьева созвать Земский собор?) Автор воспоминаний допускал, что Родичев теоретически «мог в душе думать иное», вместе с тем «иного он не сказал».
Из этого Маклаков делал вывод, что от нового царя «ждали не конституции», а «только прекращения реакции», поворота к «линии» и «либеральной программе» Великих реформ, и даже вожделевшие конституции подразумевали под ней лишь «увенчание здания» (которое также отсутствовало в Основных законах!), произведенное самой верховной властью и позднее. А на рубеже 1894–1895 гг. хотели максимум «предоставления места народному голосу». То есть Маклакова, как ранее Родичева и Струве, возмутило то, что император назвал «бессмысленными мечтаниями» отнюдь не конституцию (о которой никто и не говорил), а «участие в делах внутреннего управления» со стороны земства, что полностью было в рамках закона, что «курс Александра III, простительный как передышка, был объявлен вечной программой самодержавия». Поэтому речь Николая II 17 января подвела черту под «кратким периодом надежд на нового государя»[470]470
Маклаков В. А. Указ. соч. С. 133–136.
[Закрыть].
Однако на то, что в адресе тверского земства все же содержался завуалированный намек на конституцию, опосредованно указывал сам Родичев. Такой вывод напрашивается из-за его настоятельного желания оставить первую фразу из подготовленного им проекта, в которой царю указывалось на его «служение» «русскому народу». Коллеги Родичева опасались (как впоследствии оказалось, небезосновательно), что эта формулировка вызовет «неудовольствие или даже гнев». Родичева поддержал М. А. Стахович: он заметил, что и в коронационной молитве упоминается «служение» государя. Сам же автор проекта подчеркнул, что это выражение следует понимать как указание на «высокое представление о призвании императорской власти». В итоге фразу о «служении» решили оставить[471]471
Родичев Ф. И. Из воспоминаний // Современные записки. Общественно-политический и литературный журнал (Париж). 1933. № 53. С. 289.
[Закрыть].
Из приведенных фактов и их интерпретаций видно, что точка зрения Кизеветтера, указывавшего на некие подтексты земских адресов, как минимум, имеет право на существование. И в таком случае становится понятной резкая тональность речи Николая II 17 января: император отреагировал не на букву адресов (во-первых, Дурново не предоставил государю сами адреса, во-вторых, и с их буквой, как показано выше, тоже не все было гладко), а на их дух и на то усиливавшееся день ото дня давление, какое пытались оказывать на престол сторонники либеральной корректировки правительственной политики.
Естественно, после 17 января надежды на либеральный поворот исчезли, а риторика либерального лагеря в адрес императора резко изменилась. 25 января вел. кн. Сергей Александрович писал по этому поводу брату Павлу из Первопрестольной: «Здесь многие приверженцы земства считают себя обиженными речью государя! Меня это бесит, а с другой стороны, и смешит. Какой все же это глупый город! Грибоедовские типы не перевелись <…>. Закваска в Москве такая нехорошая – всегда протест – не разбираясь они огульно все хулят» [472]472
Великий князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы. Кн. 5: 1895–1899. С. 25–26.
[Закрыть]. Поразительно, но через несколько дней, 31 января, тех же «грибоедовских типов», – естественно, не сговариваясь с московским генерал-губернатором, – коснулся в дневнике Шереметев: «Как по мановению жезла исчезла искусственно раздуваемая “популярность” государя; теперь так же искусственно раздувается противоположное». И затем саркастически вспомнил по этому поводу строчку из «Горя от ума» А. С. Грибоедова, процитированную впоследствии А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»: «И вот общественное мненье!»[473]473
РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 5041. Л. 76.
[Закрыть].
Заключение
Исследовательские оценки личности последнего российского императора Николая II, его манеры царствовать, общаться с ближайшим окружением и принимать управленческие решения в той или иной степени по-прежнему остаются в плену старых стереотипов. Отчасти причиной подобного положения является политическая злободневность восприятия эпохи конца XIX – начала XX в. Но главным образом такая инерция научных интерпретаций объясняется тем, что фундаментальное критическое переосмысление документального наследия (в том числе и известного), характеризующего Николая II, пока еще не началось. В результате попытки продемонстрировать новое понимание ключевых событий царствования неизбежно апеллируют к архаичным объяснениям. Чтобы этого избежать, необходимы детализированная контекстуализация фактов и событий на основе как можно более репрезентативной Источниковой базы и отказ от их рассмотрения в фокусировке фактов и событий более поздних, обусловленных совершенно другими причинами и встроенных в принципиально иную ситуацию. Ретроспективный анализ в историческом исследовании может быть результативным, но он также чреват умножением историографических штампов, далеких от действительности.
Предпринятая реконструкция событий «длинного 1894-го года» Российской империи показывает, что недопустимо оценивать поведение и поступки наследника цесаревича Николая Александровича и императора Николая II, исходя из более поздних стереотипов, сформировавшихся преимущественно уже в эпоху публичной политики и гласности, то есть в ходе политического кризиса 1905–1906 гг. и в более поздний период.
По-видимому, на момент вступления на престол Николай II обладал наименьшим бюрократическим опытом из всех государей начиная с Павла I. Данное обстоятельство было обусловлено тем, что его отец, император Александр III, явно не торопился с привлечением своего старшего сына к государственным делам. Такая позиция императора была обусловлена, по-видимому, тем, что он сам лишь в двадцатилетием возрасте стал наследником престола после смерти своего старшего брата Николая, но несмотря на это за 16 последующих лет сумел набраться достаточного опыта и квалификации, чтобы после убийства отца быстро войти в курс основных дел государственного управления. Однако подобная установка Александра III не привела к взращиванию в его наследнике отвращения к исполнению державных обязанностей. У цесаревича Николая на 20 октября 1894 г. не было необходимого опыта, но вместе с тем имелось очевидное, ярко выраженное желание работать. Тем более он был лишен какой бы то ни было «властебоязни», которая в принципе никак не увязывалась с его общим провиденциалистским жизненным настроем.
Каким бы образом ни решался вопрос с «политическим завещанием» Александра III, независимо от того, было ли оно или его не было (хотя реконструкция месяца пребывания императорской семьи в Ливадии в конце сентября – октябре 1894 г. показывает, что его скорее всего не было, во всяком случае, в некоей традиционной форме), личная психологическая готовность царствовать у Николая, несомненно, имелась, а отсутствие надлежащего опыта (публичных выступлений и общения с высокопоставленными подчиненными) быстро восполнялось.
Непубличность наследника Николая Александровича вкупе со стремительным ухудшением состояния Александра III в Ливадии, в результате чего император утратил возможность не только исполнять рутинные рабочие функции, но и контролировать свое окружение, привели к тому, что и в высших сферах, и в широких кругах общественности стали нарастать неопределенность и тревога относительно будущего страны. Множились слухи, вынуждавшие находить между строк официальных правительственных сообщений некий потаенный смысл. Разделение обитателей ливадийской императорской резиденции на две партии (ориентировавшихся соответственно на императрицу Марию Федоровну и министра императорского двора Ил. Ив. Воронцова-Дашкова), которые конкурировали друг с другом за возможность определять информационную политику относительно транслирования сведений о здоровье государя, – привело к многочисленным нестыковкам в формировании представления о стабильности и незыблемости верховной власти. Стали высказываться версии о возможности некоей иной схемы наследования, не предусмотренной законодательством Павла I 1797 г. Разумеется, такого рода предположения были лишены оснований, однако впоследствии они внесли свою лепту в формирование оппозиционных настроений и дискредитацию самодержавия со стороны его радикальных критиков.
Как показали первые шаги молодого императора, его недостаточная готовность к царствованию была именно профессиональной, но никак не психологической, как это следует из наиболее распространенных историографических штампов. По возвращении в столицу из Ливадии Николай II последовательно демонстрировал деловитость, желание работать, при этом его явная недостаточная «квалификация» была либо незаметна вовсе, либо отмечалась лишь самым близким окружением. Вместе с тем то обстоятельство что Николай II, несмотря на нехватку управленческих навыков, довольно быстро исправил эту ситуацию, вошел в рутинный ритм царского администрирования и с внешней стороны никоим образом не отличался от своих предшественников на престоле, было обусловлено не столько его способностями, сколько системой самодержавной власти, которая подстраивалась под индивидуальные особенности каждого первого лица и в целом справлялась, тем более в невоенное и относительно стабильное время, с управленческими функциями.
Николай II стал единственным представителем дома Романовых послепавловской эпохи, который вступил на престол неженатым. Это обстоятельство повлияло на формирование представлений о нем в общественном мнении, причем в рассматриваемый период – исключительно благоприятным образом.
Отношения Николая с невестой, а потом с женой, выраженные специфическим образом – через систему аллегорий, иносказаний и условных обозначений, – отражаются в интерполяциях Алисы Гессенской, а затем Александры Федоровны на страницах дневника Николая и одновременно являются иллюстрацией основных событий насыщенного переменами 1894 г.
В политической системе Российской империи, особенно начиная с рубежа XVIII–XIX вв., кадровые решения нового самодержца имели особое политическое значение. При отсутствии публичной политики они выступали маркерами нового правления, задавали внутриполитический курс и способствовали формированию в общественном мнении более точных представлений о фигуре монарха и возможных перспективах всего его царствования. Однако кадровые решения всегда двуедины, они предполагают одновременное (или незначительно растянутое во времени) принятие решений об отставках должностных лиц, ассоциирующихся с эпохой прежнего государя, и назначениях на освободившиеся в результате этих отставок места новых фигур. Как правило (во всяком случае, кадровая политика императоров начиная с Павла I была именно такой), назначения оказывались более знаковыми и символически наполненными, нежели предшествовавшие им отставки.
В случае с Николаем II все произошло ровно наоборот. Отставка министра путей сообщения Кривошеина, имевшего и в профессиональной среде, и в общественном мнении самую неблаговидную репутацию, произвела сильный резонанс и способствовала усилению популярности молодого монарха. Более того, это решение имело очевидный политический подтекст и должно было укрепить в чиновничьей среде мнение, что Николай II будет вести себя с ней столь же принципиально и жестко, как это делал его отец. Нельзя сказать, что назначение на этот пост Хилкова (хотя и профессионала высочайшего уровня, но вместе с тем являвшегося креатурой вдовствующей императрицы) сработало прямо противоположным образом. Но оно, несомненно, «смазало» сильный пропагандистский эффект от отставки Кривошеина. На примере обоих этих кадровых решений обозначился поведенческий стереотип Николая II, которому он будет следовать на протяжении всего последующего царствования. Этот стереотип заключался в том, что императору не хватало последовательности в действиях. Он мог быть инициативным и самостоятельным, принимать решения, не считаясь ни с чьим мнением, но затем остывал и с готовностью соглашался на ту или иную подсказку.
Имеющиеся источники не позволяют с определенностью заключить, что речь 17 января 1895 г. сознательно, планомерно и последовательно готовилась Николаем II как своего рода идеологический манифест всего его царствования, призванный положить конец нараставшим в общественном мнении и прессе ожиданиям либеральных послаблений. Однако совершенно ясно и то, что выступление императора было для него вполне выношенным и продуманным шагом. Другое дело, что он в данном случае оказался именно исполнителем сценария, который от начала и до конца продумал Победоносцев.
С восшествия на престол его воспитанника в жизни обер-прокурора Святейшего Синода обозначился явный подъем, вызванный особым расположением к нему Николая II из-за четкой позиции, которую Победоносцев занял в вопросе о женитьбе наследника на принцессе Алисе Гессенской. Готовя ответ депутациям, а в их лице – всем легальным силам, которые лелеяли надежды на возвращение к курсу Александра II, Победоносцев одновременно решал и вполне конъюнктурный вопрос дискредитации министра внутренних дел Дурново и выставления его в неблаговидном свете перед императором. Таким образом, речь императора 17 января 1895 г. подводила черту под «длинным 1894-м годом» не только потому, что четко обозначала идеологические ориентиры нового царствования, но и потому, что оказалась косвенным образом вплетенной в интригу против действующего главы МВД, завершившуюся его отставкой и назначением на это место Горемыкина. Министерство Горемыкина – это уже совершенно определенно новая страница в политической истории России конца XIX в.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































