Текст книги "Красный фронт"
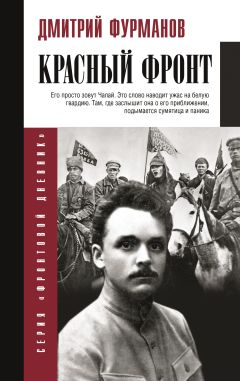
Автор книги: Дмитрий Фурманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Его зовут Xапай
Дневники и письма
1919 год
Дневник Фурманова, 26 февраля
Чапай
Здесь по всему округу можно слышать про Чапаева и про его славный отряд. Его просто зовут Чапай. Это слово наводит ужас на белую гвардию. Там, где заслышит она о его приближении, подымается сумятица и паника во вражьем стане. Казаки в ужасе разбегаются, ибо еще не было, кажется, ни одного случая, когда бы Чапай был побит. Личность совершенно легендарная. Действия Чапая отличаются крайней самостоятельностью; он ненавидит всевозможные планы, комбинации, стратегию и прочую военную мудрость. У него одна только стратегия – пламенный могучий удар. Он налетает совершенно внезапно, ударяет прямо в грудь и беспощадно рубит направо и налево. Крестьянское население отзывается о нем с благодарностью, особенно там, около Иващенковского завода, где порублено было белой гвардией около двух тысяч рабочих.
В случае нужды – Чапай подымает на ноги всю деревню, забирает с собой в бой всех здоровых мужиков, снаряжает подводы. Я говорил с одним из таких «мобилизованных»: ничуть не обижается, что его взял Чапай едва не силой.
«Так, говорит, значит требовалось тогда – Чапай не ошибается и понапрасну забирать не станет».
Крайняя самостоятельность, нежелание связаться с остальными красными частями в общую цепь повели к тому, что Чапай оказался устраненным. Кем и когда – не знаю. Но недавно у Фрунзе обсуждался вопрос о том, чтоб Чапая пригласить сюда, в нашу армию, и поручить ему боевую задачу – продвигаться, мчаться ураганом по Южному Уралу, расчищая себе дорогу огнем и мечом.
Ему поручат командование отдельной частью, может быть, целым полком. Высказывались опасения, как бы он не использовал своего влияния и не повел бы красноармейцев, обожающих своего героя, на дела неподобные. Политически он малосознателен. Инстинктивно чувствует, что надо биться за бедноту, но в дальнейшем разбирается туго. Фрунзе хотел свидеться с ним в Самаре и привезти оттуда сюда, в район действий нашей армии.
Через несколько дней Фрунзе должен воротиться. С ним, может быть, приедет и Чапай.
27 февраля
Назначение
Получена телеграмма: Фрунзе предписывает ехать к Чапаеву в Александров‐Гай и поставить там политическую работу во вновь формирующейся дивизии. Имеется уже приказ. Завтра думаю выезжать. Работать плечом к плечу с Чапаевым – задача весьма занимательная. Он личность незаурядная, спать не любит, и думаю, что наша новая дивизия скоро пойдет в работу.
9 марта
Чапаев
Вчера поздно вечером у Андросова, комбрига, собралось человек пятнадцать – двадцать. Это была последняя, прощальная вечеринка. Сознаться, было скучно. Вернулись часа в три. Только что разделись, явился вестовой и известил, что приехал Чапаев. За ним были посланы на станцию подводы. Но пока что время затянулось до шести часов. Я не дождался, заснул.
Утром, часов в семь, я увидел впервые Чапаева. Передо мною предстал типичный фельдфебель, с длинными усами, жидкими, прилипшими ко лбу волосами; глаза иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный. Росту он среднего, одет по-комиссарски, френч и синие брюки, на ногах прекрасные оленьи сапоги. Перетолковав обо всем и напившись чаю, отправились в штаб. Там он дал Андросову много ценных указаний и детально доразработал план завтрашнего выступления. То ли у него быстрая мысль, то ли навык имеется хороший, но он ориентируется весьма быстро и соображает моментально. Все время водит циркулем по карте, вымеривает, взвешивает, на слово не верит. Говорит уверенно, перебивая, останавливая, всегда договаривая свою мысль до конца. Противоречия не терпит. Обращение простое, а с красноармейцами даже грубоватое…
Я подметил в нем охоту побахвалиться. Себя он ценит высоко, знает, что слава о нем гремит тут по всему краю, и эту славу он приемлет как должное. Через час с ним еду на позицию, в Казачью Таловку, где стоит Краснокутский полк. Завтра, в восемь утра, общее наступление.
«Меня, говорит, в штабе армии не любят и считают даже врагом советской власти, хотя я в партии коммунистов состою уже более года. А это вот почему. Когда мне приходилось спасать Пугачев и Саратов, там, в Пугачеве, Совет работал плохо. А надо было бороться с белогвардейцами и экстренно мобилизовать крестьян. Вот я и стал все это делать сам, потому что делать было необходимо, а делать некому. Ну, пошли кляузы да поклепы – там, в штабе, и взъерошились. Да и до сих пор не могут изменить мнения, хотя уж и убедились, что я борюсь за Совет. Ничего, рассеется, да и мало меня это беспокоит. С товарищами я лажу, они меня знают и любят…»
11 марта
Сломихинский бой
Девятого, часа в два дня, мы отправились из Алтая в Порт-Артур. Чапай и Потапов ехали парой, я поспевал на своем Киргизе, сзади сопровождали трое конных. Ехали крепко, в Каз [ачьей] Таловке были через три с половиной часа, а тут всего сорок верст. Таловка была совершенно переполнена: улицы запружены были артиллерией, обозами, конными всадниками; разрушенные хаты были набиты битком красноармейцами. Ревели верблюды, гикали скачущие всадники, кричали, шумели красноармейцы. У костров грели чай, шутили, смеялись, пели песни. Потом одна за другой части начали выступать к Порт-Артуру. Переутомленные, мы все уснули, а часа в четыре с половиной поседлали лошадей и тронулись в путь. Было свежо и полусумрачно, чувствовалась близость рассвета. Мы ехали голой степью. До Порт-Артура считали верст семнадцать – восемнадцать. Когда проехали верст десять, вдали, прорезая черные тучи, стали сверкать шрапнельные разрывы.
– Видишь? – спросил товарищ.
– Вижу…
Мы ехали молча, полные дум. Что-то будет с нами через два-три часа, когда попадем в полосу огня? Каждого занимала и тревожила эта глубоко трагическая мысль. Скоро зачернелся Порт-Артур. Подъехали. Это крошечное селение было совершенно разрушено и сожжено, не осталось ни одной крыши, ни одной целой избы, жители, разумеется, разбежались. Здесь стоял наш обоз. Чапаев уехал, пробыв минут десять, а я задержался почти на полчаса (ногу натер и поправлял). Потом поехал его догонять, но догнать не мог и ехал один, не зная пути, рискуя попасть во вражьи лапы. Попался обозный, у него, вижу, что-то лежит под сермягой.
– Что везешь? – спрашиваю.
– А вот солдатика поранило.
Мне сделалось почему-то страшно тяжело.
«Повезли, – думал я про себя, – вот он, милый, уже пострадал, уж сделал свое дело, теперь искалеченного везут. Ведь какой-нибудь час был еще совсем здоров и не думал, не верил, что приключится беда. А вчера вечером, в Таловке, где-нибудь у костра, дотягивал веселую песню… Вот он, борец, совершил свое – и в сторону. А там пойдут еще другие и другие… Иных совсем оставим в поле. Эх, судьба тяжелая!» С такими мыслями ехал дальше, обгонял отдельные подводы, то со снарядами, то пустые, для раненых.
– Далеко наши? – спрашиваю.
– Недалече, вот тут, верст за пяток… Выбили казака вон из ентова хутора… Погнали дале…
На правом берегу Узеня стояли киргизские аулы, откуда только что с боем выбили казаков. Я поехал туда, переехав Узень. Там бродили только два красноармейца, не то действительно проверявшие раненых, не то мародеры. Еду дальше. Все звучнее, все явственней гудит батарея, все ближе чернеют полоски наших цепей. Тронул коня, переехал на левый берег и скоро въехал во вторую цепь – первая шла в полуверсте впереди. Чапаев пока шел во второй цепи, потом перешел за мною в первую и командовал ею до самого конца боя.
Справа показался хутор Овчинников, где мы ждали боя, но боя тут не произошло. Мы уже подошли совсем близко к Сломихинской, ближе чем на версту; постепенно усиливался артиллерийский огонь. Спрыгнув с коня, я шел в первой цепи, подбадривая товарищей, покуривая и пошучивая вместе с ними. Пока работала лишь наша батарея и противник молчал, я шел совершенно спокойно, не нервничая, не волнуясь. Несколько раз мы останавливались и отдыхали. Скоро противник открыл огонь, снаряды падали от меня саженей на сто – сто двадцать, потом все ближе, ближе, и, наконец, один разорвался саженях в восьмидесяти. Тут сделалось жутко. Я был к этому времени уже на коне и успел проехать по всему фронту своего Краснокутского полка, воротившись на прежнее место. Тут подъехал т. Потапов, он якобы, так же как и я, искал Чапаева. Мы поскакали в глубь тыла. Скоро он отстал, а я продолжал ехать до ближайшего бугра, за которым лежало человек восемь возчиков и еще кто-то. Я лег с ними и смотрел, как рвутся снаряды, а когда над головой вдруг раздавался вой и стон летящего снаряда, я приникал к земле и сравнивался с нею пластом. А когда ехал по фронту, я видел, как некоторые товарищи выкопали ямки в снегу и опустили туда, в снег, свои головы, чтобы ничего не видеть и не слышать. Я тоже подумал было про такой прием, но тут подъехал товарищ с левого фланга и сообщил, что у них нет пулеметов, а показалось сотен пять казаков, которые идут в обход. Вдали действительно чернела, колыхалась масса всадников – это наступали казаки. Я сел на своего Киргиза и поехал «доставать пулеметы», то есть попал во второй обоз и там сидел с обозниками часа полтора, а когда вернулся на прежнее место, там никого уже не было. Вот задача: куда ехать, где наши? Отогнали ли их за Узень наступавшие с левого фланга казаки или они уж вошли в Сломихинскую? В это время подъехал ко мне откуда-то со стороны Овчинникова товарищ, который, по всей видимости, как и я, «искал пулеметы». Долго мы с ним гадали – въезжать в Сломихинскую или нет. А в то же время подъехали к ней совсем вплотную. Уже видны были наблюдатели на крышах окраинных домов, назад все равно отступать было невозможно – ружейная пуля легко доставала и отсюда, и с ближних мельниц. Мы подъехали к домам. Встретился мальчуган, гнавший скотину.
– Малец, ей, малец, тут что – вошла Красная Армия?
– Вошла, вошла, она у нас.
Отлегло, стало дышаться легко. Мы присвистнули, поддали жару коням и помчались к центру. Всюду шныряли красноармейцы и тащили из домов что кому вздумается. Скоро я нашел Чапаева, он уже разместился в доме бывшего богатея Карпова. Армия вошла уже часа два назад. Мне было стыдно, что приехал так поздно, и тем более обидно, что самый ужас пережил я в передовой цепи, а как только отъехал – пальба прекратилась.
Как оказалось позже – снарядов у казаков почти совершенно нет, кроме снарядов для автоматической скорострелки. Тут были уже все в сборе: Андросов, Ефимов, Чапаев – все, только я опоздал. Но и то, что пережил я в этом первом боевом крещении, видимо, останется надолго и глубоко в душе. Ночью несколько раз вскакивал и вздрагивал – все чудилась пальба, все слышались ужасные разрывы.
Наутро были проведены митинги по всем полкам, и красноармейцы поклялись впредь грабежа не делать, борясь с этим злом в своей среде самым жестоким образом. Один товарищ возвратил драгоценный серебряный пояс, за который ему давали три тысячи рублей. Впечатление от митингов самое хорошее.
22 марта
Чапаев
Его личность поглотила мое внимание. Я все время к нему присматриваюсь, слушаю внимательно, что и как он говорит, что и как делает. Мне хочется понять его до дна и окончательно. Во время пути мы были все время вместе, ехали неразлучно в одной повозке и наговорились досыта. Я говорю о поездке из Алгая в Самару на лошадях. Путь грандиозный, свыше четырехсот верст. Мы были в пути четыре дня: выехали семнадцатого в час дня, приехали двадцать первого в три часа дня.
Чапая всюду крестьяне встречали восторженно; в Совете лишь только узнавали, что приехал Чапай, – начинали говорить шепотом, один другому передавал, что приехал Чапай, и молва живо перебрасывалась на улицу. Стекался народ посмотреть на героя, и скоро Совет сплошь набивался зрителями. А когда уезжали, у ворот тоже стояли любопытные и провожали нас взорами. Популярность его всюду огромная, имя его известно решительно каждому мальчугану. В одном селе как раз попали на заседание Совета. Его пригласили «хоть что-нибудь сказать», и он рассказал крестьянам о положении наших дел на фронте. Крестьяне шумно выражали ему свою благодарность. В другом селе мы никак не могли найти Совет – он оказался заброшенным куда-то в овраг, на далекую окраину и помещался почти что в сарае. Приехали мы часов в девять вечера. Там никого из советских не было, только дежурил дедка-сторож.
Немедленно вызвали председателя; тот вошел и стал как-то по-рабски кланяться, стоял нерешительно, уныло и опасливо оглядываясь. От вестового он уже знал, что его требовал Чапаев. Чапай распек его на все корки и наутро же «приказал» перенести Совет куда-либо в центр села, в хорошую квартиру, а в Совете назначить бессменное дежурство. Вообще он поступает весьма самостоятельно в делах и не только военных.
Мы с ним за эти четыре дня, повторяю, говорили очень много. Он еще подробнее рассказывал мне о своем прошлом житье-бытье и все горевал, что судьба у него сложилась нескладно и не дала возможности развиться как следует. Он, разумеется, сознает и свою невоспитанность и необразованность, свою малую развитость и невежественность. Все хорошо видит, скорбит душой и стремится страстно перевоспитаться и скорее, как можно скорее научиться всяким наукам. Ему хочется ознакомиться с русским языком, ознакомиться с математикой и т. д. Мы договорились, что свободное время я буду с ним заниматься, буду направлять по возможности его самообразовательную работу. Говорили мы немало и на темы политические. Он все внимательно и жадно слушает, потом высказывается сам – просто, хорошо и правильно. Мысль у него правильная и ясная. По пути мы заезжали к нему в семью, которая живет в деревне Вязовка, Пугачевского уезда, верстах в пятидесяти от Пугачева. У него там старик со старухой, трое ребят (два мальчугана и девчурка) и еще женщина-вдова со своими двумя ребятами.
Там у него полное хозяйство, есть живность, есть и пашня. Семья его живет, видимо, не нуждаясь, на стол они наставили нам много всякого добра.
Ну, наконец, после долгих мытарств, добрались до Самары. Явились к Фрунзе. Он рассказал нам пока в общих чертах о положении на всех фронтах, а вечером пригласил к себе пить чай и окончательно договориться о нашей дальнейшей работе. Тов. Сиротинский пришел за мной прежде времени. Я сначала не понял, зачем он меня увлекает, – оказалось, это Фрунзе хотел меня спросить относительно Чапая, кто он и что он, можно ли его назначать на большой и ответственный пост. Я откровенно высказал ему свое мнение о тов. Ч[апаев]е, и он согласился, сознавшись, что сам склонен думать таким же образом. Фрунзе назначает его начдивом Самарской, в которую войдет, между прочим, и наш Иваново‐Вознесенский полк. У нас, как известно, под Уфой дела никуда не годятся. Уфу наши сдали и отступают дальше. В связи с этим изменяется и наша дальнейшая работа. Мы ведь предполагали идти на Туркестан, добывать хлопок. Теперь же приходится сосредоточиваться в районе Самары. Фрунзе мне высказывал даже опасение, что мы снова можем потерять Самару, потерять весь этот край.
1 апреля
Льстецы Чапаева
У него имеется хорошая тенденция – подбирать даже на самые высокие должности своих ребят, простых, верных, преданных и честных. Он совершенно не доверяет офицерам, считает их всех безоговорочно контрреволюционерами и все время грозится перетопить в Урале и перестрелять. Это свое мнение он выражает в острой, утрированной форме, но следует отметить, что бранит и грозится больше, чем делает.
Около него все преданные товарищи, они его обожают, слушают беспрекословно, на лету ловят распоряжения и выполняют их с умопомрачительной быстротой, настойчивостью и точностью. Для него нет ничего невозможного. Что решит и задумает, все сделает. Но эти же окружающие являются и отчаянными льстецами. Они то и дело напоминают эпизоды прошлой боевой жизни, прославляя его подвиги, его находчивость, смелость, ум, способности и прочее и прочее. Он глотает с удовольствием эти сладости, слушает их с улыбкою и явным наслаждением. Мне всегда неловко и стыдно, когда воскуряется этот пряный фимиам. Он однажды, помнится, спросил и меня:
– А как думаете, товарищ Фурманов, попаду я в историю или нет?
– Непременно попадете, – успокоил я его.
А все-таки хороший, прекрасный он человек – простой, открытый, твердый и решительный. Безделье томит его ужасно. Вот теперь хотя бы, приехали мы в Уральск, вынуждены будем прожить здесь в ожидании без дела несколько дней. Его это вынужденное ожидание томит и раздражает; он нервничает, бранится, грозит неизвестно кому всякими страхами и карами, тоскует, тоскует, тоскует.
19 апреля
Чапаев и я
Как тень, я все время следую за Чапаевым. Все дела приходится решать сообща. Ни одного вопроса он без меня не обсуждает, во всем советуется, обо всем спрашивает. И благодаря этому я постоянно в курсе всех начинаний и предположений. У нас установились самые лучшие, самые доверчивые отношения. Нам работать легко: его решительность, настойчивость и быстроту я дополняю осторожностью, спокойствием и способностью устанавливать контактные отношения. Часто сразу он подымается на дыбы, глаза заблестят, он готов сопротивляться, спорить, упорствовать. Но, неизменно натыкаясь на спокойствие, предусмотрительность и убедительность доводов, со всем соглашается и принимает все мои поправки и изменения. Я еще не знаю случая, когда бы он не принял какого-либо моего предложения. У нас даже нет строгого разделения функций и обязанностей, у нас решительно все пополам. Он не знает, где начинаются и кончаются его обязанности, я не знаю про свои. То есть не то чтобы мы не знали – знаем, разумеется, но вся работа, чисто командная и политическая, настолько тесно переплетается, что разграничить ее часто представляется совершенно невозможным.
23 апреля
На позицию
На другой день пасхи, 21‐го, мы с Чапаем поехали на позиции. Точно мы их не представляли себе, донесения последних дней страдали неточностью. Взяли с собой человек пятнадцать конных и поутру направились через Сухаречку на Ждановку, около которой в Крутенькой стоял штаб 73‐й бригады. День светлый, чистый, праздничный. По селам в цветных сарафанах, в цветных рубахах гуляет, поет, играет молодежь. На завалинках сидят сгорбленные старухи в шубах, ради светлого праздника и солнечного дня выползшие на волю. У Совета толпится народ, не зная, куда подевать свободное время. По деревне ехать трудно: ручейки размыли путь, наделали много поперечных выбоин. Сейчас же с коней долой – и к Совету: выгнать всех крестьян и обязать каждого перед своим домом сравнять выбоины! Нам ждать некогда, наша артиллерия ломает повозки, поживее, живее, товарищи! Председатель сейчас же делает предписание, и скоро по деревне кипит работа. (На обратном пути, проезжая через Сухаречку, видно было, что народ работал крепко.)
Едем дальше. Кони устают, дорога скользкая, местами еще крыта обвалившимся снегом. Кони проваливаются, скользят по льду, спотыкаются. «Эй, Копчик! – покрикивает Жуков на пристяжного. – Копчик, вывози!» Дальше он поясняет нам, какой это благородный и умный конь, Копчик, как он несет в работу «почти всю проценту», то есть что Копчик, дескать, работает и за коренного. Скоро ехать стало невозможно – мы слезли с фаэтона и сели на верховых. Доехали до Крутенькой, пришли к Кутякову.
Между прочим, дорогой с Чапаем был длительный разговор, точнее сказать, я выслушал длительный рассказ из его прошлой жизни. Он рассказывал о жене:
– Когда я ушел на позицию, любил ее всей душой, о ней все думал и для нее хранил себя. Ушел я по осени четырнадцатого года, приехал домой по весне шестнадцатого, и за эти полтора года ни с одной женщиной не имел дела. Вот отчего мне было так тяжело, когда, приехав домой, вдруг узнал, что она ушла из дому моего отца, поселилась с детьми отдельно и привечает к себе чужого человека. Мне об этом писали на позицию, но я не верил, хотя и сомневался малость. А потом ещё она сама в письмах все меня разуверяла, говорила, что это пустая клевета. Хорошо, приезжаю, как будто ни в чем не бывало, веду разговор и все прочее. Но тут я вдруг сам убедился, что все это была правда, и тогда ее прогнал, а детей оставил себе. С тех пор я совсем не верю женщинам, – она меня так подкачнула, что вышибла всякую доверчивость. Да еще помнится, когда я был совсем мальчиком, годов семнадцати – восемнадцати, за меня не хотела пойти девушка, которая все клялась в любви и говорила, что жить без меня не может. А когда отец отдал за другого и когда я ей предложил бежать с собой, – отказалась. Так разве это любовь? Поэтому я им совершенно больше не доверяюсь…
Приехав к Кутякову, сейчас же, разумеется, справились о точном расположении частей бригады. Оказалось, что наши стоят по этому (левому) берегу Боровки, а неприятель – по правому. Комиссар Горбачев, предводительствуя эскадрон кавалерии, кинулся вплавь, окунулся с головкой, вынырнул и – айда на тот берег. Кавалеристы за ним. Так плыли они двадцать – двадцать пять саженей. Мокрые и грязные после разведки, вернулись обратно, собрав нужные сведения и оставив на том берегу несколько человек «на случай».
Вот как работают настоящие комиссары. Его работа слита неразрывно с работой командира бригады, функции объединяются, сплетаются, перевиваются. Дальше он рассказал такой случай:
– Наши ребята приехали в одно село и притворились белогвардейцами. «Вы колчаки?» – спросили их крестьяне. «Да, колчаки, а есть тут у вас красные?» – «Нету, ни одной сволочи нету…» «А где же они находятся?» – спрашивают ребята. – «Где находятся, – а вот где…» И крестьяне начинают излагать сведения, которые каким-либо образом получили. Тут же, среди всех, и даже особенно деятельно, сообщает председатель Совета.
– А вы вот что сделайте, запишите-ка нам все, что говорите, да печать приставьте, – говорят ребята. Балда-председатель написал этот «смертный приговор себе», приложил печать, подписался и вручил красноармейцам. Тогда они с уликами в руках уехали, а через некоторое время вернулись, забрали председателя и еще двух кулаков. Это известие, верно, облетело окрестные селения, ибо, когда мы с Чапаем на обратном пути заехали в Екатеринославовку, крестьяне ежились, мялись, ничего не отвечали или отвечали уклончиво, не зная, за кого нас принять: за белых или за красных.
– Совет есть?
– Совет… Да был вот здесь Совет, – отвечают мужички, показывая на большой дом.
– А теперь где?
– А вон там где-то, на селе, в конце…
– И староста есть?
– И староста есть…
– И молоко есть?
– И молоко есть…
Мужички ежились, отворачивались, отмалчивались, ничего не говоря определенно и ссылаясь один на другого. Потом, когда они нас узнали определенно, сознались, что заробели от неопределенности, боясь открыться сразу. Таково неопределенно и тревожно их положение.
Хорошо. Об этом довольно.
До глубокой ночи выясняли по карте возможное месторасположение противника и наиболее удобные для нас позиции, а рано поутру, взяв человек восемь конных, отправились на позицию. Тут оставалось верст двенадцать – пятнадцать. Скоро стали слышны выстрелы, а когда проехали Алексеевку и осталось до позиции всего несколько верст, можно было думать, что стреляют из-за ближайшего сырта. Проехали еще какую-то крошечную деревеньку. До Казаковки оставалось версты полторы, не больше. Перестрелка возобновилась с удвоенной силой. Они нас приметили с горы и, видимо, намеревались прикрыть по пути. Лишь только мы выехали к овинам, как от сырта, что раскинулся по правому берегу Боровки, открылась по нас стрельба. Пули завизжали, зазвенели. Мы ударили коней и ускакали за высокий стог сена, спешились, постояли минут пять и один по одному, от сарая к сараю, стали перебегать, чтобы попасть на деревню. Чапаев остался последним. Я нарочно остался около ближнего сарая, чтобы посмотреть, как он себя будет вести во время перебежки. Коня своего он отправил вперед, а сам, пеший, высунулся из-за стога, прошел шагов десять прямо и вдруг побежал обратно, видимо, заслышав вокруг себя свистящие пули. Затем постоял за стогом и тихо направился в сторону овинов, по другому направлению. Обошел стогами и пробрался к деревне, явившись последним. По деревне было ходить опасно. Она изрезана проулками, и по этим проулкам противник, лишь только заметит проходящего, открывает пальбу. Пока мы прошли до штаба полка, пришлось сделать пять-шесть перебежек. Одного красноармейца ранило, разбило локоть. Пальба не умолкала. Наши ребята разбросались по стогам, по крышам сараев, по овинам и оттуда охотились по бегающим на другом берегу белогвардейцам.
Те высовывались из-за сырта, мелькали черными точками и быстро скрывались снова. А на деревне было весело. Гуляли девушки в цветных костюмах. Наши ребята кружились возле них, убаюкивали их песнями и гармошкой, веселились на славу.
Совершенно невозможно было подумать, что тут кругом витает смерть. Если б не выстрелы, не эта неумолчная пальба, здесь была бы самая настоящая и светлая пасха. Крестьяне ходили спокойные, переезжали медленно по тем местам, где наши мчались в карьер. Они как-то совершенно не думают о смерти, не боятся ее.
Мы пробыли там часа три. Затем поседлали коней и поехали в Бузулук. Тут было верст пятьдесят – шестьдесят. Приехали уже поздно, часов в одиннадцать. Затем до двух часов простояли у прямого провода, переговаривая с помощником командующего Южгруппой Новицким. Нам приказано срочно выехать из Бузулука с оперативной частью в расположение и в распоряжение командующего 5‐й армией. От 73‐й бригады уходим. Жалко. Если начнем теснить врага к Бугуруслану, соединимся снова. Сейчас выезжаем.
Скобелево, 30 апреля
В походе
Все эти дни мы с Чапаем в походах. Наши стали теснить белых по всему фронту. 25‐я дивизия идет авангардом. Весело идти: здесь Чапай, а справа уж давно хлещет Кутяков со своею стальной бригадой. Он разбил уже около трех вражьих полков, захватив пленных, пулеметы, кухни и т. д. Вчера вечером мы приехали в Подколки. Наши части вошли сюда несколько часов назад, выбив и поколотив противника. У нас легко поранено восемь человек, их потери неизвестны. Куда-то пропал без вести пастух, смертельно ранили пахаря в поле да убило двух крестьянских лошадей. Мне вчера сильно нездоровилось. Мы ехали верхами, и последние десять – пятнадцать верст я уж едва сидел в седле. А когда приехали – закипела работа: полетели во все стороны телеграммы и распоряжения. Я ткнулся на постель и заснул. Чапаев разбудил обсудить одну телеграмму. И всю ночь через каждый час он все будил меня что-нибудь обсудить и решить. Чапаю изумляюсь, он неутомим. Он всю душу вложил в это дело и отдается ему весь без остатка. Он живет. Чем больше тревоги и опасности кругом, тем он веселее, тем прекраснее. Я любуюсь Чапаем, когда он командует. У него все просто и ясно, он без обиняков всегда режет с плеча: что говорит за глаза, то повторяет и при свидании. Он свежий, сильный духом человек. Удивительная у него память: каждую мелочь, каждый-то случай – все помнит.
Мне часто бывает неудобно перед ним; спросишь что-нибудь, а он:
– Да ты ведь сам подписывал.
– Когда?
– А помнишь… – И он припомнит какую-нибудь бумажонку, которую где-то и когда-то я подписывал, про которую совершенно забыл. Мы с Чапаем сдружились, привыкли, прониклись взаимной симпатией. Мы неразлучны: дни и ночи все вместе, все вместе. Вырабатываем ли приказ, обсуждаем ли что-нибудь, данное сверху, замышляем ли что новое – все вместе, все пополам.
Такой цельной и сильной натуры я еще не встречал. Мы часто с ним предполагаем: что будет, как тяжело будет одному, когда другого убьют. И когда заговорим – обоим станет тяжело. Замолчим и долго-долго ни о чем не говорим. На него много клевещут, его понимают даже наши «лучшие» (член Ревсовета [Восточного фронта] Смирнов) как авантюриста – и только. Ему мало доверяют. И этот товарищ Смирнов, например, сообщил мне, что «лишь только Чапаев немного покачнется, мы его живо уберем».
Из-за дров они не видят лесу, они, эти будничные люди, не могут простить плотнику Чапаю его грубость, его дерзость и смелость решительно во всем: будь тут командующий и раскомандующий. Они не знают, не видят того, как Чапай не спит ночи напролет, как он мучится за каждую мелочь, как он любит свое дело и горит, горит на этом деле ярким полымем. Они не знают. А я знаю и вижу ежесекундно его благородство и честность – поэтому он дорог мне бесконечно. В защиту от клеветников и узколобых я уже неоднократно писал дорогому Фрунзе про истинного, про настоящего Чапая.
Ч [апаев] любит прихвастнуть и преувеличить. Кутяков взял около четырехсот человек, а Чапай добавляет: «и порублено около шестисот».
– Откуда ты взял? – спрашиваю его.
Смеется, молчит, а потом:
– Так ведь надо же повеселить-то.
– Да ведь тебе верить перестанут, когда узнают, что врешь.
– Не узнают, – легкомысленно ухмыльнулся он.
Теперь мы в походе, нашей дивизии дана боевая задача: руководить борьбой с обнаглевшим Колчаком.
Чапай
Он весьма опасается шальной пули. Насколько храбр и отважен в настоящем, широком бою, настолько же осторожен, почти труслив, когда летят шальные пули.
– А прежде, – говорит, – и шальных не боялся. Бывало, вылезешь на блиндаж, они кругом жужжат как мухи, а ты стоишь, не покачнешься, пытаешь свое счастье да дразнишь неприятеля. Прежде я был храбрее, а теперь стал куда осторожнее. Бывало, думаешь: «Э, чего тут хранить, человечишко я малый, толку от меня все равно нет никакого: убьют – и ладно». А теперь стал «генералом», ну и жизнь стал ценить подороже. Рассуждаешь, что все-таки массу за собой ведешь, что эту массу без вождя оставлять не годится, а таких вождей, как я, немного. Есть ученые, есть знающие лучше меня, а все-таки нас немного…
Я сделался коммунистом, – говорит он, – не по теории, а на практике. Когда торговал – я видел весь этот обман, знаю, как мы бессовестно и бессердечно обманывали друг друга. Я все думал, как же тут можно обойтись без обмана – и не мог понять. А когда научился коммунизму, когда узнал нашу программу – обрадовался, поняв, что избавиться можно только по этому учению. Вот почему я стал коммунистом. Ничего, что учение знаю плохо, зато я убежден крепко.
Из дневника Фурманова. Запись от 11 мая 1919 года
Мой первый приговор
Едучи по полю, я раздумывал о том, хватит или нет у меня духу расстрелять собственноручно белогвардейца или хотя бы подписать ему смертный приговор. Я вот коммунист, должен быть смелым во всех отношениях, должен быть готовым в любую минуту претворить слово в дело. А смогу ли сделать этот решительный, страшный шаг? Пожалуй, что нет. Ведь до сих пор я лишь косвенно поддерживал расстрелы, угрожая в пространство на митингах, угрожая в статьях, одобряя расправы, учинённые над белыми. Ну а когда самому придётся, тогда как? Должен смочь! Ведь по существу это одно и то же – говорю ли я и убеждаю других в необходимости суровой расправы с врагом или расправляюсь с ним непосредственно. На этом мои размышления закончились. Наутро, приехав в Русский Кандык, я застал там массу пленных, захваченных славною 73‐й бриг [адой]. Среди них попался белый офицер. Привели на допрос. Его жизнь была в моих руках. Я мог отменить, мог предписать любое решение. Все сосредоточились на мне. Задав целый ряд вопросов, я намерен был сопроводить его в Штарм как обыкновенного пленного. Кутяков рванулся его обыскивать. Вытащил документы:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































