Текст книги "Красный фронт"
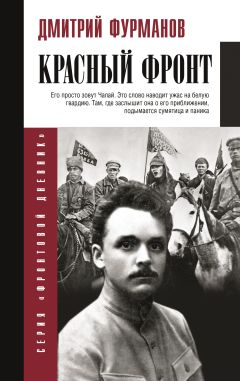
Автор книги: Дмитрий Фурманов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
– Всё?
– Всё, говорит.
– А если ещё что найду?
– Больше ничего нет.
– Смотри, потом не пеняй…
– Ничего нет… разве только вот письмо от жены…
– А ну давай его сюда.
Он вынул письмо, передал мне. У белого офицера была надменная морда, высокомерная, презрительная. Оказалось, что Ник. Александрович Шумилов, казанский семинарист, окончивший 6 кл [ассов] гимназии, сын полка. Я стал читать письмо. Писала какая-то девушка, видимо, его возлюбленная. «Белые отступят ненадолго, не робей, терпи, говорилось там… от красных житья нет никакого. Храни себя, чтобы отомстить большевикам…»
Я даже не дочитал письма:
– Ну, кончено, ведите…
– Вести? – обрадовался Кутяков. – Куда вести, расстреливать?
– Да, да, – торопился я, – ведите…
– Я хочу… – начал было офицер свои объяснения.
– Не о чем разговаривать. Всё ясно, ну – живее!
Его увели, расстреляли. Говорили, что он всё просил револьвер, чтобы застрелиться самому. Цель была, верно, другая. Теперь его нет, уничтожен. Он расстрелян по моему приказанию. Это звучит страшно. Это ещё первый случай в моей коммунистической практике. Он, верно, открывает целую серию подобных решительных актов. Мне говорили жестокие и решительные люди, Чапаев, Зубарев, что они робко приступали первый раз к этой ужасной практике, но, совершив раз, – дальше не страдали и приводили легко в исполнение самые крутые свои решения. Когда я отдал распоряжение – я весь дрожал. Захватывало дыхание, руки дробились, к лицу приступила кровь.
Я стал сосредоточенным и строгим. Не шутил, не смеялся, даже разговаривал мало. Я даже чем-то как будто гордился. Чем? О, конечно, своей решительностью. Когда Кутяков сказал:
– Вон ты какой молодец, ну молодец, а я думал, что ты бандит… (Бандитом он называет человека с какой-либо слабостью и недостатком). Когда он «похвалил» – я снова был горд. К ночи я уже забыл. Сегодня наутро совершенно спокоен.
18 мая
Чапаев
Неугомонная натура, неспокойная, непоседливая – он все время должен находиться в движении. Если только приходится по необходимости оставаться на месте три-четыре дня – он тоскует, нервничает. Иную поездку можно было бы совершенно отложить, – так нет, не терпится, седлает коней и скачет сто – сто двадцать верст. И сотоварищи привыкли его видеть возможно чаще.
Недавно поехали к Потапову, там дела, в сущности, не было никакого, но своим присутствием он ободрил, подвеселил, утвердил товарищей. И тут же Чеков, узнав, что Чапай приехал к Потапову, звонит по телефону: «Приезжай, говорит, необходимо видеться». А это «необходимо» – известное дело: посидеть, поговорить и больше никаких.
У всей компании чапаевцев имеется такая черта: пока двое вместе – они дружны, верят один другому, а когда порознь – один другого подозревает во всяких промахах, даже бесчестностях. Они слишком легковерные люди. Каждому сообщению, каждому слуху верят. Этот слух и предположение дальше уже передают за достоверный факт – и делу дается «законный ход»: товарища чернят, обвиняют, уничтожают. Наивные, простые они люди, из-за каждого пустячка готовы спорить, горячиться, чуть не стреляться. Они весьма энергичны, но, к сожалению, малосведущи. И все-таки ни перед чем никогда не останавливаются. Нужно ли поставить командира, начальника ли штаба, кого бы то ни было, ставят всегда своего – простого, честного, мужественного и решительного человека. Недостаток знаний и уменья искупается энергией и желанием работать. Они все, как птенцы, работают под крылом Чапая. Он своею энергией воспламеняет их всех и не дает спать. Он все время их учит, все время подталкивает, бранит, чуть не бьет, а они любят, боятся и работают отчаянно. Горячая, удалая компания. Жизнь бьет ключом, никто не дремлет. У Чапая определенная линия: на все ответственные посты он назначает своих ребят. Сначала робеют, отмахиваются, просятся в строй, в цепь, чтобы идти с винтовкою. «Нет, – приказывает Чапай. – Впрягайся и вези! Не выходит – спроси, учись, спать некогда».
Специалисты, образованные – или зло вредят, или работают вяло. На них надеяться не приходится, надо скорее учиться работать самим. И с самых низов вытаскивает он своих товарищей и дает им ход. Когда освоятся с работой и войдут в курс дела – благодарны своему вождю. За ним идут, да и как не идти. Вера в него полная, сам он вышел из низов, ум у него простой и ясный. На все дела у него спорятся руки. Составить ли оперативный приказ, организовать ли отдел снабжения, узнать ли в открытом поле, которая из пяти дорог настоящая и правильная, распорядиться ли в бою, что бы то ни потребовалось – он всегда в курсе дела, он всегда и все понимает и знает. Иногда ошибается, но редко, почти никогда, он всегда попадает в точку.
Советы и приказания всегда ценны, только высказываются они обычно крайне возбужденно и властно…
Белебей, 19 мая
Чапай
Чапай устал. Он переутомился мучительною, непрерывной работой. Так работать долго нельзя – он горел как молния. Сегодня подал телеграмму об отдыхе, о передышке. Да тут еще пришли вести с родины, что ребята находятся под угрозой белогвардейского нашествия, – ему хочется спасти ребят. Телеграмму я ему не подписал. Вижу, что мой Чапай совсем расклеился. Если уедет – мне будет тяжело. Мы настолько сроднились и привыкли друг к другу, что дня без тоски не можем быть в разлуке. Чем дальше, тем больше привязываюсь я к нему, тем больше привязывается и он ко мне. Сошелся тесно я и со всеми его ребятами. Все молодец к молодцу – отважные, честные бойцы, хорошие люди. Здесь я живу полной жизнью.
29 мая, Белебей
Сюда, собственно говоря, попали мы зря, ибо занятие Белебея было поручено другой дивизии, а мы тут прикачнулись совершенно случайно. Здесь стоянка вышла весьма долгая. Уставшие части должны были отдохнуть во что бы то ни стало. Предстоит грандиозная операция на Уфу. Надо набраться сил. Здесь мы с Чапаевым схватили за горло и встряхнули всю штабную работу. Заходил политод, заходил отдел снабжения, заработали оперативные и административные люди. Наше присутствие сказалось, несомненно, весьма благотворно на общей работе. С Чапаем отношения самые сердечные. Мы весьма близки друг другу, я научился в совершенстве укрощать его, неукротимого. Теперь он все слушает, всему верит, все исполняет. Не было еще случая, когда бы он не принял какого-либо моего предложения. Роль здесь играет отчасти и моя личная близость с Фрунзе, которого он высоко чтит и уважает; но это влияет лишь отчасти, а главное в том, что мы сошлись по душам, любы друг другу, любим друг друга.
Вчера началось грандиозное движение пяти дивизий на Уфу. Завтра выезжаем на фронт. Снова кочующая жизнь, снова непрерывные передвижения, грохот орудий, бряцание ружей, транспорты, обозы, полки, полки и полки… Снова боевая жизнь, полная тревоги и захватывающей радости – глубокой и страстной.
Из дневника Фурманова. Июнь
Несколько дней назад… я стал замечать, что Чапай слишком нежно настроен к Нае. Я молчал, никому и ничего не говорил, всё наблюдал, следил за переменою его к ней отношения. Он стал искать уединения с нею, гулял иногда вечером, ехал возле её повозки, смотрел ей нежно в глаза, ловил взгляды и улыбки, брал за руку – любовался ею. Ко мне сделался холодней в отношениях.
Для меня уже несомненно теперь, что он любит Наю. Он не может пробыть, не увидев её, самое короткое время… Он хотел моей смерти, чтобы Ная досталась ему… Он может быть решительным не только на благородные, но и на подлые поступки.
Письмо Чапаева А. Н. Фурмановой. Уфа, июнь.
Анна Никитишна
Жду вашего последнего слова. Я больше не могу с такими идиотами работать, ему быть не комисаром, а кучером, и я много говорил с ним о вас, и затем у нас произошла ссора, подробности, если желаете, я передам лично, только не берите ево сторожем, я не могу смотреть, когда он таскается за вами, если желаете последний раз сказать мне несколько слов, то дайте ответ, я чюствую, что мы скоро розтанимся навсегда.
Жду Л… й
вас
Чепаев
Дневник Фурманова. Июнь.
Мне противны были ваши грязные ухаживания за моей женой. Я всё знаю, у меня документы имеются в руках, где вы изливаете свою любовь и хамскую нежность… Он растерялся. Он был совершенно убеждён, что я ничего не знаю о его письме к Нае и её к нему ответе.
Письмо Чапаева Фурманову. Уфа, июнь.
Товарищ Фурман!
Если нуждаетесь барышней, то приходи, ко мне придут 2 [за бригадой – зачеркнуто], – одну уступлю. [вероятно, речь идет о барышнях-машинистках. – Б. С.]
30 июля
Отзыв в Южгруппу
На мое имя пришла телеграмма:
«Вследствие ходатайства, возбужденного своевременно, Вы освобождаетесь от занимаемой должности. Постановлением Ревсовета военкомдивом назначается состоящий для поручений при командюжгруппе тов. Батурин, которому по прибытии предлагаю сдать дела и немедленно прибыть в распоряжение Ревсовета Южгруппы.
Член Ревсовета Южгруппы Баранов».
Может быть, это просто уваживается мое устное ходатайство перед Ревсоветом, когда мы с Чапаем были в Самаре. Но с тех пор уже много воды утекло… Мы с Чапаем работаем дружно. Нам расстаться тяжело. Я позвал Чапая к себе. Знаешь, говорю, телеграмму насчет меня?
– Знаю, – сказал он тихо.
– Ну что, брат, знать, пришло время расставаться навсегда…
– Пришло… Да и как же не прийти, раз все время ты просишь о переводе…
– Ну, брат, врешь, письменно не было ни разу, только что при тебе же, в Самаре.
– Так как же? – изумился он,
– Да так вот.
– Ну, а ты сам?
– А сам я, скажу откровенно, затосковал. Мне все-таки тяжело расставаться с дивизией, в которую врос, с которой сроднился. Особенно теперь, когда я узнал, что она перебрасывается к Царицыну, а там, может быть, и на Северный Кавказ…
– Так я тогда подам телеграмму, немедленно подам, чтобы тебя оставили здесь.
– Что ж, подавай.
– А ты подпишешься?
– Мне неудобно самому-то, а вот когда оттуда спросят, согласен ли я сам, – скажу, что согласен. Пока катай один.
Чапай ушел домой и послал телеграмму с просьбою оставить меня на месте…
4 августа
На телеграмму Чапая ответили очень просто и резонно:
«Тов. Фурманов освобождается от занимаемой им должности в силу ходатайства, своевременно возбужденного им, а не в силу разногласий с Вами. Кроме того, тов. Фурманов намечен для замещения другой должности, и постановление Ревсовета отменить не представляется целесообразным. Тов. Батурин сегодня выезжает через Саратов по назначению.
Член Ревсовета Баранов».
Теперь совершенно ясно, что всякие переговоры надо оставить. Я уезжаю. Со мною уезжает и Ная. Эти два дня я проводил дивизионную партийную конференцию. В лице тт. конферентов я простился с дивизией и на прощанье поделился с товарищами опытом своей работы и дал советы, как вести в данных трудных условиях партийную работу. Радостно было слышать и здесь, на конференции, и позже, в частной беседе, – сожаления о моем уходе. Уходит Ная. Она великолепно работала в культпросвете, недаром весь к [ульт]просвет едва не ставит ультиматум по поводу ее ухода. С ее уходом сиротеет к [ульт]просвет. Оба оставляем дивизию с чувством сожаления и тихой грусти. Свыклись, слюбились, сработались. От сердца отрывается живой кусок. Куда-то дальше бросит судьба? Где, что будем работать? Чапай повесил голову и вчера целый день не был у меня ни разу.
6 августа
Чапай
«– Наполеон командовал всего 18–20‐ю тысячами, а у меня уж и по 30 тысяч бывало под рукой, так что, пожалуй, я и повыше него стою. Наполеону в то время было легко сражаться, тогда еще не было ни аэропланов, ни удушливых газов, а мне, Чапаеву, – мне теперь куда труднее. Так что моя заслуга, пожалуй что, и повыше будет наполеоновской… В честь моего имени строятся народные дома, там висят мои портреты. Да если бы мне теперь дали армию – что я, не совладею, что ли? Лучше любого командарма совладею.
– Ну, а фронт дать? – шучу я.
– И с фронтом совладею… Дай все вооруженные силы Республики – и тут так накачаю, что только повертывайся…
– Ну, а во всем мире?
– Нет, тут пока не сумею, потому что надо знать все языки, а я, кроме своего, не знаю ни одного. Потом поучусь сначала на своей России, а потом сумел бы и все принять. Что я захочу – то никогда не отобьется…
Письмо Фурманова Чапаеву, 3 сентября.
Здравствуй, дорогой Чапаев.
Ты едва ли поверишь тому, как я скучаю по дивизии. Усадили меня помощником заведующего политодом Туркестанского фронта – ну сижу и работаю. Правда, работа широкая, почетная, сразу приходится думать о трех армиях, но не по сердцу мне эта работа, не дает мне полного удовлетворения. Душа-то у меня молчит и не радуется. Бывало – летаем с тобой по фронту как птицы; дух занимает, жить хочется, хочется думать живее, работать отчаянней, кипеть, кипеть и не умолкать. А теперь все притихло. Уже не слышу орудийного грохота, не вижу дорогих мне командиров и политических работников – замазанных в грязи, усталых, нервно издерганных. Наоборот – вижу часто отвратительные белогвардейские морды, вижу сытых, довольных и блаженствующих врагов. Они кишмя кишат здесь при штабе – словно черви в жаркую погоду в выгребной зловонной яме. Мне нестерпимо хочется снова на позицию. Здесь тошно и скучно, несмотря на то, что работа широкая и разнообразная. Анна Никитична все хворает, бедняга. У нее развилось малокровие и сильные головные боли. Часто мы вспоминаем родную дивизию, вспоминаем тебя, наши частые ссоры, нашу тесную дружбу.
Прощай Вас [илий] Иванович.
Привет Петруше и тов. Садчикову.
Дм. Фурманов.
3 сентября 1919 г.
Буду ждать, что напишешь.
Дневник Фурманова, 9 сентября
Смерть Чапая
Мы сидели у Полярного в кабинете… Подошло как-то к разговору коснуться 25‐й дивизии.
– А вы слышали, – обратился ко мне Полярный, – в Двадцать пятой дивизии огромное несчастье: казаки вырубили весь штаб.
– Как вырубили, где?
– Ночью, наскочили на Лбищенск, куда из Бударина переехал штаб, застигли всех врасплох и порубили. Там же был и Чапаев, про него слышно тоже неладно: будто бы во время бегства на бухарскую сторону вместе с некоторыми телеграфистами он был тяжело ранен и брошен в пути, ибо казаки преследовали по пятам…
Я был потрясен этим известием. Поднялся и побежал в Ревсовет. Там уже никого не было. Пошел к Савину. Савин рассказал то же, что Полярный, ибо подробностей пока не было. В оперативном я узнал несколько точнее: казаки сделали налет на Лбищенск в количестве, по одной версии, трехсот, по другой – тысячи человек.
Отрезали пути отступления, захватили и перерубили всех, кто остался в Лбищенске. Чапай был дважды ранен уже во время бегства. Пулей или шашкой – неизвестно.
Я с лихорадочным напряжением жду все новых и новых известий: жив ли Чапай, где он? Жив ли Батурин, Суворов, Крайнюков, Новиков, Пухов, живы ли конные ординарцы, наши геройские ребята, жив ли культпросвет, следком, работники батальона связи, где комендантская команда: все ведь знакомые, близкие, родные люди.
Думаю разом обо всех, за всех жутко и больно, всех жалко, но изо всех выступает одна фигура, самая дорогая, самая близкая – Чапаев.
На нем сосредоточены все мысли: где он, жив ли, мученик величайшего напряжения, истинный герой, чистый, благородный человек? Ну, давно ли оставил я тебя, Чапаев. Верить не хочется, что тебя больше нет. Неужели так дешево отдал свою многоценную, интересную жизнь. Но вестей все нет как нет. Вчера в местной партийной газете даже появилась скорбная статья под заглавием:
«Погиб Чапаев, да здравствуют чапаевцы!»
Написал ее товарищ Вельский, видимо, мало имеющий понятия о том, где сражается Чапаев. Тов. Вельский даже предполагает, что Чапаев погиб где-то на Астраханском фронте.
Сегодня из разговора Новицкого с Главкомом я узнал, что Чапаев дополз до 223‐го полка и эвакуируется в Уральск. В газету я послал опровержение, но уже поздно вечером от тов. Баранова узнал, что Чапаев, по сведениям, погиб в Урале. Но и этим слухам не хочется верить. Думаю, что Чапай остался жив и скоро об этом узнаем окончательно.
Завтра решится вопрос о том – ехать мне или нет в 25‐ю дивизию на формирование политода. Пока об этом переговорили с Баранычем, завтра выясним окончательно. Заберу с собой штаб работников человек в пятнадцать – и айда в родную дивизию!..
Мне все еще не хочется считать его «покойным» – дорогого, теперь как-то особенно близкого Чапая. Мне вспоминается наш последний, прощальный вечер, когда он пришел ко мне в своей голубенькой рубашонке. В этой рубашонке он все последнее время ходил по Уральску. Я вспоминаю его во всех видах, а этих видов помню бесконечное количество. Чапай, милый Чапай, жив ли ты!.. Как рад я буду, когда узнаю, что ты все еще жив!
10 сентября
Чапай
Тов. Вельский сообщил, что Чапаев погиб. Я напечатал в газете опровержение. Но сегодня получены от Кутякова скорбные вести: по упорным слухам на месте – Чапай погиб в Урале, пытаясь переплыть, будучи дважды и тяжко ранен.
Батурин изрублен на кусочки за пулеметом, куда он кинулся было отстреливаться. Начштадив Новиков тоже жестоко порублен, но все еще жив. Мне вчера Баранов намекнул, что недурно было бы мне поехать в дивизию для организации политодива. Что ж, не откажусь – кстати, на месте узнаю все подробности катастрофы.
12 сентября
Чапай
Все эти дни, как только узнал я про катастрофу в родной дивизии, сердце ноет, словно сжали его клещами и давят, давят безжалостно. О чем бы я ни думал – встанет вдруг любимый образ Чапая, и все мысли побледнеют перед этим дорогим образом. Про Чапая все нет определенных вестей. Если б он был жив, мы услышали б, несомненно, но вести как раз все скверные: утонул в Урале, убит, пропал, переправляясь через Урал.
Ноет, ноет сердце… А Батурина изрубили в куски… Новикова тоже зарубили. А Суворыч, ты где, Суворыч?
22 сентября
Пестов и 25‐я дивизия
Приехал Пестов, и на меня пахнуло родною дивизией… Он рассказал мне про страшную катастрофу следующее:
Казаки наскочили около четырех часов утра в ночь на 5 сентября. Налет не был совершенной неожиданностью, наоборот, казаков встретила цепь наших стрелков, не дала им ворваться во Лбищенск и целые восемь часов держала их за чертою города. Дело в том, что в дни, непосредственно предшествовавшие катастрофе, почти у самого Лбищенска уже неоднократно показывались казацкие разъезды. Между прочим, они наскочили на обоз 223‐го полка, где и погиб командир полка Ершов. Наскочили они и на обоз 220‐го полка. Словом, положение было тревожное, можно было ждать со дня на день налета. Но штаб все-таки должной заботы не проявил. Хотя цепь и была наготове, но она была незначительна, винтовок было всего что-то около 140–160 штук, патронов имелось совершенно ничтожное количество. Есть слух, что даже одна женщина (?) предупреждала о готовящемся на штаб казацком налете. Чапай об этом знал и все-таки мер никаких не принял. Отбив первую казацкую атаку, наши стрелки расположились в окраинных окопах и держались здесь до одиннадцати часов утра, когда вышли все патроны, когда пришлось отступить в глубь города под натиском наседавшего противника. Говорят, что казаков в этом бою полегло немало, ибо все атаки встречались ураганным огнем. Один казак на таратайке ворвался было в город с пулеметом, но его Новиков убил, отнял пулемет и стал отстреливаться. С Новиковым был кто-то еще, но кто – точно неизвестно: есть предположения, что это как раз и был тов. Батурин. Выпустив ленты, они остались безоружными и были зарублены казаками. Новиков, тяжело раненный, уполз в халупу и остался жив.
Батурина изрубили. Теперь Новиков перевезен в Покровск, у него перебита нога. Когда не стало больше патронов, когда погибла всякая надежда на спасение, наши стрелки отступили к самому берегу Урала и застыли в ожидании неминуемой гибели. Оставались только последние сотни патронов. Город в это время со всех сторон уже был окружен казаками. Их густые колонны то и дело пытались прорваться к центру. Путей отступления у наших стрелков не было совершенно: с трех сторон казаки, а позади – бурный, широкий Урал под крутым трехсаженным обрывом. Застыв над обрывом, они молча, сбившись друг к другу, ожидали неизбежно идущую верную смерть. В это время Чапай был ранен в руку и в щеку; у него по одежде и по лицу струилась кровь, он держал в одной руке винтовку, в другой револьвер, чтоб в последний момент не даться живым в руки и пустить себе пулю в лоб. Он был прекрасен в своем мужественном терпении и спокойствии. Уже много бойцов свалилось в Урал, пораженные неприятельскими пулями; многие кинулись сами в бурные волны Урала, желая достигнуть противоположного берега, но редко кому удавалось переплыть быструю реку: почти все пловцы погибли в волнах. На обрыве остался один Чапай; предпоследним кинулся в волны военком санчасти – он остался жив. Больше Чапая никто не видал. Может быть, он тоже упал в бурные волны Урала, сраженный казацкою пулей, а может быть, сам угодил себе в сердце и теплым трупом отдался свирепым врагам? Никто не знает, никто дальше не видел героя, благородного бойца Чапая. Казаки поставили на берегу Урала пулеметы и били по тем, которые пытались переплыть к другому берегу. Может быть, и Чапай кинулся в воду – измученный, израненный, ослабевший. Может быть, утонул в изнеможении, а может быть, и в волнах добила его меткая вражеская пуля.
Когда Кутяков со своими полками стремительно отходил назад и проходил через Лбищенск, были видны три огромные свежие могилы, доверху наваленные человеческими телами. Может быть, среди этих тел было и худенькое тело славного командира Чапая.
Он пропал без вести. Он не мог попасть в число тех шестисот человек, которых казаки увели с собою: Чапай, Батурин и Крайнюков, видимо, погибли на месте. «Выдавай жидов, коммунистов и комиссаров, не то всех расстреляем», – крикнули казаки толпе. И там уже начались опасливые шушуканья: коммунисты, вероятно, были выданы и все зарублены после истязаний.
Кутяков прошел до Бударина от Сахарной как ангел мести, как истребитель: он сжег дотла все селения и, вероятно, мало кого оставил из жителей, шпионаж которых на лбищенской катастрофе сказался с поразительной ясностью. Теперь нет больше вольного орла Чапая – вдохновителя и руководителя славной Чапаевской дивизии, а вместе с ним нет и тех, которые облегчали ему многотрудную работу: нет Батурина, Крайнюкова, Суворова…
6 октября
Воспоминания о Чапаеве
Когда мы собирались вчетвером: Чапай, Исаев, Садчиков и я, мы всегда пели любимую чапаевскую песню: «Ты, моряк, красив собою»… Это была у нас самая любимая и самая дружная песня. Были и другие: «Сижу за решеткой в темнице сырой», «Из-за острова на стрежень»… Были и еще, только я тем песням не научился. Чапай голосу, собственно, никакого не имел, но заливался всегда резким и громким металлическим тенором. Он утверждал, что раньше пел великолепно и был в хору одним из первых. Теперь он, правда, особого эффекта не производил, зато пел увлекательно, заразительно и весело. В песне Чапай весь отдавался наслаждению, душа у него была напевная. Петь он был согласен когда угодно: и днем и ночью, дома и в поле, после боя и перед боем. В этом отношении он был даже несколько неосторожен: заливался и увлекал нас, даже подъезжая к позиции. Однажды темным вечером в открытом поле мы заливались отчаянно, имея с собой человек десять ординарцев. В ту ночь мы заблудились и ночевали в поле. А поблизости, оказывается, были казаки. Мы были совсем неподалеку от позиции.
Но лишь только объявлялось дело – песню обрывали на полуслове, оставляли недопетой. Чапай становился суровым, строгим, спокойно сосредоточенным: он думал. Он думал много и сосредоточенно.
Когда мы едем, бывало, на позицию, Чапай долго молчит и потом скажет: «Вот не знаю, как ты, Дм [итрий] Андр [еевич], а я все думаю, все прикидываю, как лучше обхватить врага. У меня все мелькают перед глазами перелески, долины, речки, я замечаю, где можно пройти, откуда можно застать его врасплох…»
Недаром Чапай готов был к любой неожиданности, его ничем не удивишь, он всегда и быстро находил безболезненный выход даже из самого критического положения. Он великолепно помнил не только места нахождения своих полков и полков соседних дивизий, он помнил даже те деревушки, которые бы ли уже пройдены, но которые зачем-либо вдруг оказывались нужными.
Память у него была замечательно сильная и в то же время какая-то особенно цепкая: она ухватывала все, что проходило мимо, – и разговор, и лица, и содержание книги, и подробности боя; он все представлял отчетливо и точно. В его память всегда можно было адресоваться за каждою справкой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































