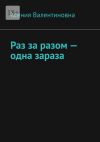Текст книги "Птичий язык. Стиходелии 2002–2019"

Автор книги: Дмитрий Гольденберг
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
История Ардальона Симеоновича Целовальникова, Скромного Гения, Гражданина и Человека
Намедни, перебирая пачку пожелтевших рукописных листков бумаги, Автор подёргал себя за дзержинскую бородень и пробормотал: «Это не должно пропасть, оно должно всенепременно попасть в какие-нинаесть анналы, анальные каналы или как его там, чтоб ему пропасть, ни дна ему ни покрышки!» Как же можно выплеснуть Ардальона Целовальникова вместе с мыльной водой из корыта, простите, тазика? сбросить его с корабля современности, как замордованного литературного классика? ну уж нет! дудки! fiddlesticks! или, фигурально говоря, bullshit!
Вперёд, на мины, дорогой доктор Айболит Ипполитович, Плутарх Аристархович, Адам Саддамович, Пантелеймон Спиридонович Пирамидонов!
* * *
Доктор трясущимися руками цедит себе спирту в пробирку, выпивает, не закусывая. Он врачует в этой пробирно-клистирной палатке вот уж осьмнадцать лет, изо дня в день лицом к лицу с корью, паршой, нарывами, переломами и чесоткой. За второй да третьей пробиркой в его черепной коробке ржавая патефонная игла приводит в движение слежавшиеся пласты воспоминаний, исторгая из них ноты легких, полётных музык…
Студенческая практика. Он, стажёр, зеленый и конопатый, что твой ящур, вырезает аппендикокс сутулому призывнику. Помимо аппендикса, обнаруживается еще какой-то экзотический рудимент. «Что делать, Галактион Кузьмич?» – спрашивает изумленный стажёр ветерана-хирурга, а тот лишь утирает пот со лба да говорит: «Рубай!» и возвращается к своей собственной жертве…
Нонешний четверг в исторические анналы никак не вписывался для Ардальона Медальоныча. Он просто-напросто тасовал истории болезней на столе, ощупывал жирные мяса окружных старух, выстукивал хрипы и всхлипы рахитичных сопливых детей, да с затаённой симпатией выслушивал мычание продубленных дешевым портвейном алкашей о желанном «бюлетне».
Доктор вот уже осьмнаццыть годков на этой окраине города и мира, где в один воспалённый лимфатический узел связались железная дорога, троллейбусная линия, первомайские транспаранты, морзянка моросящего дождя, и, красной нитью, классовая борьба таэквондо, из ударов и блоков переходящая в овацию стоя, а также бурю продолжительных аплодисментов.
Он учился здесь в школе на все пятёрки: мензурки, сменная обувь, совет дружины, линейки, новые постановления партии в домино и правительства, отравительства, диверсии, терракты врагов гуманизма, терракота и плюш директорского кабинета, где под портретом Отца Прогрессивного Человечества директор отчитывал нашего Целовальникова за курение папирос, до которых у последнего нос не дорос. И так они и глядели друг на друга в этой непроницаемой комнате – диктатор, директор и (будущий) доктор.
Ещё одна пробирка опрокинута, жестом жёстким, нацеленным и не лишённым замаха на гениальное откровение. У доктора – преферанс по пятницам, пасьянс по субботам, прочие прибамбасы и причиндалы по воскресеньям. По остальным же дням он врачует тела человеческие, колет, рубит и режет.
Сидя на разорванном кольце унитаза, Ардальон буравил взором пустой, как заполярная тундра, потолок, щурясь от яркого желчного света зарешеченной, словно опальное столичное светило, электрической лампочки. Дёрг за цепочку спуска, как машинист поезда за паровозный гудок, и – до новых встреч. Коридор немотствует. Доктор бодрствует и мудрствует, печатая каучуковый шаг. Пора домой, надев калоши и макинтоши. Завершается день, на подходе вечер.
А следующий день был еще одним днём, еще одним кинокадром, конокрадом закравшимся на спящие задворки. Для доктора Целовальникова день этот начался ни свет ни заря, в операционной на пару с полуслепой фельдшерицей на подхвате. «Апокалипсический удар», – констатировал доктор диагноз. Сказал, как отрезал; ни пришей ни пристегни теперь, отмеривши однажды да отрезав семь раз. Утомленно сбросил окровавленные перчатки после двух часов поисков неведомых болезнетворных сил в брюшной полости все ещё живого тогда пациента и, «в белом халате с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой» – вон из операционной, в тишь кабинета, к прохладе спиртового полуштофа!
* * *
В выходные Ардальон Багратионович спускается на лодочке вниз по реке. Он рыбачит, потягивая рыбку из мутной воды, а также едкую жидкость из фляжки. Одинокая его массивная фигура отбрасывает на водную рябь мистическую тень, где благословенный сосуд схож с горном глашатая, провозвестника зари. Доктор рыбачит, бабки на берегу судачат. Доктора мучит застарелый парапсихоз… Он делает себе целебной ухи из рыбной шелухи-требухи, посередь папоротников и лишайников, поваленных дерев; мухоморы Беломором обкуривая, отгоняя кровопийц-комаров. Костёр быстр. До седьмых небес сплетает он кружево дыма, пожирая сыроватое крошево отданных ему на съедение веток. Вариации наяривают птицы, оголтелые и обезумевшие в своих частоколах зарослей, в своих зарослях частокола, чертополоха, кедра, дрока, шиповника и акаций. Гневной филиппикой в ответ им разражаются склизкие жабы, представители семейства головотяпов-головомоев, в волглых помоях болотного мха копошащиеся своими культяпками.
Из животного мира присутствуют вдобавок к вышеперечисленным и все нижепоименованные, как то: черви, втихомолку грызущие редкие сыроежки, муравьи, строящие свою пирамидальную египетскую жизнь на сухих островках, одинокие залётные оводы и мухи в поисках благодатного экскремента. На пне свилась пружиной, да призадумалась, гадюка. Разная прочая сволочь также жительствует себе по кустам…
Всласть отоспавшись в палатке и высморкавшись, наш Авиценна, цену авиации и прочих средств передвижения презрев, на своих двоих отправляется в обратный путь, чтобы возвратиться к служебным обязанностям: к колюще-режущим ранам (а в ход здесь идут ножи, отвертки, топоры, циркульные пилы…), авитаминозам, зоофилиям и гипертрофированным гипертониям. Он входит в город пляской святого Витта, и приветствуют его лишь полудохлые облезлые псы да задристанные куры…
* * *
Здесь, пожалуй, автору придётся сделать нечто вроде рокировки шпагой, дабы парировать укусы штатных и внештатных критиков и записных эрудитов. В благородном гневе таковые милостивые государи и государыни всплеснут руками и остывшим чайком в засаленных подштанниках, простите, подстаканниках, мол, де, автор-то ещё с полтыщи литер назад вещал нам о нелегком бытовании врача и выполнении долга, клятве Герострата и проч. и проч., только чтобы резко, неожиданно и внезапно сбить читателя спонталыку, начав гнусаво гундосить что-то там о лесе, топоре дровосека, уссурийской тайге и кулацких недобитках… Оставив подобного рода категориям догматиков «ихнее» крючкотворство и пиротехнику, мы скромно и сдержанно отправим их к самому началу настоящей рукописи, а именно к заголовку, предвещающему читателю знакомство не только с Анаксимандром Саламандровичем, но и со Скромным Гением, и с Человеком, и с Гражданином, каковые персонажи лишь полунамеком, вполсилы вводил автор в текстуру своей партитуры.
Что касается доктора Ц., то он предоставил Человеку месить кирзачами зловонный проселок на пути к сельскому медпункту. Доктор же, как таковое дитя Вселенной, преобладал в инаких координатах. Поворотив с Военно-Грузинской дороги на Желудочно-Кишечный тракт, Доктор Авессалом Самаркандович Ц. приостановился пораскинуть мозгами (хотя излишка таковых не наблюдалось) у придорожного камня. Камень сей не содержал никакой путной информации, разве что являл миру милое сердцу россиянина, медитативное, словно индийское «ом», трехбуквенное сочетание. Приняв единственно верное решение, Доктор зашагал куда глаза глядят, в результате чего набрел на железнодорожное полотно. Носатый, голенастый мужик гнал по нему дрезину с надписью «Трамвай 10-й номер». Вагоновожатый был одет в вицмундир цветов побежалости; чесучовая нечесанная борода довершала живописный типаж. Минуту спустя он и Доктор гнали дрезину под гору, дикими голосами разнося по округе нехорошие песни.
Пройдя таким образом путь от Британских морей через годы и расстояния, дуэт наконец достиг самого Центропупия. Друзья бродили от трактира к трактиру, поражённо взирая на Метрополию с ее матриаршими озерами, священными мощами в озвезденных погребальницах и изобилием важных тарантулов, снующих туда и сюда в черных тарантасах. Брюхоплечистые жандармы гнали нашу пару гнедых отовсюду, как распоследних архаровцев. Намаявшись, неприкаянные взгромоздились на дрезину и покатили восвояси…
Если же говорить о Гражданине, то сей экземпляр рода человеческаго обретался в закоулках исторического процесса, загнанный туда развитием производительных сил. Бросая уголь в жерло ненасытной печи, Гражданин давал стране угля. Выглядел он сущим басмачом со своей серьгой и космами, пропитанными для большего безобразия пироксилином и столярным клеем и превращенными в ощеренный ирокез. Арина подала ему на стол перловой каши, села рядом, мурлыкая и жмурясь, как кошка. Гражданин с чувством выдохнул и опрокинул жгучий граненый стаканчик в горловое горнило. Там запершило, заиграло, заработало, и пошло-поехало, занялось!
Скромный же Гений, ещё один герой нашего повествования, осанисто стоял у гранитного парапета, устремив командорский взгляд вдаль и отставив в сторону руку с пивной кружкой. Мощный выдох, и пена слетает с кружки в леденящую сталь воды канала, словно подвенечная фата с головы невесты, несущейся со своим женихом, коллежским асессором, в удалой тройке, запряжённой членами Верховного Трибунала. Хрясь! и стукнутая о гранит вобла теряет целомудренность и завершённость формы, лишается чешуйчатых одежд и отдается зубам героя. Звучит похоронный марш, и стадо гусар проходит аллюром повдоль улицы…
Доктор Целовальников семенит к шкафчику со спиртом. Он доктор, человек, гражданин! Он будет жаловаться! Дурень-автор, поперек реальности идя, пытается расщепить его личность, посеять раскол и ненависть и учинить террор, произвол и насилие. И Автор сгорбленно отступает в тень под напором обвинений, посыпая голову пеплом и оставляя всех своих героев на сцене собирать цветы и жмуриться от аплодисментов. Но, придя домой, он скинет шинель, и присядет за стол, и затеплит лампаду, и плеснёт себе граммов двести недрожащей рукой, неторопливым уверенным жестом, и выпьет, и ему лукаво улыбнётся огненная искра света, молнией скользнув по граням стакана и затерявшись на неметёном полу.
2. МИР НАИЗНАНКУ (99 дацзыбао)
2002—2003

От автора
Однажды автор летал по своей комнате и внезапно был осенён интересной мыслью: «А не круто ли было бы создать цикл из 99 стихотворений?» Почему 99 а не, скажем, 66 или 100, было неясно. Даже Алистер Кроули в своей известной Книге Лжи добрался только до номера 91, а уж куда было соревноваться с известным Магистром?
Оставить эту затею в виде чистой идеи, которая никогда не была претворена в жизнь? Это было бы забавным, но стандартно концептуалистским ходом. Чего уж пижамничать с творческими задумками, ежели они наконец-то созрели в нас?
И автор, с усердием, возможно, достойным лучшего применения, взялся за перо. Перо было густо-синего цвета, выдранное из филейной части фазана, дронта или какого-другого крылатого зверя. Как водится, поковыряв им в ухе, приступил… и продолжил… и… закончил свой многотрудный труд!
Что ж, судите сами, к чему это привело.
1. Введение в 99
Что с того, что все провода перерезаны, словно вены самоубийцы?
Кто бросит камень в бабушку, промышляющую шпионажем? —
Риторические вопросы, выуженные из расширенной глазницы,
Ведут себя, как малые дети: «Мы знаем ответы, но мы никому не скажем».
Чертовски заманчиво перепрыгнуть на ту сторону ограды, обросшей плющом.
Ночью темно, хоть глаз выколи – кинжалом, спрятанным под чёрным плащом.
Утопи, детка, печали свои в результатах труда винодельцев.
Разница между красным и белым намного значительнее различий северных и южных корейцев.
Континенты дрейфуют в такт телодвижениям обкурившейся гашиша Агриппины.
Изогнувшись галантно, Курилам дают прикурить Филиппины.
Жёлтая ядерная подводная лодка крута – ей не загородишь пути.
Мы наблюдаем, как, взорвав железной хребтиной лёд, она входит в узкое отверстие 99-ти!
2. Творческие муки (В поисках темы)
Внезапно от чиха
Из левой ноздри
Выскочила сопля,
Спикировала на полированный стол,
Как подстреленная зайчиха
С тяжелым свинцом пули внутри.
Дымит охотничьего ружья ствол,
Пришепётывает ветром колышимая конопля.
И мне, как фокуснику – аплодисменты после показа фокуса,
Как наркоману – укол,
Как Абдулле – новая жена для гарема,
Позарез необходима тема
Для очередного опуса.
Муза – растрёпанной проституткой
Дрыхнет на моей постели.
В её потасканных сиськах попробуй тему узри.
И я – пишу о сопле, падающей подстреленной уткой,
Выскочившей из левой моей ноздри.
Моя голова пуста – что за комиссия, в самом-то деле?
Негоже.
И ноздри мои, словно зимою – сады Эдема,
Окончательно опустели
Тоже.
3. Зимой
Пощёлкайте тумблерами, нахлобучьте себе на голову картузик вагоновожатого, и сиганём-ка на фуникулёре туда, вверх, к альпийским снегам. Лишь там, на площадке, перед тем как упасть вниз с трамплина – как пущенный пращой камень – аххх, уххх, и-эххх! – откроются вам целые соцветия головокружительных, многомерных, зовущих к звёздам правд…
Лыжи в двух разных сугробах, замёрзшая, улыбающаяся рожа лыжника торчит, в оранжевой шапке, из третьего. Сенбернар, нашедший незадачливого спортсмена, лижет ему губы, нос, щёки. Лыжник очухивается и начинает с собакой целоваться – по-французски, взасос, с языками и т. д. Камера медленно, задумчиво переходит к заднему плану, дабы в деталях продемонстрировать зрителю прелесть заснеженных швейцарских перелесков…
4. Давайте
Проведём пастора Шлага через границу, через игру-зарницу пионеров зрелого возраста.
Проведём на мякине хлебосольного Кулебякина, президента акционерного общества.
Ляжем спать на пуховые перины Коробочки, проснёмся на охапке горящего хвороста.
Арестуем самих себя за спекуляцию моральными ценностями, но в протоколе допроса не сдвинемся дальше графы «Фамилия, имя, отчество».
Национальность отменим и введём категорию кардинальности.
Сарданапал напал на Вавилон и присоединил его к ассирийской империи —
Сей факт приходит на ум пузатому жандарму, который отвешивает густые сальности
Работающей на углу усатой даме полусвета (ка) Валерии.
Транжирил жир жизни жуир, жжа свечу с двух концов оголтело, безжалостно —
Жан-Жак Жарикофф, потомок русского эмигранта.
Пьер же Жан Беранже поедал бланманже в форме нагло восставшего фаллоса
На глазах у тридцати голодающих сыновей капитана Гранта.
Опрокинем же стопки, закусим солёной горькушкой,
Потрафивши Трофиму, целующему невесту.
Царь – на медном коне. Пушкин – голый, в обнимку с Царь-пушкой
И, пожалуй, немного не к месту —
Ванька-Встанька, братающийся с Петрушкой.
5. Странные мысли из дневника поэта Степана Лизоблюдова
Гармония – в одинаковости.
Ритм, повторяющийся и повторяющийся раз за разом, являет собой ни что иное, как паттерн, последовательность. Паттерн основан на геометрии равенства сторон, расстояний, промежутков; на очерёдности, закономерности, укладываемой в математику. Равенство, одинаковость (сторон, расстояний и т.п.) излучает и составляет собой гармонию. Гармония, тем самым, заключена, как муха в мыльном пузыре, в Одинаковости.
Сестра Одинаковости, Ординарность, суседится со своей красавицей-сестрицей, как подпорченный продукт, спрятавшийся за личиной «ну почти что как и её сестра красивая». Стои́т рядом на входе в шикарный клуб, накрашенные губки куксит, раскачивается из стороны в сторону, потупив взгляд, исподтишка разглядывая вас. Сосёт леденец и прячет руки (свои и сграбастанные сестрины) в муфту из какого-то пегого зверя.
Чёрный диск-жокей, затянутый в чёрную кожу, этим случайно залетевшим сюда сестрицам-голубушкам подмаргивает, маргинально намекает или намёкивает о том, что, мол, хей, герла, типа, как оно? всё окей? ну, типа, давай в моём лимузине ко мне на хижину. Хижина у дяди Тома – тёмные монаршие хоромы в хипповом районе Нью-Йорка. Федерико Гарсиа Лорка и Жан-Баттист Баскиат курят с ним мариванну; ванную комнату лучше не посещать. Стучать, кричать, верещать, артачиться смысла нет. Ординарность насилуют приспешники Тома, сам-друг завалил на диван Одинаковость. Однако – попробуй изнасиловать согласных! После – поиспользованные, сопливые, потерявшие лоск сёстры прячут глаза в крашеные локоны, одна принимает из руки бородатого сладко дымящий бычок, вторая – приналегла на белые линии кокаина, на которые приналегала уже и ранее…
Спичка – детям не игрушка. «Спичка» – игрушка взрослых – тощая наркоманка с болезненно белой кожей и развратно припухшим ртом. Дяде Тому она уже порядком поднадоела. Азартно, азартно наблюдает она за вальсировкой в шахматном порядке расставленного стада коров, от перестановки мест которых не изменяются ни сумма, ни частное, ни произведение, ни разность. Сестра Разности, Разница, была, в противоположность Ординарности, бойкой девкой, партизанкой, татаро-монголкой. Иголкой? заколкой? – чем-то кольнула она Разиню, самую младшую из сестёр. Востёр, у последней, носик, щёчки красны от беготни и общего довольства жизнью… И думает она свои девчоночьи думы о вышивании гладью и катании на санках и коньках…
Наркоманка Спичка играет на «баяне» в загаженном сортире. Героиня, балующаяся с героином. Она падает замертво на пол, переборщив с дозировкой, и что-то белое течёт у неё изо рта на грязный кафель…
И вот – страна, загадочный остров, Республика Тетратистан – тоже наркоманка, привыкшая к перманентному аутодафе, к самогеноциду. «Чистая я, чистая, не пользую,» – повторяет она, втихаря возвращаясь, снова и снова, к своей аддикции, вкушая от собственных телес. Чего стОит одна-другая-двадцатая жизнь человеческая в перспективе дикого, гикающе-свистящего евразийского племени, мчащегося на ядерных конях сквозь огонь столетий? И, при всех прочих равных, если перед страной возник вопрос о выборе между лучше и хуже, то уж не лучше ли выбрать то, что хуже?? Потому что – лучше хуже, чем лучше. Потому что «пострадать надо». И лучше кому-то другому, чем нам. Босиком – по снегу. Под водку, каждый шаг становится беспримерным подвигом, каждый день – страницей летописи языческой жертвенности, переворачиваемой могучей дланью Солнцебога… Колесницы очумелых тетратистанцев носятся по острову и упадают в бушующие воды моря с его ужасающих скалистых берегов… Юные девы слагают о них длинные любвеобильные песни.
6. Посвящение бывшей любви
Мой друг, раздвинь пошире ноги,
Отбрось прикид фальшивый недотроги
И я войду в тебя, торпедою в корабль,
Как дирижёр с оркестром входит в дирижабль.
Я никогда тебе не возражал
Когда язык твой нервы раздражал мне.
Я уходил в себя, как в лес уходит странник,
Но, оставаясь прежним остолопом,
Я возвращался, раненым циклопом,
Дитём в кругу семи бездарных нянек.
Мой враг, мой лапсердак, мой Лебедев-Кумач,
Мой врач, как сифилис, заразный!
Мне без тебя – каюк, с тобою – полные кранты.
Шьют золотые аксельбанты к выпуску курсанты.
Бьют гимны победителей, как заведённые, куранты.
И точит свой кривой кинжал седой басмач,
В засаде ожидая караваны.
А хиппи Джо в сумарь противогазный
Кладёт дурманящие запахом саванны
Пластмассовые синие цветы…
Мой друг, давай сыграем в фанты,
Что ли?..
7. Седьмое
Тальянка, жарь! Как птица Гамаюн,
Посаженная в золотую клетку,
Я раб твоих запиленных виниловых пластинок.
До блеска вычистив гальюн,
Матрос закурит сигаретку,
А после примет душ, как схиму – инок.
Вот – жареная корюшка, жбан пива.
Любовь – украденный бумажник,
Волшебный, словно «крибле-крабле-бумс».
На пенном гребне диссоциатива
Усатый чернокнижник, старый бражник
Чалмою увенчал себе бурнус.
Уходит лето, как песок меж пальцев —
Белок-желток омлетов по утрам,
Пикейный лён одежд беспечных постояльцев.
В лице моём – салюты кровяных канальцев.
Стократно харе Кришны харерам
Орут, в восторге, глотки попугайцев.
«Пора меж волка и собаки» —
Между медведем и козлом —
Старуха в балахоне и с косой.
«Малыш», – осклабился Третьяк, размером вдвое больше Полтораки, —
«Айда, малыш, за воблой и вином!»
И сыр лежал для них, вороной и лисой
Промеж, и на углях костра, маша по ветру бородой,
Им Дед Пихто, в тельняшке и босой,
Который час отплясывал сиртаки.
8. Продолжение странных мыслей из дневника Лизоблюдова
Куда, куда податься, где обрести если не покой, если не движение по спирали вверх, то хотя бы не падение и не топтание на одном месте, словно маленький мальчик, которому позарез надо пописать, а туалет занят большим, толстым, рыхлым Анатолием, восседающим там сейчас, как на троне, погружённым в облако собственного пердежа, словно государственный муж – в мириад неразрешимых проблем вверенного ему безобразия. «Азия, Азия,» – думает муж сей, объевшись маринованных груш на дипломатическом рауте, – «Ни капли разума у людей, а всё только бы махать кривыми саблями с лошадей да грешным делом дочерей своих приучать, словно щенков к песочку, к бессовестному, бессловесному инцесту!»
«Оказия, вот так оказия!» – думает жена государственного мужа, застукав его в кабинете совершенно голым, выкрашенным в защитный цвет, в окружении занятых разными позициями мужской любви десантников из его личной охраны.
За что можно ухватиться, дабы не быть унесённым ветром, съеденным червями размером с лошадь, или утянутым на дно зыбким, чавкающим, словно обжора за поедением окорока, болотом? Всё – временно, тленно, фальшиво. Притворяшки – игра, в которую мы играем, обманывая самих себя, придумывая сложные системы взаимоотношений и правил, чтобы замаскировать единственную истину – мы смертны. Пришли и уйдём, недопив, недопев, недописав строк. И хорошо ещё, ежели уйдём эдак спонтанно, поперхнувшись на косточке или в беге за уходящим трамваем. А ежели не так, а потеряв разум, потеряв власть над бренными телесами, измождёнными членами своими? Шамкающим стариком, с редкими седыми патлами, торчащими с иссохшей, словно гнилая тыква, словно использованная клизма, головы; с кривыми ногами и костылями? И – два больших, этнически двойственных санитара, жизнерадостно гогочущих, пихающих тебя, таскающих по этажам, из клистирной до палаты, от туалета до телевизора, гадливо моющих тебя, словно больного пса… Ты знаешь: их бы воля, они б забили тебя насмерть, слабого чужака, некогда молодого и независимого, а теперь немощного, никому не нужного и забытого всеми.
И будешь лупоглазо, через толстенные линзы уродливых стариковских очков, внимать бреду телевизионных шоу. И будешь думать о том, что за всю жизнь «не посадил ни одного дерева», не съездил на сафари в Африку, никогда по-настоящему не любил и не оставил потомства. Не сделал детей, которые понесли бы дальше твои ДНК, продолжили бы род твой. Не изведал удивительного чувства отцовства, гордости от того, что принёс новую жизнь в мир сей. Не присоединился к негласному клубу мужиков, чувствующих себя паханами, вырастивших сыновей-дочерей и старящихся в окружении внуков-внучек.
Упоённо стрекочут цикады в траве и воздух взрывоопасно заряжен, словно сжатая до упора пружина, предвкушением грозы и ливня, скорых и неминуемых, как возмездие молодой республики… Не имея в лёгком рюкзачке за кургузой спиной своей ничего, кроме словаря Даля, летящей походкой, лёгкой рысью выступает наш лирический герой в пугающе-манящие пампасы неизвестности…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.