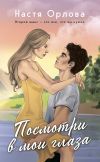Текст книги "Семь писем о лете"

Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)
Но на съемки меня не зазвали – зато зазвали на вернисаж, соблазнив халявной прогулкой на белом катере. Уж не знаю, где умудрилась раздобыть белый катер проворная Лялечка, но от Петропавловки до Новой Голландии по водной глади мы домчались с ветерком, что было совсем нелишне в такую-то жару.
В галерее нас уже поджидала Валентина, которая тут же познакомила меня с «внучком», художником Ильей, весьма симпатичным молодым человеком, и впрямь схожим с Ильей Муромцем и богатырской статью, и окладистой рыжей бородой. Он тут же представил нам миниатюрную, изящную, как статуэтка, девушку, назвав ее при этом «моя Флоранс». Та смущенно улыбнулась и целиком спряталась за его мощную спину.
Илья что-то сказал ей по-французски и, когда она вновь предстала нашим взорам, показал на надпись на ее футболке – короткое сочетание букв и цифр.
– А теперь идите сюда, – сказал он и повел нас в глубь галереи.
Рассказывала, в основном, Флоранс, Илья переводил, иногда его сменяла филологически подкованная Валентина. Я слушал, стараясь не упустить ни одной детали, в голове уже начинал складываться рассказ в трех частях. Хотя, почему в трех? В четырех – причем одна часть, первая или вторая, о чуде, случившемся с девочкой Верочкой летом 1942 года, уже написана и лежит в моем столе рядом с рассказами о девочке Ларисе и ее последней встрече с отцом и о девочке Вале, принявшей водное крещение в огненном аду.
И, возвратившись в тот же вечер на дачу, я отыскал бумагу и ручку, включил в мансарде лампу и, раскрыв окно в дышавший ночной свежестью сад, принялся писать.
7
Семь писем о лете (продолжение)
…А Бог с улыбкой смотрит на тебя,
Дитя свое безумное любя,
И знает, что иначе быть не может.
Андрей Коровин
«Здравствуй, Настя. Мне тебя очень недостает. Я тебя люблю – это главное, что я хочу тебе сказать.
Вот и перевалил за половину июль, как раньше писали в книжках. Самая главная новость – у нас теперь продуктовые карточки. Правда, все давно уже говорили, что так и будет. Кто мог, делал запасы. Мама почти ничего не успела, потому что, как я тебе писал, уезжала с Володькой на дачу. Но кто же тогда знал? У нас только пшенной крупы мешочек, потому что мы ее не любим и едим пшенную кашу редко, да соли достаточно. Есть еще изюм, да папа заказал мешок картошки, молодая уже появилась.
Помнишь, как на Новый год мы пекли в печке, в золе, картошку? Все перемазались и твоя мама тоже. И смеялись, перемазанные. По-моему, это был единственный раз, когда я видел, как тетя Надя смеется. Она ведь только улыбается иногда, но все как-то грустно или неуверенно.
В Ленинграде роют повсеместно противовоздушные щели, роют по окраинам города и даже в центре, в парках и скверах, прямо на клумбах, на газонах, выворачивают землю бурой изнанкой на белый свет.
Я попросил Мосина-Лирского (это мой напарник), чтобы он сфотографировал меня рядом с таким раскопом. Здесь, на фотографии, я в районе Дудергофа, у Вороньей горы, и собственноручно рыл, помогал женщинам, которые там работали. Они тоже на снимке. Женщины эти – то ли музейные работницы, то ли библиотекарши, то ли имеют отношение к архивам. Я так подумал, потому что они говорили о подготовке архивов к эвакуации и о том, что какая-то часть будет отправлена в Исаакиевский собор на хранение. Или в Казанский, что ли? В общем, под защиту толстых церковных стен. Они надо мной немножко посмеялись, когда я развернул фотоаппарат и начал снимать, а потом позвали помочь.
Вот я и взял в руки лопату, а и то, правда, стыдно: я, молодой и здоровый, а они пожилые, усталые, распаренные, хоть на фотографии это и не очень заметно. Рыть тяжело. Если песок – ссыпается с лопаты прямо на голову – яма глубокая. Если глина – лопата неподъемная. Это я теперь знаю, мне ведь раньше не приходилось копать, если не считать того, как мы сажали деревья у школы. Но там земля была мягкая и ямки небольшие. А ты держала деревце, еще без листьев, только с набухшими почками, и мы гадали, что это за деревце – то ли клен, то ли липа. Помнишь?
Ну а снимок так себе получился: у Мосина-Лирского, когда он щелкал затвором, руки дрожали. Он, как всегда, с похмелья был.
Я тебе, Настя, про него расскажу. Про моего напарника Мосина-Лирского.
Он старый репортер – еще до революции был хроникером, бегал за новостями. Он рассказывает много чего интересного, когда в состоянии. Говорит, то есть говорил, что вот, мол, пришло время послушания, время поста и умерщвления плоти. Суесловие побоку, мирское побоку, пышным одеждам место в сундуке. Смирение паче гордости – так он говорил. Наверное, выжил из ума, он водку любил пить. Время принимать ниспосланные кары с благодарностью и натянуть на глаза монашеский куколь, чтобы под непроницаемой для дневного света власяницей истину зрить мыслию, а не грезу – очами чрез лгущую прозрачность розовых стекол. Вот как он говорил. И повторял не раз свою „проповедь“, как он называл, вот я и запомнил слово в слово.
Он всегда с похмелья был, поэтому я старался чаще ходить и разъезжать в одиночку, без него. Я приносил фотографии в редакцию, рассказывал, что видел, а он, если не спал на диване у редакторов, садился за старый дежурный „Ундервуд“ и писал короткие репортажи или сопроводительные надписи к моим фотографиям. Его не увольняли только потому, что жалели и все к нему привыкли. Его называют „наш корабельный кот“, или „дельфийский оракул“, когда он смешно пророчествует и, знаешь, Настя, иногда бывает прав.
То есть бывал прав. Его больше нет, а я все забываю об этом. Забываю и пишу о нем в настоящем времени. Но, может быть, так и нужно.
Истину, и верно, надо „зрить мыслию“. И сердцем.
И сердцем, папа говорит. Сердце у него теперь совсем слабое, он теперь без нитроглицерина никуда. Поэтому я стараюсь не расстраивать его, да и маму тоже, и не все рассказываю из того, что видел, чему был свидетелем. Ведь репортер – это, прежде всего, свидетель. Так и дядя Макс говорил, и Мосин-Лирский…»
Евгений Иванович Мосин-Лирский разорял свое жилище, свою комнату в деревянном доме на берегу Карповки. Дом шел под снос, как и многие деревянные строения в Ленинграде летом сорок первого. Спешно сносили деревянное из опасения грядущих пожаров от бомбежек и обстрелов.
Еще недавно плотно заселенный домик опустел – жильцы разъехались, кто куда: кто в эвакуацию, кто по окраинам – на временное, как говорили, поселение. Остались в домике только два приятеля – Евгений Иванович и Шура Лейкин, в прошлом Шурале – художник-карикатурист, а нынче ночной сторож при медицинском институте. Приятельские отношения Евгения Ивановича и Шуры сложились лишь на основе общего пристрастия к винопитию, в прочем они не сходились и даже испытывали друг к другу явную неприязнь, хотя знакомцы они были старые – еще со времен газетно-журнальной молодости.
Шура жил-поживал, не отягощенный личной собственностью. Имущество его почти что целиком состояло из подушки, кружки, ложки, ножика и обшарпанной гитары, потерявшей басовую струну и колок. Он хвастался – Вяльцевой гитара. Добыта гитара была не совсем праведным путем во времена, когда разоряли нэпманский ресторан-бордель, оборудованный в бывшем доме Вяльцевой на углу Ординарной и Карповки. Шура же в сем небогоугодном заведении начинал свою карьеру сторожа. Гитара та самая была брошена неким малоизвестным исполнителем цыганских романсов прямо на сцене во время облавы. Шура, от греха скрывшийся в бурьяне между сараями, ее попятил, когда кипеж улегся, и стал называть вяльцевской. Осушив стаканчик, Шура мычал вяльцевскую цыганщину, пощипывая как попало струны двумя пальцами и прихлопывая по деке, когда не хватало умения:
Захочу – полюблю,
Захочу – разлюблю,
Я над сердцем вольна,
Жизнь на радость мне дана…
– Тошно смотреть на тебя, Лирский, – заявлял Шура. – Оброс барахлом, как баба. И куда тебе столько – одинокому старцу? Мебеля, книг библиотека… Оставил бы ты все на сожжение. Ах, как горело бы! И самому соблазнительно на такой костер взойти. А? Не так, скажешь? Жизнь-то кончена, словоплет!
– Не пойти ли тебе, бесу, вон? – отвечал Мосин-Лирский раздраженно – похмельные неприятности еще не целиком отпустили, а водку надо было экономить. Сложно стало с водкой.
– Чего это – мне вон? – куражился Лейкин. – Еще не допито.
Еще не разлито, еще не допито,
Кинжалом ревнивца все счастье убито-оо…
– Тогда молчи, по крайности. У меня день и ночь, чтобы собраться. Всего на день и ночь я отпросился в редакции. При военном положении это чудо, что меня отпустили, – не хватает корреспондентов.
– Ах, какие мы важные! Какие нужные! Да кому ты сдался, старый дурень?! Давно ничего не можешь. За тебя вон мальчишка-школьник все делает. Думаешь, я не знаю?
– Позвольте вам выйти вон!!! – разъярился Евгений Иванович. – И чтобы ноги твоей больше…
– Да ладно, коллега. Я погорячился. Я вообще-то заглянул, чтобы помочь, – подмигнул Шура то ли графину с водкой – захватанному, заляпанному, то ли Мосину-Лирскому – столь же неопрятному в последнее время.
– Помочь?! – окончательно рассвирепел Евгений Иванович. – Убери свои грязные руки!
Но Евгений Иванович духом стал слаб с некоторых пор, а Шурале был опытно навязчив, в особенности когда водка была недопита, и кончилось тем, что бывший карикатурист взялся перевязывать шпагатом стопки книг. Время от времени он перелистывал страницы и при этом не забывал приговаривать:
– Все чужой разум, Эжен. В твоем возрасте уж пора своим жить. Я вот все нажитое пустил по ветру и не жалею – легок на подъем, и терять нечего, даже цепей не имею. Право, предал бы ты весь этот печатный бред, всю эту чужую шизофрению пламени. Теперь-то все равно не продашь.
– Ты просто опустился, – отвечал Мосин-Лирский, – опустился и придумал философию, чтобы себя оправдать. И даже не ты придумал, а до тебя придумали такие же люмпен-субъекты. Ничего не имею, ни за что не отвечаю. Грош мне цена. А сам – паразит. Чужую водку пьешь. Чужой душой питаешься. На руку нечист – тащишь на рынке. Шуруешь – я точно знаю – в моем имуществе. А разум – свой изжил, но и чужой воспринять не способен.
– А ты все фарисействуешь! – воскликнул Шура. – И не способен понять! Мой карандаш был зол, слишком востер! Каюсь – нещепетилен! Но точен! Точен! Меня не пускали, довели до нищеты! Я прозябал и питался подачками от Общества вспомоществования неимущим и пьющим журналистам! Так, что ли, называлось? Но я горд, я выше, я отринул! Я развеял пепел и живу! Живу!
– Прозябаешь и паразитируешь, Шурка. Как все мы: и те, кто развеял пепел, и те, кто фарисействует. Сам ты не способен понять. Жизни-то больше нет, дурак!!! – заорал Евгений Иванович. И слезы у него потекли медленные и, будто дурной самогон, – мутные.
Шурале плеснул водки под момент, и глядь, ее не стало. Он, видно, по привычке тащить, что плохо положено, прихватил кусок шпагата подлиннее и тут же и смылся в свою комнату, все стены которой были разрисованы карандашными карикатурами, часто исключительно непристойными. Это было отмщение маленького человека Шуры Лейкина тем, из-за кого он умалился.
Много лиц было узнаваемых, поэтому Шурале к себе никого не пускал – чувство самосохранения у него до времени оставалось. Он лег на пол посреди комнаты и в пьяном полусне, в тошноте и в пространственном круговращении понял, что жизни его осталось ровно столько, сколько этому дому деревянному или, может, чуть больше. Потому что придут жечь, увидят на стенах росписи, найдут автора, и – все. Сдирать же оберточную бумагу, которой были оклеены стены вместо обоев, воли у него не имелось. Словно кожу с себя самого сдирать.
Шпагат пришелся кстати, как и прочный крюк, на котором когда-то, во времена домашнего уюта, висела картина, словно окно в иной мир…
Евгений Иванович был пьянехонек и в раздумьях. Поэтому он не обратил внимания на Шурино мародерство и дезертирство и продолжал перевязывать кусками веревки стопки книг, складывая их сначала по размеру, а потом как придется, лишь бы не развалились при перевозке.
У дворника за известную мзду он взял напрокат тачку, вернее, самодельную тележку для дров, сколоченную из чего попало и поставленную на колеса от детской коляски. Тележка была не такой маленькой, но и книг у Мосина-Лирского было множество, и одному ему не под силу было бы свезти библиотеку. Поэтому он, не доверяя прочим, попросил о помощи у Миши.
Миша появился ранним вечером, запыхавшийся, пропыленный, полный впечатлений и готовый ими поделиться, но Евгений Иванович выставил ладонь вперед и сказал:
– Не спеши, Миша. Все пустое. Все знаю, что скажешь: где-то шпиона поймали, столько-то еще в ополчение записалось, женщины и дети роют землю, проявляя чудеса мужества и героизма, и тут же карманники продуктовые карточки крадут, и, стало быть, не карманники они по нынешним временам, а убивцы… И немецкие проклятые орды все ближе и ближе… И жара, жара! Такая жара, что сердца леденеют. И все же – пустое.
– Но как же пустое, Евгений Иванович?! – возмутился Миша. – Вы все правильно про события угадали, но почему – пустое? Война, люди гибнут, города горят, героизм… Вы пьяный?
– Уже нет. Это так – меланхолия. Возраст меланхолии. Я вдруг понял, что пожилым стал, все предвижу, все знаю наперед.
– Ну уж и пожилым, – не совсем искренне ответил Миша, потому что именно стариком он и считал Мосина-Лирского. – И потом – как можно знать наперед? Даже в шахматах гроссмейстеры не могут все знать наперед, поэтому кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Даже Алехин, пусть он и чемпион мира, а иногда проигрывал, например Капабланке.
– Ах, Миша! Мастерство шахматиста или, скажем, повара здесь совершенно ни при чем. Дело в преобразованиях, идущих во времени. Как плохо в школе теперь учат истории!
– Это почему же?
– Впрочем, и раньше-то… Признаюсь, в гимназии я пренебрегал… А с возрастом понял: история не есть непрерывный процесс, вытянутый по линеечке. Я и об очевидности прогресса с тобой бы поспорил, но, боюсь, это и вовсе бесполезно – ты меня непременно будешь презирать, а мне не хотелось бы терять единственного друга. Одному умоляю поверить: все возвращается на круги свои. И не мною первым это замечено, а еще тысячи лет назад. Помнишь, у Екклезиаста… Ах, где тебе… Где-то рядом у меня… Не изъяли в восемнадцатом, когда экспроприировали… Да и зачем им? Ценности-то никакой, копеечная книжица в серой потертой бумаге. Задним числом уверен, что банда была, а не ЧК, и ордер поддельный… Где же, где? Да вот же! Великие строки. Читай сам. Вот здесь.
– «Восходит солнце, и заходит солнце…» – прочитал Миша, заранее полный недоверия и даже испытывая некоторую вражду к протянутой тонкой затрепанной, рассыпающейся книжице.
– Да читай же – не кусается, – раздражился Мосин-Лирский. – В древности люди не глупее, а поумнее нас были. Вспомни хоть древнегреческих философов – рассуждением постигали мир! Без всяких лабораторий и телескопов! И никто не называет их нынче мракобесами. Отчего же Екклезиаст – мракобес? Ну, читай смелее, мальчик, или я в тебе разочаруюсь.
Мишей владели противоречивые чувства: с одной стороны, жалость к Мосину-Лирскому, который явно «расклеился», как сказала бы мама, а с другой – с младенчества внушенное недоверие и неприязнь к религиозному писанию. Но, при здравом размышлении, какая беда случится, если прочесть? Не побежит же он в церковь креститься и комсомольский билет не сдаст. Пожалуй, было бы даже трусостью не прочитать. Миша вздохнул и начал:
– «Восходит солнце, и заходит солнце и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои».
– Во-оот! На круги! Дальше читай. Здесь вот, – ткнул мизинцем Евгений Иванович.
– «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».
– «Нет памяти о прежнем». Именно, что мы беспамятны, – вздохнул Евгений Иванович.
– Ерунда какая-то, – возразил Миша.
– Именно, что беспамятны, – настаивал Мосин-Лирский, глядя то ли вдаль через окно, то ли внутрь себя. – Мы помним лишь то, что подходит в нынешний момент, что без усилий, стык в стык, соединяется с настоящим, как детали механизма соединяются. А что не подходит, значит, вон – на свалку истории – забыть и не вспоминать под страхом, что и тебя туда же, на свалку… А коли вдруг, внезапно, революционно, – понизил голос Мосин-Лирский на последнем слове и выговорил его невнятно, – если настоящее меняется, так вместе с ним меняется и прошлое – чтобы опять, значит, все было стройно.
– Евгений Иванович! – позвал Миша, немного возмущенный и речами старого газетчика, и напрасной тратой времени.
– Да-да, я заболтался, заболтался… Но, Миша, я пережил три революции и вот теперь еще четвертую, нет, пятую войну переживаю, если с японской считать, я тогда еще гимназером был, от наук отлынивал и начинал понемногу репортерствовать, заметочки в газету подкидывать – вроде тебя. Я всегда имел дело с новостями, с фактами. Я имею право судить и подтверждаю: нет ничего нового, все повторяется… Все уворовывается некими силами и в воровстве уравнивается – и победа, и поражение. И надежда, и скорбь. Вот, надеюсь, книги не уворуют или хотя бы не все.
– Давайте грузить ваши книги, Евгений Иванович, – торопил Миша, потому что знал: когда Мосин-Лирский начинает рассуждать, времени не чует. – Давайте, а то поздно будет тащить. И куда тащить-то?
– Не так далеко. В «Промкооперацию».
– Вы отдаете свои книги в «Промку»? Но почему?
– От комсомольца ли я слышу?! – вдруг раззадорился Мосин-Лирский. – Отдаю в дар, жертвую – что в этом особенного? Там, к твоему сведению, юный охотник за новостями, организуется госпиталь в части помещений. Имеется библиотека, которая поступит в распоряжение выздоравливающих воинов. Вот я и хочу ее пополнить. Я договорился – с радостью примут.
– Вы молодец, Евгений Иванович, – обрадовался Миша. – Я про вас заметку напишу. Наши опубликуют обязательно! И многие последуют вашему примеру, я уверен! Повезут книги или еще что-нибудь необходимое в госпитали…
– Миша, Миша, – перебил Мосин-Лирский, – слава тщетна, как всяческая суета. Вот я тебе «Екклезиаста» и подарю. Не в госпитале его читать, да и не примут. А ты прочтешь, пусть и позже, в более солидных летах, в успокоенное время. Какая там заметка! К чему? Давай-ка грузить.
Книги погрузили. Точнее, грузил Миша, а Евгений Иванович стоял рядом с тележкой и сторожил, чтобы не своровали, хотя бы тот же Лейкин, который знал о книжной эвакуации Евгения Ивановича. Правда, Евгений Иванович не ведал, что Шуре более не шуровать в чужом имуществе, оставшемся без глазу.
Книги погрузили – получилась гора, норовившая расползтись и рухнуть. Гору эту неустойчивую повезли на шаткой тележке медленно, с частыми остановками, чтобы заново перевязать и уложить, что растряслось. Времени недалекое путешествие заняло массу. Чудом успели до ухода библиотечного персонала. Хотели заприходовать, но руки опустились – это сколько же возиться? Евгений Иванович руками замахал: ни к чему. Однако велели ему зайти на днях для порядка и выдали расписку в получении книг. Зайти Евгений Иванович пообещал, а расписку он по пути домой выбросил. Мише объяснил – грех брать расписку в том, что сделал подарок. И тут же распрощался, еще раз наказав не выбрасывать «Екклезиаста». Добрел до дому – тишина необыкновенная. Порадовался тишине. Вздохнул и стал размышлять, с помощью чего осуществить свое тайное намерение, свой уход, представлявшийся своевременным. Бритва – на кровь глядеть духу не хватит. Окно – второй этаж, только покалечишься. Тараканий порошок глотать – мученья долгие. Петля? Он обвел глазами комнату в поисках подходящего крюка и не нашел ничего такого. Взяла тоска, и стало плохо с сердцем, загорелось, взорвалось в груди, и Евгений Иванович умер. Господь смилостивился – не дал совершить последний грех.
«…и один наш сотрудник, которому пришлось оформлять похоронные документы, потому что у Мосина-Лирского не было родственников, рассказал, что, когда пришли выселять, нашли двух стариков в старом деревянном доме. Одного, соседа-пьянчужку, обнаружили повесившимся на крюке, вбитом в стену. Стена была разрисована неприличными рисунками. Он и сам, застывший в смертной судороге, выглядел как серая карикатура, которые рисовал. А вторым был Мосин-Лирский, умерший, кажется, от разрыва сердца».
Подаренную книжицу Миша сначала хотел выбросить – к чему она? Но стыдно стало выбрасывать подарок, а потом, когда узнал о смерти Мосина-Лирского, и вовсе не захотел. Прочитал тайком, мало что понял, мало с чем согласился, многое его возмутило, но спрятал надежно – в чемоданчик Володькиного «Юного мастера», засунув между страницами инструкции.
«Юного мастера» Володьке на пятилетие подарил дядя Макс, однако мама сочла, что рановато ребенку строгать-пилить, молоток в руки брать – все перекрушит и сам покалечится, и спрятала чемоданчик до времени. Но Володька подрос и – не увлекся, а может, еще не подрос. Но главное, что в чемоданчик, помещавшийся высоко на шкафу, не лазали и не помнили о нем, особенно нынче, когда хватало забот, тяжелых настроений и скорбных трудов…
Четвертое свое письмо Миша завершил следующими словами:
«И вот, Настя, я подумал, что не так уж он не прав, Мосин-Лирский, со своими рассуждениями. Все возвращается „на круги свои“. Если бы это было неправдой, то не было бы встреч после разлук. А я так жду нашей встречи…»
«…я так жду нашей встречи. Я верю, Мишка, что мы встретимся однажды и узнаем друг друга с первого взгляда», – писала изменщица Ася сразу после очередного свидания с Микки.
Пока Синица выгуливала Тарзана, Ася закончила письмо и отослала его с подружкиного ноутбука на свой электронный адрес. Затем удалила свое послание и подошла к окну.
Вечер подбирался, томный августовский вечер, и до того горячий, что небо покрылось мутной поволокой. Из Синицыного окна, с последнего седьмого этажа, видны были крыши, вздыбленное море крыш – новых, зеркально сияющих, и старых, ржавых, облезлых и протечных в каждый дождь, но более милых и живописных. Крыши, раскалившись за день, остывали к вечеру, и над ними, пустынными, воздух дрожал, рождая тонкие миражи.
Юноша медленно и осторожно шел почти по самому гребню крыши, иногда останавливался и оглядывал пространство.
Хлопнула дверь, в комнату влетел Тарзан и кинулся к Асе – заново здороваться, а Синица с порога заорала:
– Аська, гроза идет! Такие тучи – я ваще в шоке! Звони пращуру, что остаешься ночевать! И яблоки ешь – это бабулины, вкусные.
Когда Ася, которую отвлекли от захватывающего зрелища, снова выглянула в окно, прикусив большое, как луна, желтое яблоко, юноша исчез. Наверное, нырнул в чердачное окошко. Или растаял в мареве.
* * *
Все началось, конечно, в мансарде, когда прекратились, наконец, дожди. Из студии можно было вылезти на крышу, и курильщики так и делали. Вслед за ними крышу освоили все остальные, кто не боялся высоты или чье любопытство и непоседливость превозмогали боязнь. И конечно же, начали снимать – пошла мода. Вскоре, однако, все ракурсы, все погоды и времена года и все освещения были запечатлены, то есть – одной крыши стало мало. Полезли на другие, хотя это было непросто нынче – найти выход на крышу. Всё ведь или почти всё заперто, заколочено, охраняемо.
Оказалось, препятствия только раззадоривают, пробуждают азарт. К тому же множество приключений ждало нетрусливых в мире, который поближе к небесам, где горизонт шире, где ветер не плутает в лабиринте городских стен, а ищет свой парус, чтобы подхватить и нести за горизонт. Где обитают умнейшие существа, достойные уважительного внимания, – коты и вороны. Где светила близко – руку протяни, а суета земная будто оседает, ложится на асфальт тяжелым серым туманом, сквозь который – сверху это видно – продираются автомобили и люди…
…Майк очень гордился тем, что самолично обнаружил и разведал на Петроградке, неподалеку от площади Льва Толстого, этот «залаз», как называют пути проникновения руферы, то есть любители прогулок по крышам (а также диггеры-сталкеры и прочие любители исследовать необитаемые уголки городских джунглей).
Залаз был не очень хитрым, но и не таким простым. Сначала, пройдя с улицы во второй двор, надо было влезть на крышу гаража, по всей видимости незаконно пристроенного к стене дома. Это было просто: раз-два, на выступ в стене, с выступа – на шиферную крышу гаража. Потом начинались некоторые сложности, связанные с более изощренными физическими упражнениями. Они были следующими: стоя на самом гребне гаражной крыши, вплотную к стене дома, нужно было немного – в меру, чтобы не свалиться, потеряв равновесие, – подпрыгнуть и ухватиться руками за оконный проем закутка неясного предназначения, выходящего на лестничную клетку. Окошко было маленьким и распахнуто – надо думать – ради вентиляции вонючего помещения. На самом деле, его можно было и не распахивать, потому что лишь нижняя его половина была застеклена, верхняя часть остекления отсутствовала.
В это окошко, маленькое, как амбразура, можно было влезть, подтянувшись и перебирая ногами по неровностям и выбоинам старой облупленной до кирпича стены. Протиснувшись в окошко и шагнув из закутка на лестничную площадку, следовало подняться на один пролет, чтобы через лестничное окно выбраться на старую и, судя по ее состоянию, забытую пожарную лестницу, находящуюся примерно в полуметре слева. Для этого приходилось, крепко держась за оконную раму и стоя одной ногой на карнизе, дотягиваться до перекладин «пожарки». Это было не то чтобы очень сложно, главное – не поскользнуться на карнизе. Потом – вверх и вверх, долго и упорно, спокойно и не торопясь, по ржавой и шаткой лестнице с погнутыми ступенями, на крышу, к воронам и котам, в отрыв от земных сует.
Крыша была прекрасная, просторная и, главное, выше многих. Горизонты открывались широкие и величественные. И Майк решил ни с кем не делиться своей добычей, пока не выжмет из нее все, что сможет, пока не отснимет панораму, не почувствует ее характера, не познает всех ее настроений.
Однажды он провел на своей крыше целый день: забрался наверх еще до того, как продрали глаза дворники, а спустился уже ночью, когда солнце стало огромным и низко повисло над островами. Он не рассчитывал задерживаться так долго, поэтому запасся лишь одной бутылкой воды. Но увлекся работой – душа ликовала, и поэтому обгорел на пекле до пузырей, а когда спускался, перед глазами повисла зелень, зазвенело в ушах, и пришлось сесть на ступеньку пожарной лестницы, уцепиться понадежнее, чтобы переждать обморок.
Майк и сам не знал, как спустился. Ноги дрожали, и он сполз на асфальт, привалившись к гаражной стенке. Кто-то принял его за наркомана и обругал мимоходом. Кто-то, дыша злостным перегаром, попытался, видя слабого, украсть рюкзак, но Майк вцепился изо всех сил и лягнул. Видимо, больно попал, потому что грабитель зашипел и согнулся, и Майк понял, что пора удирать, пока тот корчится, рыдает, пискляво кроет матом и не в состоянии напасть. Поэтому он подхватился и побежал, и бежал, насколько его хватило, заплетая ногами. Показалось, что долго бежал, а на самом деле только вылетел из подворотни на улицу, но уже это было спасением.
Идти домой и слушать материнские укоры казалось невыносимым, пугать ночным визитом деда и доводить его до сердечного приступа тоже не годилось. Лезть под крышу в студию страшно было и думать – небес на сегодня хватило с избытком. На самом-то деле Майк попросту плохо себя чувствовал. Поэтому он позвонил дяде Саше и попросил пустить его в свою мастерскую, которая располагалась сравнительно неподалеку, на Аптекарском острове, за Ботаническим садом, на втором этаже аварийного дворового флигеля.
Дядя Саша пребывал в компании – из мобильной трубки слышались голоса и, казалось, густо несло сигаретным дымом и вином.
– Ты даешь, Мишель. Чего это тебе приспичило? – удивился дядя Саша. – Я как бы в гостях сейчас. Неудобно, на самом деле, срываться.
Но понесся выручать любимого племянника.
– Дядь Саш, – попросил Майк. – Я пересижу у тебя тут пару дней, а?
– С матерью поссорился?
Майк знал, что дяде Саше необязательно отвечать, вопросы он задавал, а ответа часто не слышал – улетал мыслями. Поэтому Майк промолчал, а дядя Саша уже вытаскивал раскладушку.
– Ты, это, Мишель, окно открой, а то угоришь с непривычки. Башка от краски будет как бы болеть, или сблюешь еще. Или то и другое. Уходить когда будешь, окно закрой, не забудь, голуби, заразы, поналезут, нагадят. Было уже. И чего им здесь, на самом деле? А дверь захлопни, и все. Вот чайник, в шкафчике вроде сахар есть и как бы пряники. Или бублики, что ли? Старые, но ты разгрызешь. Пока. Дела у меня, на самом деле.
У Майка сил недостало кипятить воду, поэтому он напился из-под крана и повалился на раскладушку. Звонил его мобильный телефон, его искали, а он не отвечал, не слышал, смотрел тревожные сны.
И все же довел он мать до истерики, а деда до сердечного приступа, потому что нашелся лишь на следующий день к вечеру, когда в мастерскую вернулся хорошо подгулявший дядюшка, который, само собой, обо всем забыл и обнаружил Майка, спящего на раскладушке.
– Е-мое, – сказал дядюшка, когда заметил, что у племянника голова горячая, как только что вскипевший чайник, и схватился за мобильник, который был отключен по случаю загула.
На машине прилетели отец с матерью и дед, бледный и с бамбуковым вьетнамским веером в руке – не выносил запаха бензина. Майка отвели в машину и усадили на заднее сиденье вместе с дедом. Следом полез и дядя Саша, но его выгнали – во-первых, провинился, во-вторых, после гулянки выдыхал спиртовые пары.
– Сашка, ты огнеопасен, – сказал Павел.
В больнице определили тепловой удар и положили Майка под капельницу с физраствором. На следующий день Майк очухался и сбежал к деду, который как раз уехал в больницу навестить внука.
– Ну и?.. – спросил дед, вернувшись из больницы. И это был первый вопрос к Майку за двое суток.
– Снимал на крыше. Целый день, – ответил Майк.
– Герой. Зарекся, я полагаю?
Майк промолчал.
– Герой, – язвительно подтвердил дед. – Что теперь?
– Камера в мастерской у дядь Саши осталась. И еще фотоаппарат. Надо бы посмотреть, что там вышло. Я ведь не только на цифры снимал.
– На пленку? Герой! – восхитился дед. – Если все угробил, придется быть трижды героем, чтобы пережить. Снимал-то хоть в сознании, ты, кот на раскаленной крыше?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.