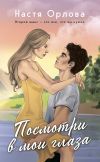Текст книги "Семь писем о лете"

Автор книги: Дмитрий Вересов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
– В сознании. Уже когда сползать стал, поплохело.
– Мне сейчас тоже снова поплохеет, убивец. Накапай-ка мне пятьдесят профилактических в рюмочку. Да не валокордина, балда! Коньяк вон в буфете. Ты о нас подумал?
– Дед!
– Ну где же нам, героям! Ты, по крайности, матери пообещай, что больше не полезешь под небеси. А мне поклянись, что хотя бы в дождь не полезешь. А, что толку с тебя обетов требовать!..
* * *
«…пишу тебе урывками, где придется, одно письмо пишу много дней и все время ношу с собой, чтобы дописывать. Поэтому оно такое помятое. В последнее время у меня не получается писать дома. Прихожу только ночевать, да и то не всегда успеваю до комендантского часа. Тогда я ночую в редакции, мне разрешают, и родители не волнуются. Но в редакции мало ли кто ночует, мы там дело делаем и не спим, только под утро иногда удается задремать. А разговоров, которых много было еще недели две назад, уже нет – все как вытекли. Люди стали молчаливы, говорят только то, без чего не обойтись в разговоре, окаменели, что ли, и лица будто каменные – холодные, усталые, как будто не хватает сил изменить выражение лица. Как у раненых.
Сейчас я пишу в госпитале. Видишь? Карандашом. Ни чернил, ни ручки рядом нет. Пишу на подоконнике лестничной клетки. Он неровный, и я боюсь, что карандаш сломается.
Ты не думай, Настя, со мной ничего плохого не произошло, я жив-здоров, и все живы-здоровы. А получилось так.
Твоей мамы давно не было видно, и моя мама велела мне забежать в медицинский институт и порасспрашивать там, вдруг что случилось. Я забежал, а тетя Надя там. Она, оказывается, уже несколько дней не уходит с работы, спит на кушетке, прямо на рыжей клеенке, когда удастся. Все время везут раненых – эшелонами. Поэтому не хватает опытных медиков, хирургов. Санитарок, помощниц много, потому что работают в институте, если не на окопах, все оставшиеся в Ленинграде студентки (студенты большей частью на фронте), в том числе принятые в этом году. Набор из-за войны был намного увеличен.
Тетя Надя сказала, что, если война продлится, хирургической практики будет сколько угодно и даже с избытком, как в военно-полевом медсанбате. И все, кто выдержит, станут отличными хирургами. Но лучше бы ее не было, этой практики, лучше бы не было всей этой боли.
Ведь как раньше в книжках писали? Что-то вроде: „печать страдания лежала на бледном лице раненого героя“. Это красиво, загадочно. При герое, само собой, была красавица-сиделка, и они влюбляются. А на самом деле? Палаты – битком, запах тяжелый, особенно у лежачих, многие стонут, просят пить, а пить, просто пить из стакана, не всем и можно. Им прикладывают к губам влажные салфетки или смачивают с помощью медицинской ложечки, обтирают лицо. Настя, я не пожелал бы тебе видеть военный госпиталь…»
«Не пожелал бы», – писал Миша, даже не предполагая, что подруга его уже многого навидалась, и видела она не только сравнительно спокойные и чистые военные стационары.
«Твоя мама настоящая героиня. Ведь ей приходится не только оперировать, но и наставлять неопытных помощников, и не упускать из виду медицинское хозяйство, и заполнять истории болезней. Огромное количество историй болезни – ряды и горы папок, так мне показалось. Конечно, она не одна работает, с помощницами, но я понял, какой это страшно тяжелый труд. Особенно когда все оказывается напрасным, и человек уходит…»
«…уходит», – написал Миша и подчеркнул слово, чтобы понятен был его тяжелый смысл.
«…и человек уходит, его покрывают простыней так, что не видно лица. Потому что лица все равно больше нет. У каменной статуи лицо живее, чем у мертвых людей, Настя…»
– Что же ты хотел, Мишенька? – спросила Надежда Игнатьевна, увидев, какое впечатление на Мишу произвели палаты и смерть, которую ему довелось увидеть. Она стояла перед глубокой, как ванна, раковиной и отмывала руки после очередной операции. Или перед следующей – и то и другое верно. Но это был короткий отдых – лилась вода, мелко пузырилось мыло.
– Новое пополнение, много тяжелых, – говорила она. – Как довезли по такой духоте, вот чему надо удивляться. Но – чему же я удивляюсь? В четырнадцатом году было не лучше. А выживали. Кто очень жить хотел.
– Просто хотел жить, тетя Надя? И это не зависело от тяжести ранения? – удивился Миша.
– Не совсем, конечно, так. По-настоящему хотел, ради чего-то, а не звериным инстинктом. Например, чтобы вырастить детей – не оставить их сиротами, без опоры и любви. Или закончить какое-то очень важное дело, свой труд, творение. Или, наоборот, начать то, что раньше и в голову не приходило сделать, а на самом деле человек был предназначен для этого и, начиная, преодолевал смерть. Смертный порог иногда лишь напоминание о невыполненном в этой жизни. У меня сейчас времени не много, чтобы тебе объяснять, да и не знаю, поймешь ли.
– Я пойму!
– Не знаю, совсем не уверена. Лета твои не те, Миша. Ты не обижайся: я тоже в твои годы, да и потом была очень большой материалисткой, атеисткой. А тут другое. Я и сама не очень понимаю, несмотря на то что ясно вижу. Это, наверное, с годами, с большим опытом приходит.
– Что вы видите, тетя Надя?
– Ну хорошо, – вздохнула Надежда, очередной раз намыливая руки. – Попытаюсь сказать. Я долго наблюдала, не специально, нет. Просто с опытом начинаешь многое замечать, на что поначалу не обращаешь внимания. И вот бывают случаи, Миша, когда вдруг, как на твоих фотографиях, проявляется очень много деталей. Из них, вроде бы и незаметных поначалу, казалось бы неважных, за многие годы складывается картина совпадений. И означают они, ты только не бойся этого слова, – предопределение. Понял? Думаю, нет.
– Ну-у… – протянул Миша. – Предопределение. Это что же – то, что на роду написано? Так?
– Нет. Что на роду написано, цыганки знают, но и это вряд ли. Они и не знают – внушают. Здесь другое. Смерть как безвозвратный уход. Раньше такое поэты хорошо чувствовали. Что они сейчас чувствуют – не представляю, – раздраженно добавила Надежда Игнатьевна.
– Смерть – не смерть, а самоубийство, что ли? – допытывался Миша. – То есть все умирают – уходят – сознательно, как самоубийцы?
– Конечно, нет. То есть не совсем. У каждого своя жизнь, но и смерть – только своя, неповторимая. Она никогда не бывает зряшной, как и жизнь. Миша, я тебе не объясню. Да и на операцию пора, – заторопилась Надежда. Она заговорила быстро, немного волнуясь: – Сегодня ты видел, как ушел человек. Я, врач, этого не ждала. Он не был смертельно ранен.
– Не был? – переспросил Миша.
– Сквозное ранение в плечо. Мягкие ткани пробиты, чуть затронута кость. К этому – ранение бедра, осколок извлекли, был на излете – застрял в мягких тканях. Довольно тяжело, но не смертельно. Человек совсем не старый, крепкий, и сердце у него было здоровое. Я как врач виню себя в его уходе. Чего я недосмотрела? Ведь картина была вполне благополучной. А в соседней палате, для тяжелых, лежит его сын. Ранение в грудь, рядом с сердцем, что произошло, вероятно, в момент сокращения сердечной мышцы, иначе бы мальчика уже не было. Операцию сделали в медсанбате, в полевых условиях, буквально на ходу и – успешно. Это почти невероятно, но не должны, не должны были его везти! А пришлось – отступали от Кингисеппа, от Нарвы. Он все эти дни умирал…
Семья Гадальцевых обитала на Васильевском острове, на Среднем проспекте, в огромном, разбитом на коммунальные пещерки доме с великолепным в лепнине и глазурованной плитке фасадом.
Кирьян Гадальцев работал неподалеку – на табачной фабрике имени Урицкого, бывшей «Лаферм», которая в прежние времена поставляла папиросы ко двору его императорского величества. Кирьян Гадальцев крутил гильзы для «Зефира», «Северной Пальмиры» и любил говорить о том, что «Северную Пальмиру» курил знаменитый летчик Чкалов, и о том, что, когда он погиб, в кармане его кожаной куртки обнаружилась початая пачка папирос этой марки.
Жена Кирьяна Анюта работала лаборанткой в поликлинике, делала анализы крови. Сын Алешка, к наукам относившийся, мягко говоря, без страсти, пристроен был отцом на фабрику – учеником, чтобы, почти семнадцатилетний, не валял дурака, не путался с василеостровской шпаной до призыва в армию и не сидел на шее у родителей, здоровенный лоб.
Началась война, и призвали не Кирьяна с Алешкой, а медработницу Анюту – в медсанбатах тоже нужны лаборантки. Отец с сыном пошли в ополчение – иначе и поступить не могли, благо Алешка был крупный парень, в пункте записи в добровольцы сказал, что ему скоро двадцать. Тогда на слово верили, не спрашивали метрик и паспортов, да и не у всех они были.
Все трое попали на один участок фронта – обороняли Кингисепп.
Когда настал самый тревожный и горячий час, Анюта бросила пробирки и сбежала из своего закутка помогать санитаркам и своей совсем молоденькой подруге военфельдшеру, которую опекала, и была убита осколком. Она так и не узнала, что ее муж и сын ранены. А они не узнали, что погибла Анюта. И еще они не ведали о ранениях друг друга – такой шел ожесточенный бой, некогда было оглядываться.
Их спасли, вынесли, прооперировали, ухаживали без лишних слов – на слова не было времени, только поспевай с ранеными, с искалеченными раскаленным железом людьми. И случилось, что отец и сын, находясь в разных помещениях, а к тому же сын – чаще всего в забытьи, так ничего и не узнали один о другом.
Когда стало ясно, что Кингисепп не удержать, поступил приказ вывозить раненых. Тяжелых сразу же погрузили в эшелон, несмотря на то что было понятно – многие не доедут, не перенесут жары, угара, тряски. Но не оставлять же было врагу. Алешка и Кирьян Гадальцевы прибыли в одном эшелоне, попали в один госпиталь и опять остались в неведении, что, по здравом размышлении, неудивительно, ведь ни тот ни другой ходить не могли.
Алешка же умирал.
Надежде Игнатьевне девочка Леночка из вновь набранных студенток, которая боялась крови, чужой боли, ругани и смерти и потому приставлена была к бумажной работе, пока не пообвыкнется, указала на то, что у больных в соседних палатах одна и та же редкая фамилия. А у младшего, умирающего, к тому же отчество Кирьянович, а Кирьяном-то старшего зовут.
Надежда Игнатьевна велела Леночке ничего никому не говорить, потому что найдутся доброжелатели порадовать отца и сына. А сына, скорее всего, не спасти. Будь отец поздоровее, тогда, конечно, как это ни тяжело, следовало дать ему проститься с сыном, а пока – нет и нет.
Алешка почти уже не выплывал из забытья, задыхался, синел, а Кирьян, который был благополучен, вдруг разболелся. Воспаление, температура, мрачные мысли, температурный бред, мокрый тампон на губы вместо питья – иначе захлебнется. Надежда Игнатьевна была в гневе и недоумении, медсестры и санитарки ходили по стеночке – подальше от ее гнева.
А Кирьян бредил несвязно, бормотал ерунду, потом вдруг, по свидетельству соседей по палате, ясным голосом сказал:
– Ну здравствуй, Анюта. Я знаю…
И больше не приходил в сознание. Через несколько часов успокоился навеки.
Алешка же, наоборот, перестал хрипеть, задышал. Сполз отек с горла и груди, появился затаившийся пульс, ушла страшная синюшность.
Но Надежда Игнатьевна знала, что это не ее заслуга, и еще знала, что Алешке теперь жить не просто так, а для чего-то…
«…Так и получилось, что отец как будто бы отдал свою жизнь сыну.
Этому Алексею Гадальцеву так и не сказали, что отец ушел. Наверное, и не скажут. Не знаю, правильно ли это. Он ведь будет теперь надеяться, что встретит отца, будет искать его, и напрасно. Но мама твоя говорит: надежда лечит.
И про нее в госпитале говорят: Надежда лечит, имея в виду ее имя. Наверное, тетя Надя очень хороший доктор.
Но позволено ли внушать ложную надежду? Лечит ли надежда, если она ложная? То есть не убьет ли правда, когда окажется, что все зря, все поиски, ожидание встречи, желание многое, очень многое рассказать, обнять, почувствовать живого человека, а не фантом. Я не знаю ответа на этот вопрос, но мне бы очень не хотелось пережить подобное.
На этом все, Настя. Я еще обязательно напишу тебе. И я надеюсь получить весточку от тебя. Жду и надеюсь. Если надежда и не лечит, то придает сил, это точно. Я верю, что надежда на нашу встречу не оставляет и тебя. Поэтому мы обязательно встретимся, хоть через годы, и будем вместе.
До свидания, моя любимая Настя».
* * *
Корзина с яблоками стояла прямо в комнате, и аромат яблоки источали райский. Корзину из сада бабули Маруськи Синицыной привез на своей «Ладе» попутный дачник, бабулин сосед, приятель и всегдашний помощник, и ему заплатили – якобы дали денег на бензин. Он был доволен, а назад бабуле повез всякие новомодные садовые штуковины, которые она, будучи прогрессивным садоводом, заказала: пластмассовый заборчик для клумбы например, удобную вилку-грабельки, чтобы рыхлить грядку, какое-то редкое удобрение и прочее, что было заказано. Правда, Маруськина театральная мамочка, которая иногда задним числом проявляла практичность, сказала, что яблоки дешевле на рынке купить, чем платить за этакую доставку по-соседски.
Ася выбрала в корзине яблоко. Яблоко было удивительно большим, прямо по-южному огромным, хрустким, сочным, очень кислым, оскоминным, и пахло ананасом. Грызлось так долго, что надоело и зубы заскрипели, а когда остался огрызок с семечками, лишь начавшими коричневеть, ветер ворвался в окно, хлопнул болтавшейся форточкой, чуть не выбив стекло, надул парусом шторы, прошелся по комнате, шальной, и первые тяжелые капли грохнули о карниз. И вдруг в момент потемнело, солнце погасло, и все утонуло, захлебнулось в ливне, засверкали, забили по крышам невероятные льдисто-синие молнии, будто блицы космической фотокамеры, и ударило, пророкотало прямо над головой.
Тарзан боялся грозы, утрусил в ванную, поджав хвостик, спрятался, дрожал так, что клацал зубами, и подвывал загробно, по-баскервильски, даром что был крысеныш. Маруська Синицына тоже засела в ванной – утешала, жалела Тарзана и грызла яблоко, тем раздражая песика еще больше.
Что до Аси, то она стояла у окна, любовалась сумасшедшей грозой и страдала от того, что лето, уносившееся на грозовой колеснице, разочаровало и вместо волшебной встречи устроило испытание.
Обиднее всего, конечно же, было сидеть на даче, поливать клумбы – мамину отраду, кормить комаров по черничникам (если есть черника, будь добра, собирай, да еще и ешь с молоком и сахаром, потому что, как и предсказывал дед, поспела кислая). Еще больше надоело таскаться что ни день по жаре за две станции в главный поселок, в магазины, где все дешевле, чем в окрестностях их третьей платформы, и хоть какой-то продуктовый выбор есть.
Невыносимо было! Потому что она снова, в разлуке с Микки, обретала уверенность, что где-то ее ищут и ждут и надеются на встречу не меньше, чем она, Ася, которая теперь предпочла бы называться Настей. А не Стасей, скажем, как называл ее Микки. Бедняга Микки, от которого она каждый раз сбегала в самый, казалось бы, лирический момент свидания. Влюбленный и озадаченный, Микки не знал, что и думать: расценивать ли Асины выходки как своего рода кокетство или относить их на счет недостатков воспитания. Ему и в голову не приходило, что Ася сомневается в своем отношении к нему. Асю ужасно раздражала его добродушная самоуверенность. Поэтому после свиданий она неслась к Синице писать письма Мишке, от которого она скрывала свои отношения с Микки, и письма ее все больше и больше походили на любовные – страсти прибавилось. Возможно, в этом Микки был виноват, такой-сякой.
…Ася смотрела сквозь завесу дождя на крыши. На одной из них, кажется, на той, где еще до дождя она заметила чей-то силуэт, постоянно вспыхивая и не всегда совпадая по времени с другими, небесными, плясала молния. Если предположить невероятное, там кто-то фотографировал.
Мишка!
Она крикнула Синице, что уходит, и, не дожидаясь ответа, обвинения в ненормальности и уговоров остаться, переждать грозу, выскочила на лестницу, пренебрегши лифтом, через ступеньку полетела вниз и, сбросив сандалики, нырнула в дождь.
Ливень смыл прохожих, только машины шли мокрыми китами и разгоняли волны по асфальту. Воды налило чуть не по колено. Еще не настал момент пузырей – слишком плотно лило, и они не успевали вздуться.
Ася, вымокшая в первые же секунды, стояла посреди двора, вертела головой в надежде разглядеть того отважного фотографа на крыше, который то ли привиделся ей, то ли… Но снизу, да еще в такую мокрую темень это было невозможно. Она решительно направилась к дому, к себе на Пушкарскую. Добрела-доплыла, открыла дверь своим ключом и вместо «здрасьте» решительно и грозно заявила родителям, которые с необыкновенно счастливыми лицами – прямо голубки, – обнявшись, устроились перед телевизором:
– Больше я на дачу не поеду!
И ринулась в свою комнату к заветной папке с письмами.
«…уже многие погибли, и в семьи приходят похоронные уведомления. Много горя, но многие и горевать не успевают, все трудятся, готовят оборону. Несколько дней назад стало известно, что фашисты заняли Чудово. Папа говорит, что многого мы еще не знаем – не все попадает в сводки. Он смотрит на карту, которую завел дома и повесил на стенку между шкафами, передвигает флажки, рисует стрелочки цветными карандашами. Вчера сказал, что, если наши сдадут Тосно и Мгу, город попадет в кольцо. Наверное, начнется штурм, обстрелы или осада.
Папа пьет лекарства – много, курит тоже много, несмотря на мамины укоры и даже слезы. Мама по совету тети Нади в папиросы ему набивает вату, чтобы дым был не таким вредным, проходя через фильтр. Но папа, я знаю, тайком вытаскивает ватку и выбрасывает, пользуется только своим старым костяным мундштуком. Папа сейчас пишет большую статью об истории русского ополчения. Он даже надеется, что выйдет когда-нибудь, после войны, когда мы победим фашистов, небольшая книга, монография, а не просто статья для газетного разворота. Ему нужны архивные материалы, а их то ли вывезли, то ли вывозят, не найти почти ничего.
В последние дни папа очень увлечен – никогда раньше он не пренебрегал новостями, ведь он журналист, и новости его хлеб, а теперь забыл даже о карте со стрелочками, погружен в свое писание, как будто спасается от надвигающейся войны. То есть не спасается, нет – это неправильное слово. Раньше от греха всякие отшельники спасались или раскольники от новой веры, таким способом они протестовали. Помнишь, нам на истории рассказывали. Или как трусы спасаются всегда и от всего. Он не трусит, нет, не прячет голову в песок, он, мне кажется, решил, что самое страшное неизбежно, и принимает его со всем мужеством, которое ему дано. Он сильный и смелый, я по-другому и думать не могу.
Посмотри, Настя, я вложил фотографию, где ополченцы уходят на фронт (все еще уходят) и салютуют Суворову. То есть я имею в виду памятник Суворову на Марсовом поле. Только Суворов, да еще памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли у Казанского собора не закрыты, не замаскированы. Их снимки тоже есть. Я бы хотел их совместить, этих трех полководцев, на одной фотографии, сделать такую композицию, да времени нет и материалы на исходе, а достать теперь совсем негде.
Все верят, что изваяния великих полководцев защитят город и сами останутся целы. Такая вот легенда возникла. Говорят, не знаю, правда это или нет, что тому, кто отвечал за то, чтобы спрятать Суворова, приснился сон, где полководец не велит его убирать, прятать в какой-то подвал, и говорит, что не привык прятаться от врага и не потерпит такого позора. Так он и остался на постаменте, победительный, с мечом в руках и в римском шлеме.
Настя, решил тебе рассказать, что я все же пошел на пункт записи добровольцев. Я вообще-то снимать ходил по заданию редакции, если совсем честно. Там уже не такие огромные очереди, как раньше, – большинство мужчин уже на фронте и участвуют в боях. Записывали прямо на улице, потому что, хотя народу и стало меньше, в здании все добровольцы просто не помещались. В общем, по секрету скажу тебе, я тоже хотел записаться. Я знаю несколько случаев, когда ребят моего возраста зачисляли в ряды, не задавая лишних вопросов. Военный дядька с левой рукой-протезом в черной перчатке и с медалью „За боевые заслуги“ (наверное, еще с финской, сейчас не знаю случая, чтобы кого-то наградили), так вот, этот дядька, который записывал добровольцев, спросил: школьник? Я сказал, что мне восемнадцать. А он посмотрел на меня так, знаешь, неприятно, недоверчиво и сказал, чтобы духу моего там не было без документов. Обидно – у других-то документов не спрашивают, записывают со слов. Например, записали того же Алексея Гадальцева, о котором я тебе рассказывал, а ему еще нет восемнадцати. Как у него получилось? Он, кстати, еще тяжело болен, но тетя Надя говорит, что должен выжить.
Ну вот. Выгнали меня. Я повернулся уходить, а записывающий еще вслед орет: мать пожалей.
Тьфу! Стыдно.
Как будто я мать не жалею.
Ей и правда тяжело приходится. Да и всем женщинам тяжелее и тяжелее. Они берут на себя мужскую работу. В городе молодых и сильных мужчин не осталось. Однажды я возвращался домой. Смотрю, прямо перед нашей парадной стоит трехтонка с песком горой. То есть уже не горой – гора порушена, разрыта. Дворник Илья Николаевич, Устинья эта, барыня толстая, его жена, и еще двое заполняют песком мешки, а все остальные соседи, женщины в основном, по цепочке передают мешки наверх, на чердак. Берут мешок по двое, в одиночку тяжело, да и вдвоем не очень-то легко. И мама там. Я тоже встал в цепочку, только фотоаппарат спрятал на чердаке, потому что подумал: раз такой случай, вдруг удастся поснимать с крыши.
Так мы и работали до сумерек, почти до темноты, даже в комендантский час, пока не очень стемнело, под присмотром патрульного. Работали быстро, надо было успеть до темноты, потому что свет зажигать нельзя.
Песок нужен, чтобы тушить пожары, которые могут возникнуть при обстрелах и бомбежках. Моя мама, как и большинство соседей, – все, кто не старый и не инвалид, входят в пожарную дружину. При угрозе будем по очереди дежурить на крыше. Если что, засыпать огонь песком. Составлено специальное расписание дежурств, все знают распорядок: дежурные – на крышу, остальные – в бомбоубежище. Проводились учения – учебная воздушная тревога. Сначала все было бестолково, инструктор ругался. А потом наладилось.
Велено всем собрать самое ценное в какой-нибудь чемоданчик, чтобы, подхватив его, сразу спускаться в убежище, если будет объявлена настоящая воздушная тревога. Мама недавно собрала чемодан и большую сумку. Папа ворчал: к чему так много? Прямо как на дачу воз тащишь. Ведь придется бежать, вещи помешают. Мама, конечно, сказала свое постоянное: своя ноша не тянет. И добавила еще корзинку с рукодельем. Она, понимаешь, решила, что будет вышивать в бомбоубежище.
После работы, после того как весь песок перетаскали на чердак, я вылез на крышу через чердачное окно. Уже хорошо стемнело – конец августа, что ни говори, и я снял всего пару кадров, ведь вспышкой-то пользоваться на крыше среди ночи – преступление, я понимаю. Наверное, фотографии не получились, но все равно было здорово. Когда поднимаешься повыше, на крышу или на гору какую-нибудь, становится понятно, почему небо всегда называли куполом. Перед ночью оно темнее всего над головой, и там звезды видны, а по горизонту – светлое.
У нас по горизонту вспышки, и доносится грохот – артиллерия. Грохочет все ближе с каждым днем, идут бои, все это знают. Но в ночной пустоте, когда стоишь высоко над городом, кажется, что идет гроза, вспыхивают молнии, что скоро туча наползет, закроет звезды и хлынет ливень, запоют, запузырятся огромные лужи, мы скинем обувь и помчимся босиком, как бывало. Ты помнишь, Настя?
Только ливень, если и хлынет, теперь будет огненным. Мне кажется, мы к этому готовы. Или нет? Но ничего, мы справимся, сможем. Победим. Город, наш город, невозможно сломать или победить, так папа пишет в своих статьях, так говорят и по радио.
Что еще рассказать тебе, Настя? Всё – на моих фотографиях, которые я скоро отпечатаю и обязательно покажу тебе. Я снимал для газеты на площади Кирова, туда свезли трофеи, отобранные у фашистов нашими. Там много исковерканного оружия, оно лежит грудами. Там есть и танки, и самолеты, покореженные, обгоревшие, со свастикой – паучьим знаком. Тревожно было смотреть – свастика не должна появляться в Ленинграде, и мы ни за что ее не пустим, не будет этого. Все говорят – выстоим любой ценой. Любой.
А сейчас мне пора заняться пленкой. Пора отпечатать фотографии. Плотная светомаскировка в этом деле хорошо помогает. Я все мечтаю, какие фотографии я смогу делать после войны, когда появится все необходимое для фотодела, а у меня уже большой опыт. Я хочу после школы в совершенстве изучить еще и кинотехнику и снимать документальное кино.
Вот и все. Прощаюсь с тобой на сегодня, милая моя Настя. По-прежнему жду от тебя вестей. Когда-то мы встретимся?
Пусть Большая Медведица передаст тебе мой привет. Я знаю, что ты найдешь ее на небе при случае».
* * *
Дед, сам того не желая, натолкнул Майка на идею снять город с крыши в непогоду, а еще лучше – в грозу. И Майк, быстро, в силу молодости организма, очухавшийся после болезни, стал подумывать, как бы осуществить свой замысел. Но что толку думать? Оставалось ждать погоды.
Лето, тем не менее, как назло, и не думало остывать. Солнце шпарило, асфальт плавился, и на нем оставались следы городского сумасшествия – женских шпилек; убывали речки и каналы – Крюков хоть вброд переходи, дно видать; вода в заливе цвела и была необыкновенно теплой, такой, что даже купаться не хотелось. Все загорели по-южному, при случае освежались у фонтанов, пили из пластиковых бутылок воду и лимонады многими литрами, кто-то – холодное пиво, а разговоры были такие: вот бы гроза, ливень, чтобы смыл пыль, освежил город, а потом опять можно солнышко напоследок, на бабье лето.
Грозы ждали и желали. Она все обещалась, но не приходила. Говорили: что за наказанье такое жаркое лето. Хотя в июне наказаньем считали непреходящую мокрость, совершенно осенние дожди и мечтали о знойной поре.
Но – дождались. Небеса смилостивились. В один невыносимо душный августовский день, когда болела голова и не соображалось, а воздух сделался плотным и вязким, как желе, и, казалось, не доходил до легких, закупоривая дыхательное горло, стало ясным, что гроза неизбежна. И вот она прикатила с Балтики, с залива, и над Островами загремело. Ливень обрушился и, не торопясь, переползал по мосту с Каменного острова на проспект.
Майк сидел на своей петроградской крыше и снимал грозовой фронт, наступление дождя. Вскоре его окатило, потоки понеслись по скату к водостокам, закрутились воронками в горловинах водосточных труб. Но воды было столько, что переливалась через край и водопадом неслась вниз, на тротуар, на головы очумело разбегавшихся прохожих.
Улица в момент опустела, и горожане, так долго ждавшие дождя, попрятались в кафешках, в магазинах и в тех подворотнях, которые еще оставались не запертыми городскими властями. Майк, прикрывая камеру специально на этот случай прихваченной курткой, снимал небо и землю, крыши домов, затуманенные ливнем, и крыши автомобилей, плывущих в русле проспекта. Снимал тучи и молнии, понимая какой-то самой разумной частью мозга, что занят он делом весьма опасным, но до чего великолепным было огромное сердце грозы!
Совсем рядом вдруг шарахнула ослепительная молния, а гром ударил так, что кровлю тряхнуло, и Майк почувствовал, что поехал по мокрому скату. Руки были заняты камерой, а кроссовки ничуть не тормозили на мокром железе. Майка прокатило до самого края, до ограждения, которое, слава богу, было крепким. Он понял, что придется тут и остаться, пока не пройдет гроза и крыша хотя бы слегка не подсохнет. Тогда можно будет сделать попытку подползти к пожарной лестнице, по которой он забирался сюда. Через пять минут Майк о другом уже и не мечтал. Он лежал в потоке воды под громом и молниями, скорчившись, прикрывая собою камеру, а ногами упираясь в тонкие прутья ограждения. Было страшно, откровенно-то говоря.
Кто бы другой проклял глупую затею и самого себя, но только не Майк – ведь это означало бы сдаться. Одно он знал точно: если камера выживет и фотографии получатся, ни дед, ни мать их увидеть не должны.
Надо было как-то приспособиться, отвлечься, чтобы не ждать в ужасе, когда молния ударит в крышу, и от него останется нечто неприглядное, о чем и думать не хочется. Поэтому Майк стал наблюдать и проговаривать сам для себя, что видит. А видел он скат, по которому бежал широкий поток, и казалось, что крыша стала жидкой и сползает, изливается вниз, и это было уже неинтересно и даже тоскливо. Видел нечто грохочущее, сине-отечное, беспросветное над головой, что тоже теперь совсем не радовало. Видел улицу внизу, считал автомобили и пытался определить их марку. Получалось не очень. К тому же такая скука.
Потом из парадного на другой стороне вышла девчонка, сняла обувь и решительно отправилась куда-то по колено в воде. Майк даже восхитился такой решительностью и бесстрашием перед непогодой. Он и сам любил пройтись босиком по теплому дождю и подставить лицо под струи. Он ее отлично понимал. На перекрестке за стеной воды ее было видно плоховато, но движения угадывались. И когда отчаянная девчонка вдруг завертела головой, Майк, наделенный даром наблюдательности и отличной зрительной памятью, узнал ее. Он в жизни не видел, чтобы кто-нибудь так вертел головой. Так, как будто ждет, что раздвинется пространство или заговорит эфир колокольчатым ангельским голосом, но при этом не замечает того, что происходит под носом.
Вот черт! Надо догонять, а он висит на крыше и боится шевельнуться.
Майк попытался, упираясь ногами, слегка сдвинуться вверх. Получилось, но с трудом – руки были заняты камерой. Тут он вспомнил, что за спиной-то у него рюкзак, а в рюкзаке чехол от камеры, и обругал себя последними словами. Это ж надо, с перепугу забыть все на свете. Чтобы снять рюкзак, нужно было сесть, что осуществилось успешно. Когда он снимал рюкзак, снова поехал вниз, к ограждению, потеряв отвоеванные сантиметры. Но так было даже удобнее, можно упираться ногами. С грехом пополам, стараясь не промочить камеру окончательно, Майк упаковал ее. Промокшую куртку он выжал и накинул на рюкзак сверху, закрепив ремешком на верхнем клапане, – плотная ткань все еще могла служить дополнительной защитой. Рюкзак он надел, лег на живот и осторожно, цепляясь за соединительные швы кровельных листов, пополз к чердачному окну.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.