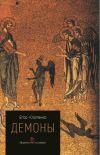Текст книги "История одиночества"

Автор книги: Джон Бойн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Глава 9
1978
В Италию я приехал в январе 1978 года. Прежде я никогда не покидал Ирландию и не летал на самолете, так что оба эти события будоражили невероятно. Предстояло получить паспорт, и мама, откопав мою метрику, отправилась на Моулсуорт-стрит, где отстояла пятичасовую очередь и подробно рассказала паспортистке, зачем понадобился документ, а когда он был готов, я упивался в нем каждым словом, точно великим литературным произведением.
Это было полной неожиданностью, что из всех семинаристов нашего курса именно меня отправили заканчивать учебу в Риме. Обычно отбирали одного-двух кандидатов, и все считали, что нынче выбор падет на Кевина Сэмюэлса по кличке Папа. Или Шеймуса Уэллса, любимчика педагогов, умника и одаренного спортсмена, что всегда ценилось начальством. Однако выбрали меня. Да, я получил пять с плюсом за университетский курс философии и благополучно сдал неимоверное число семинарских экзаменов, но думать не думал, что у меня есть шанс. Правда, у меня были способности к языкам: я освоил латынь, французский, итальянский, немного знал немецкий, и, возможно, это перевесило в мою пользу. Бедняга Кевин Сэмюэлс так и не оправился от потрясения и даже не смог вежливо меня поздравить. Интересно, что он дал о себе знать лишь через четырнадцать лет – удивил меня письмом, где спрашивал, не соглашусь ли я обвенчать его с девушкой, с которой он познакомился, автостопом путешествуя по Америке. Разумеется, за пару лет до этого он отрекся от сана. Но это уже другая история.
– Поди знай, кого мне подселят, – причитал Том в утро моего отъезда; он сидел на койке, а я собирал свои пожитки в тот же чемодан, который распаковывал шесть лет назад. Все эти годы мы прожили вместе и знали друг друга, как знают лишь те, кто обречен на подобную близость, – семинаристы, космонавты и заключенные. – Наверное, какого-нибудь говнюка.
– Да один ты останешься, один, – успокоил я. – Некого подселять-то.
– Очень надеюсь. Я буду скучать по тебе, Одран.
– Мы уж почти закончили. Еще только год.
– Все равно.
Если честно, я не собирался так уж скучать по Тому. Мне стукнуло двадцать три. С семнадцати лет я довольствовался семинарской жизнью, а теперь меня ждало приключение, и я не хотел тратить время на беспокойство о том, будет Том Кардл проживать один или с кем-то в последний учебный год. За время в Клонлиффе он изменился. Он уже не был угрюмым озлобленным юнцом, каким приехал в семинарию. Том покорился своей доле, и если стезя священника его не прельщала, он, пожалуй, с ней примирился. Я уже не спрашивал, почему он не уйдет, коли ему так плохо, ибо ответ всегда был одинаков: отец его прикончит, и доказательством тому – папашин отклик на пятилетней давности побег.
Сейчас я гадаю, куда девалась его храбрость? Почему он больше не противился отцу? И почему духовный наставник не разглядел нарастающего в нем отчаяния, не постарался наладить мир в семье Кардлов и не помог парню, явно непригодному для священства, иначе устроить свою жизнь? Ведь это было его прямой обязанностью.
При всяком упоминании об отце Том заводился и сжимал кулаки. Раз-другой он пришел в такое бешенство, что я опасался за его здоровье. Он был с норовом, и разговоры о семье только распаляли его ярость.
У нас была единственная стычка, когда я ему врезал и он с расквашенной мордой кувыркнулся на кровать. Мы учились на втором курсе, и я поведал, что случилось в Уэксфорде летом 1964-го.
– Повезло тебе, – сказал Том. – Жаль, мой папаша не покончил с собой.
Хрясь.
К его чести, потом он извинился. Том бездумно ляпнул не со зла, но я это запомнил. Его тон. И полный серьез.
Вот еще деталь: тут одно хорошо, говорил Том, – ночью спишь. Мол, с девяти лет каждую ночь отец его будил либо он сам просыпался, ожидая отцова появления.
– А что он делал-то? – спросил я.
– Ох, Одран. – Том отвернулся и вышел из кельи. В скверном настроении он всегда куда-то исчезал.
– Мы непременно увидимся, – сказал я, навсегда покидая Клонлифф. – Вообрази, к тому времени мы уже станем священниками.
– О какое счастье, – усмехнулся Том и пожал мне руку, чтобы было самым ярким выражением нашей взаимной приязни.
Мама с Ханной проводили меня в Дублинский аэропорт и сказали, что из зала ожидания посмотрят, как взлетает мой самолет. Еще задолго до отъезда я отправился на Доусон-стрит покупать билет; денег, выданных каноником Робсоном, хватило даже на покупку темных очков, поскольку в Риме, говорят, солнце светит круглый год. Увидев мою сутану, персонал авиакомпании расстелил предо мной красную дорожку и сделал мне скидку.
– Как думаешь, удастся тебе пообщаться с папой? – спросила мама.
– Пообщаться – вряд ли, – ответил я, – но я, конечно, увижу его на воскресных благословениях на площади Святого Петра, еженедельных приемах по средам и непременно послушаю его проповеди на мессах. Однако не думаю, что вечерком мы столкнемся на улице, когда он выйдет прошвырнуться и закинуть в себя тарелочку спагетти, – пошутил я.
– Тебе ведь придется жить на итальянской еде? – встревожилась мама.
– Ну да, разумеется.
– Но желудок-то?
– А что ему сделается?
– Я бы свой пожалела, – скривилась мама. – Заморской еде веры нет. Слушай, сфотографируй его, если увидишь.
– Кого?
– Да папу же!
– Не выйдет, мам. В церкви нельзя снимать.
– Никто не узнает. Пришли мне пленку, и я отпечатаю снимки. Я знаю одно ателье на Талбот-стрит, там делают фотографии за две недели, а если задержат, не берут плату. Я закажу два экземпляра снимков, один отправлю тебе.
Попробую, сказал я, и на прощанье мы расцеловались. В то время Ханне было двадцать лет, она уже два года работала в Ирландском банке на площади Колледж-грин. Там платят хорошие деньги, говорила сестра, но я не собираюсь всю жизнь торчать в этом банке. Совершенно неважно, возражала мама, где ты служишь, ибо рано или поздно выйдешь замуж, заведешь семью, и муж, если он стоящий человек, не позволит тебе работать.
– Приезжай в гости, – сказал я сестре. Впервые мне стало немного страшно от того, что меня ожидало, и возможного одиночества.
– Приедем, – ответила мама. – В твой главный день. – Громадным преимуществом обучения в Риме было то, что папа лично посвящал выпускников в сан на площади Святого Петра. – Но ты пиши, сынок. Каждую неделю. И не забудь про пленку.
Благодаря моей семинарской сутане на борт я взошел вместе с детьми и стариками, которых пригласили в первую очередь, и стюардесса усадила меня в носовом салоне. В аэропорту Фьюмичино меня встретил монсеньор Сорли, уже больше двадцати лет возглавлявший Епископальный ирландский колледж в Риме. Я ждал, что меня сразу отвезут в новую альма-матер, покажут мою комнату и ознакомят с расписанием занятий, которые, по словам каноника Робсона, от семинарских отличались лишь тем, что велись на итальянском языке. Ну и солнышка там побольше, с улыбкой добавил он. Да еще вместо пастушьего пирога или отбивной с картофелем на ужин подадут пиццу, спагетти по-болонски или лазанью.
Однако план оказался другим: монсеньор Сорли сказал, что сперва мы зайдем в кафе, ибо нужно кое-что прояснить. Я испугался, что уже чем-то себя замарал. В самолете я переволновался и выпил две банки пива. Все из-за этого? Наверное, меня отправят обратно, а Кевин Сэмюэлс следующим рейсом уже летит в Вечный город.
– Каноник Робсон дал вам прекрасные рекомендации, – сказал ректор, когда мы сели в уличном кафе на Виа-деи-Санти-Кватро неподалеку от колледжа; в конце улицы просматривались разрушенные стены и узкие входы Колизея, от невероятной близости которого в ушах моих звучали лязг гладиаторских мечей, рыки львов, крики объятых ужасом христиан и вопли кровожадных римлян. Я вспомнил роман Роберта Грейвса, и мне захотелось раскинуть руки и броситься к этому средоточию истории, чтобы возвестить о моем прибытии на встречу с судьбой. – Он говорит, вы лучший из лучших. На вас возлагают большие надежды, Одран.
– Благодарю, – ответил я.
– Скажите, вы амбициозны?
Я подумал и покачал головой:
– Нет.
– Однако вы здесь. – Монсеньор Сорли улыбнулся и развел руками: – Небось шагали по трупам?
От таких слов я опешил:
– Поверьте, для меня это было полной неожиданностью, как и для всех прочих. Мы думали, пошлют Папу.
– Кого?
– Извините, – поспешно сказал я, красный как рак. – Мы так прозвали однокашника. Очень, – я постучал себя по лбу, – башковитого. Все думали, поедет он.
– Как вы считаете, вам по силам интересная, но сложная задача? – Монсеньор Сорли подался вперед и прихлебнул эспрессо.
– Какая задача?
– Такая, для которой требуются ум, надежность и большая осмотрительность.
Я мешкал, боясь, как бы потом не пожалеть. Но иного ответа, кроме «Конечно, монсеньор», я дать не мог.
– Молодец. Но прежде чем я расскажу, в чем дело, вы должны знать: если почувствуете, что не годитесь, можете отказаться. И мы найдем кого-нибудь другого. Каноник Робсон считает, что именно вы справитесь с задачей, но если она вам не по нутру, никто вас не осудит.
– Хорошо, – сказал я.
– Открылась вакансия. – Монсеньор Сорли еще больше подался вперед и понизил голос: – На кое-какую работу. Она не должна мешать вашей учебе, но если помешает, ее у вас отберут. Ежегодно семинарист того или иного колледжа на двенадцать месяцев прикомандировывается к Ватикану для исполнения определенных важных функций. Работа отнимает час-другой, всего-навсего. Но семь дней в неделю. Без выходных. И никаких каникул.
– Я охотно возьмусь за любую работу, какую мне поручат, монсеньор, – сказал я.
– Каждый год назначают семинариста иной национальности, – пояснил священник. – В 1976-м работал кошмарный исландец. Жуткий воображала. В прошлом году был милый индус. Теперь наша очередь. По алфавиту, ясно? Да, вот еще: ночевать вы будете не в колледже, так что бытовая сторона его жизни вас не коснется. Вам отведут комнату. Даже не комнату, а, скорее, тюфяк в закутке. Вас это устроит?
– Тюфяк в закутке? – оторопел я.
– Все не так страшно, как звучит. – Монсеньор пожал плечами, задумался и покачал головой: – Хотя нет. Все именно так, без прикрас. Кроме того, на занятия вы будете добираться автобусом, а вечером им же возвращаться на работу. Что займет толику времени. Ну как, Одран, беретесь?
– Да, монсеньор, – сказал я. – Но что я должен делать? В чем моя задача?
– Вот мы и подошли к главному, – улыбнулся ректор. – Только не упадите со стула.
Ту ночь я провел-таки в ирландском колледже. Монсеньор препроводил меня в большой белый особняк, где я принял ванну и выспался, а наутро по набережным Тибра повез в Ватикан, к которому мы подъехали по Виа-делла-Кончилиационе, и я онемел, впервые узрев площадь Святого Петра.
Встрече, назначенной на половину одиннадцатого, отводилось не более пяти минут. Мы шли мраморными коридорами, и у меня глаза лезли на лоб от пышного убранства стен и великолепной росписи потолков; в окна я видел толпы туристов на площади, и мне хотелось высунуться и помахать им, чтобы все знали: я там, куда прочим доступ заказан. Суетное тщеславие, простительное молодому человеку. Но монсеньор Сорли, давно привыкший к роскоши и прошлому, окружавшим нас, меня поторапливал. Швейцарские гвардейцы распахнули перед нами массивные деревянные двери, мы поднялись по лестнице и оказались в небольшой приемной, где секретарь (разумеется, священник) заговорил с ректором по-итальянски, внимательно поглядывая на меня.
– Вас скоро примут, – протараторил он, проверяя мой итальянский, и глянул на часы. – Сейчас его святейшество встречается с его блаженством патриархом Венецианским, но это ненадолго.
Мы сели в солидные бархатные кресла; от волнения желудок мой исполнял кульбиты.
– Пожалуйста, повторите мои обязанности, – попросил я ректора, дрожа от мысли, что с папой Павлом нас разделяет лишь закрытая дверь.
– Они просты, – сказал монсеньор. – Его святейшество встает в пять утра. Монахини готовят чай и подают его в личную гостиную, вон туда, – он показал на комнату слева по коридору. – Вы вносите поднос в папскую спальню. Монахини не могут туда входить, пока его святейшество не закончил туалет и не оделся. Возможно, он обратится к вам с какой-нибудь мелкой просьбой, но это маловероятно. Разбудив его, ставите поднос на столик и раздергиваете шторы. Вечером вы должны приехать к восьми часам – на случай, если он решит лечь пораньше. Обычно перед сном его святейшество пьет горячее молоко и читает, вы подаете ему все, что требуется. Монахини все приготовят, но в спальню им хода нет, когда его святейшество собрался отойти ко сну. Вы спите в закутке перед спальней – вдруг ночью ему что-нибудь понадобится. Насколько я знаю, такого никогда не случалось. Работа нетрудная, Одран. По сути, дважды в день вы служите официантом. Это занимает очень мало времени. Главное, чтобы каждое утро и каждый вечер вы были под рукой. Нельзя опоздать или покинуть свой пост.
– Конечно, – кивнул я. – А моя учеба?
– Разбудив его святейшество, вы отправляетесь в колледж. Автобусов много, но будьте готовы к давке и духоте. Днем вы учитесь, пока не наступит время вернуться в Ватикан. Само собой разумеется, нельзя рассказывать другим студентам о том, что вы здесь видите и слышите, это понятно?
– Да, монсеньор, – сказал я, размышляя над услышанным. Спору нет, я удостоен великой чести, но меня вовсе не радовала перспектива дважды в день туда-сюда мотаться по Риму – и лишь для того, чтобы подать чай или горячее молоко, пусть даже самому Папе. Ирландский колледж очаровал меня ухоженными лужайками и соседством с Колизеем, вдобавок я предвидел, что упущу дружбу однокурсников, ибо не смогу проводить вечера в их обществе.
Отворилась дверь, и я чуть не сомлел, увидев высокого седоватого человека, который улыбнулся и протянул обе руки ректору.
– Какая неожиданная встреча, монсеньор Сорли, – сказал он.
– Давненько не виделись, ваше блаженство, – ответно улыбнулся ректор. – Что привело вас в Рим?
– Наш прекрасный собор вот-вот обрушится нам на голову, – пожал плечами патриарх. – Куда еще обратиться, как не к тому, кто заведует финансами?
– Ваше ходатайство удовлетворено?
Кардинал развел руками:
– Принято к сведению, друг мой. Мне надлежит вернуться в Венецию и ожидать решения. – Все еще улыбаясь, он посмотрел на меня: – А это у нас кто?
– Семинарист выпускного курса, ваше блаженство. Только что из Дублина. Его отобрали на должность, освобожденную юным Чаттерджи.
– Стало быть, в ближайший год вы будете раньше всех в Ватикане вставать и позже всех ложиться, – сказал патриарх. – Вам крупно повезло – либо наоборот. Что выбираете?
– Крупно повезло, ваше блаженство. – Я упал на колени и поцеловал золотой перстень с печатью Венеции – города, который я давно мечтал увидеть. Я пытался представить каналы и мосты, площадь Сан-Марко и себя, одиноко слоняющегося среди венецианцев.
– Когда от недосыпа у вас набрякнут мешки под глазами, вы, возможно, скажете иное. Говорят, святой отец ложится за полночь и встает ни свет ни заря. Конечно, у него столько работы.
Я робко кивнул, не зная, надо ли что-нибудь ответить. Но кардинал смотрел по-доброму, потом засмеялся и, взяв меня за плечо, заглянул мне в глаза:
– Не переживайте. Здесь дружелюбно. Как, кстати, вас зовут?
– Одран Йейтс.
– Так вот, Одран, не тревожьтесь. Наслаждайтесь этим опытом. Оглянуться не успеете, как наступит 1979-й и придет очередь… – Патриарх задумался. – Как вы считаете, кто следующий после Ирландии?
Я припомнил страны в алфавитном порядке.
– Израиль? – предположил я.
Брови патриарха изумленно взлетели, он посмотрел на монсеньора, зажавшего рукой рот, чтоб не фыркнуть.
– Это вряд ли, – сказал кардинал. – Конечно, прекрасная Италия.
В соседней комнате звякнул колокольчик, и патриарх взглянул на монсеньора Сорли:
– Приятно было повидаться, друг мой. В следующий мой приезд мы непременно вместе отобедаем. А вам, юноша, удачи.
Он зашагал прочь, величавый в кардинальском облачении – черная с алым кантом сутана, пояс, шапочка, – не менявшемся со Средневековья. Я представил, как соперничали роды Борджиа, Медичи и Конти, желавшие сменить обычную одежду на кардинальский наряд. Что и говорить, он впечатлял, заставляя всех прочих почувствовать свою ничтожность.
Секретарь оторвался от бумаг:
– Вас ждут.
– Ну, идемте, – сказал монсеньор Сорли, и следом за ним я вошел в кабинет, где худой человек с глубоко запавшими глазами, одетый в белую сутану с пелериной и увенчанный золотым наперсным крестом, сидел за столом и перьевой автоматической ручкой что-то корябал на бумажном листе. Минуты две он писал, не обращая на нас внимания, потом остановился и протянул нам руку, которую мы оба поцеловали, опустившись на колени. – Святой отец, вот юноша, о ком я говорил, – сказал монсеньор Сорли. – Одран Йейтс. Он заменит юного Чаттерджи.
Папа обратил на меня холодный взгляд:
– Встаньте.
Я встал. И осмелился посмотреть на него. Сероватое лицо, глаза в темных окружьях. Он выглядел изнуренным, словно жизнь его угасала.
– Вы тихий? – спросил папа.
– Прощу прощенья, ваше святейшество? – переспросил я.
– Я не люблю, когда утром или вечером шумно. И без того… – Он махнул на приоткрытое окно, сквозь которое доносился гомон туристских толп, достигавший даже этакой верхотуры. – Обещаете не шуметь?
Я нервно сглотнул и кивнул:
– Я буду как мышь. Вы меня даже не заметите.
Папа покачал головой и откинулся в кресле.
– Ирландия, – задумчиво проговорил он.
– Да, святой отец.
– Что же нам делать с Ирландией?
Я молчал, не уразумев вопроса. Взмахом руки папа дал понять, что аудиенция окончена. Мы с ректором вышли из кабинета. В последующие семь месяцев папа Павел VI при мне не произнес ни слова. Он вообще меня не замечал, словно я был ватиканским призраком.
Прежде я не изведал всепоглощающей любви. Читал о ней в романах, видел в кино и телесериалах ее жертвы, смахивавшие на пьяных или безумцев. Но я не испытал того страстного влечения, когда все прочее вокруг кажется мелочью. Даже мой недолгий роман с Кэтрин Саммерс во мне ничего особо не расшевелил, кроме естественного подросткового любопытства. В отличие от Тома Кардла и еще кое-кого из семинаристов, одинокими ночами я не ворочался в постели, изнывая по женщине, вытворяющей со мной всякие штуки, о чем грезят все парни моего возраста. Целибат не казался таким уж тяжким бременем, и порой, когда я дозволял своим мыслям потечь в сторону плотских дел, у меня возникали сомнения: может, со мной что-то не так? Может быть, при моем творении потерялась какая-то деталь моей личности?
В Клонлиффе о женщинах говорили нечасто. Явный интерес к противоположному полу свидетельствовал о шаткости твоего призвания, грозившей тем, что ты покинешь семинарию прежде посвящения в сан или, хуже того, отречешься от священства ради жизни как у всех: жена, дети, работа. Оттого-то мы почти не делились мыслями о плотском, но свои тайные желания прятали в укромных уголках души, боясь говорить об этой стороне жизни за нашими стенами.
И вот однажды, спустя несколько месяцев после моего приезда в Рим, я сидел в маленьком кафе на площади Паскаля Паоли, разглядывая туристов на мосту Витторио Эммануэле, бредущих к базилике Святого Петра; раскрытый роман Э.М. Форстера «Комната с видом» лицом вниз лежал передо мной на столике. Я поднес чашку с кофе к губам, и в этот момент из кухни выскочила женщина, следом появился мужчина в годах – ее, видимо, отец. Театрально жестикулируя, женщина кричала, а старик только пожимал плечами, но потом сорвал с себя фартук, швырнул его на пол и заорал с не меньшим жаром. Все это настолько выглядело карикатурой на неудержимый итальянский темперамент, что у меня закралась мысль о представлении, затеянном ради туристов. Может, они каждый день разыгрывают подобную сценку? Но вопрос растаял, едва я вгляделся в женщину. Вот тут-то оно и случилось. Я пропал.
Не знаю, чем она мне приглянулась. Гораздо старше меня, лет тридцати или чуть за тридцать, когда мне всего-то двадцать три. Рослая – выше отца и меня; темные волосы зачесаны назад и собраны в сложный узел, поощрявший к фантазиям. Проворные пальцы, думал я, сумеют расплести его на пряди. Потом женщина отвернулась от старика и окинула взглядом посетителей, никак не отреагировавших на перебранку; глаза наши встретились, и она, пожав плечами, вскинула руки, словно спрашивая: «Что?» – а я уставился в стол. Когда я осмелился вновь посмотреть на нее, она, слегка улыбаясь, покусывала средний палец левой руки, и я возжелал быть ногтем на том пальце, от чего густо покраснел. Я оттянул жесткий пасторский воротничок, сдавивший мне горло и одним своим видом возводивший барьер между нами, и попытался вернуться к чтению. Но слова расплывались перед глазами, и я снова посмотрел на нее, однако она уже скрылась в кухне. Не было никаких причин для столь всепоглощающего желания, но оно меня охватило. Я желал, чтобы она появилась, желал распустить ее волосы и увидеть, как они упадут ей на плечи. Я хотел, чтобы она орала на отца и треснула его кастрюлей по башке; чтобы подошла к моему столику, наклонилась ко мне и сдернула мой воротничок.
Я так долго сидел в кафе, что наконец она медленно приблизилась, взяла пустую кофейную чашку и произнесла три слова: Un altro, Padre? Но я покачал головой. Я не мог заставить себя говорить. Она ушла, а я отправился в свой закуток в папских покоях, где лег навзничь и, разглядывая фрески на потолке, прислушался к невероятному ощущению, меня взбаламутившему.
Вот что, понял я, чувствуют обычные люди. Ты ничем от них не отличаешься, говорил я себе. Ты, Одран, такой же, как все.
С тех пор каждый день я сидел в кафе Бенници на площади Паскаля Паоли, и всякий раз женщина орала на отца, попрекая его очередной оплошностью, а когда запал ее иссякал, она смотрела на меня и качала головой, словно я досаждал ей не меньше. Я себе нафантазировал подробную историю хозяев кафе: он рано овдовел и воспитывал дочь один либо с помощью своей нахальной и упрямой матушки (вечный персонаж итальянских историй), потом девочка подросла и стала его помощницей. Не в укор ее целомудрию, я сочинил ей ребенка, мальчика трех-четырех лет – плод недолгих отношений с никчемным похотливым неаполитанцем, который, будучи в Риме проездом, ее соблазнил и бросил. Всякий раз, когда она забирала мою пустую чашку и спрашивала: «Еще одну, падре?» – на безымянном пальце ее левой руки я видел след от обручального кольца и гадал, снимает ли она его перед мытьем посуды, чтобы не поцарапать, или вообще прячет в шкатулку, чтобы оно, не дай бог, не соскользнуло в раковину. Мужа я решительно отверг, хотя не возражал против ребенка. К детям я равнодушен, но ее мальчугана я полюблю. Интересно, говорит ли она по-английски? Сумеет ли приспособиться к Дублину? Сумею ли я с ней ужиться? Вот какие нелепые мысли бродили у меня в голове, когда чашка за чашкой я пил кофе, и это время было безраздельно моим, ибо я не шастал в папскую спальню и обратно, не корпел над книгами в колледже и не молился рассеянно в бесчисленных церквях и часовнях, вкруг которых пролегли улицы Вечного города.
Да я и кофе-то не особо любил.
Порой я ждал, что женщина или ее отец потребуют объяснений. Они, конечно, заметили, что я пялюсь на хозяйку, и считают странным, что день за днем и неделя за неделей появляюсь в одно и то же время. Иногда хозяин ожигал меня взглядом. Вероятно, он попросил бы меня уйти, не будь я в церковном одеянии, но сейчас ему приходилось молчать, соблюдая приличия. Когда женщина подходила ко мне и спрашивала: «Еще одну, падре?» – я, случалось, ловил ее взгляд, и что-то в ее глазах говорило: она знает, что в воображении молодого человека за угловым столиком, на котором лежит так и не дочитанный роман, теснятся безудержно похотливые картины, от коих покраснел бы и покойник.
Подглядывание мое длилось уже почти два месяца, когда вдруг мне на плечо легла чья-то рука, и я вздрогнул, узрев его блаженство патриарха Венецианского, с которым повстречался в свой первый день в Ватикане. Он улыбался, лицо его излучало безмятежную радость.
– Ведь я не ошибаюсь, вы тот самый ирландец, верно? – сказал он. – Монсеньор Сорли рекомендовал вас святому отцу, да?
– Одран Йейтс, ваше преосвященство. – Я хотел опуститься на колени, но он жестом меня остановил и попросил сидеть.
– Позвольте составить вам компанию?
Я промешкал всего секунду. В иных обстоятельствах я был бы счастлив столь великолепному обществу, но сейчас предпочел бы остаться один, не пускаясь в разговоры, которые отвлекут от моего главного занятия. Впрочем, я тотчас собою овладел и предложил кардиналу стул, но он, видимо, заметил мое колебание и то, как глаза мои метнулись к женщине за стойкой, ибо проследил за моим взглядом, и улыбка его слегка угасла. Через минуту женщина поставила перед ним латте – видимо, знала вкус завсегдатая – и глянула на меня, чуть расширив глаза. То бишь подала сигнал на неведомом мне языке. Наверное, кто-нибудь другой его вмиг расшифровал бы.
– Как вам ваши обязанности? – спросил кардинал, сделав глоток. – Святой отец не дает вам покоя?
Я покачал головой:
– Обязанности на удивление просты. Весь колледж завидует моей близости к его святейшеству, но он, кажется, меня даже не замечает.
– И вас это задевает?
– У него много забот. А я всего лишь мальчик, который по утрам его будит и вечерами подает чай.
– Вы вовсе не мальчик, мой дорогой Одран, но муж. Зачем вы так себя умаляете?
Я задумался. Да, мне стукнуло двадцать три года. Я заканчивал учебу и готовился стать священником. Мне доверили ответственный пост, пусть не требующий большого ума. Почему же я не хотел принять, что детство кончилось?
– Иногда мне кажется, что до посвящения в сан я останусь мальчиком, – сказал я.
– Наверное, сотни лет назад, когда я был в вашем возрасте, мне тоже так казалось.
Настала моя очередь улыбнуться. Кардиналу перевалило за шестьдесят, но благодаря превосходному цвету лица выглядел он лет на десять моложе. Иные мои римские знакомцы не обладали этакой жизненной энергией.
– Уже соскучились по Ирландии? – спросил он.
– Нет, – сказал я. – Хотя, конечно, ее вспоминаю. Часто. Но я полюбил Рим.
– И что тут вам по сердцу?
– Здания. Улицы. Ватикан, конечно. Историческая атмосфера. Погода. Я обожаю итальянский язык. Знаете, что Форстер сказал об Италии?
– Он англичанин. И считал, что можно изменить страну, проникнув в ее душу. Но мистеру Форстеру с его убогой моралью Италию не изменить. Герои его романов заявляют, что очарованы здешним народом, но когда этот народ поступает по-своему, не желая подражать персонажам Голсуорси, англичане дуются и объявляют итальянцев дикарями.
– Но ведь об этом Форстер и пишет, – возразил я. – Он высмеивает неспособность чужестранцев разглядеть красоту. Мы – в данном случае британцы – умом ее понимаем, но слепнем, оказавшись в ее колыбели.
Кардинал улыбнулся, пригубил кофе и посмотрел на прохожих. Кто-то ему помахал рукой.
– Приветствую, друг мой! – радостно крикнул патриарх, вскидывая руку. Затем повернулся ко мне и пояснил: – Секретарь кардинала Сири. Вы знаете Сири?
– Понаслышке, – ответил я. – Правда ли, что он должен был стать папой?
Патриарх усмехнулся. Это был давний слух: вроде бы в 1958 году конклав избрал папой генуэзского кардинала Сири, но в последний момент тот отказался от поста из-за угроз, исходивших от коммунистической России. Уже появился белый дым, балконные двери открылись, но потом вновь затворились, кардиналы еще два дня заседали в Сикстинской капелле и наконец объявили своим главой предшественника моего визави – Венецианского патриарха Ронкалли, ставшего папой Иоанном XXIII.
– Рим всегда полон слухов, – сказал кардинал, подавшись вперед. – Вечно молва, политика, борьба за власть. Та к было со времен цезарей и никогда не изменится. Глупый в этом погрязнет, умный этим пренебрежет. Но вы, мой юный друг, говорили о восприятии красоты. Наверное, в Риме найдутся разные прелести, да? – Вскинув бровь, он глянул в сторону кухни. Я потупился. – Здесь очень хороший кофе. – Он положил ладонь на мою руку: – Я понимаю, отчего вы подолгу сидите в этом кафе.
Кардинал откинулся на стуле и показал на шестиэтажное здание из желтого кирпича на другой стороне улицы, окна которого выходили на площадь.
– Уже две недели я оторван от моей любимой Венеции, – сказал он. – Готовлю кое-какие бумаги для святого отца. Он соблаговолил поручить мне эту работу, и я покорно ее принял, но завтра наконец-то отбываю домой. – Лицо его просветлело, и он повторил: – Домой! Я так стосковался по запаху каналов, ужасно хочу посидеть на площади Сан-Марко и подойти к мосту Вздохов. Я был бы счастлив, если б мог никогда не покидать Венецию.
– Я там не бывал, – сказал я.
– Непременно побывайте. Если, конечно, сумеете оторваться от кафе Бенници. Каждый день вы здесь, Одран. Я вижу вас из своего окна. Влюбились, да?
От смущения у меня свело живот.
– Влюбился? – переспросил я.
– В здешний кофе.
– Да.
Кардинал покивал.
– Мы выбрали нелегкую жизнь, – наконец сказал он. – А в мире существуют соблазны. Мы живые люди и порой позволяем себе вообразить, что будет, если мы им уступим. Станет ли наша жизнь лучше или разрушится.
Кардинал посмотрел на предмет моего обожания, протиравший соседний столик. Блузка выбилась из-за пояса юбки, открыв полоску смуглого тела, и меня будто пронзило током. Я запечатлел картинку, чтобы потом ею как следует насладиться.
– Как поживаете, моя дорогая? – Кардинал одарил хозяйку своей неотразимой улыбкой. Женщина опустилась на колени и поцеловала ему руку. Я видел ее алые губы, прижавшиеся к кардинальским пальцам, я видел кончик языка, выглянувший из ее рта, когда она поднялась, и изо всех сил старался не застонать.
– Хорошо, эминенция, – ответила женщина.
– Вы знакомы с моим юным ирландским другом Одраном?
– Он наш завсегдатай, – сказала женщина, не глядя на меня.
– Одран покорён. Бесстыдно сдался вашему кофе.
Женщина насмешливо вскинула бровь:
– Мы рады всем нашим гостям. Вам, эминенция, особенно.
– Однако завтра я уезжаю, – сказал кардинал. – Нынче мой последний день в Риме.
Женщина, похоже, искренне опечалилась:
– Но вы еще вернетесь?
– Непременно. Я всегда возвращаюсь в Рим. Но потом всегда уезжаю домой. И мне это, к слову, очень нравится. – Кардинал глянул на часы: – Ну, мне пора. – Он встал, жестом удержав меня на стуле. Женщина вернулась за стойку. – Если окажетесь в Венеции, Одран, обязательно дайте знать. Я люблю молодежь, а нам с вами, не сомневаюсь, есть о чем поговорить. – Из кармана сутаны патриарх вынул четки и протянул мне: – При случае помолитесь за меня, Одран. И подумайте, – добавил он, – может быть, стоит попробовать кофе в других заведениях. Вы пропустите все лучшее в Риме, если будете сидеть на одном месте. – Кардинал шагнул к выходу, но приостановился: – Помните, мой юный друг: жизнь легко описать, но нелегко прожить. – Он подмигнул. – Форстер.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.