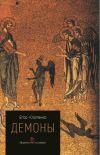Текст книги "История одиночества"

Автор книги: Джон Бойн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Наутро это незамысловатое послание подхватили газеты, поместив на первых страницах фотографию, на которой растерянного Тома Кардла заталкивали в полицейский фургон, и снабдив снимок убедительно простым заголовком:
ГНАТЬ ИХ ВОН!
Глава 15
2012
Черный костюм в шкафу и белый крахмальный воротничок на тумбочке остались ждать моего возвращения. С собой я их не брал. Учитывая, куда и к кому я ехал, обрядиться в символы моей профессии было бы катастрофической ошибкой.
Утром, дожидаясь такси, я себя чувствовал неуютно в цивильной одежде, на которой остановил свой выбор. Я разглядывал свое отражение в зеркале, стараясь угадать, кем выгляжу со стороны. Сочинялись разные варианты: год назад умерла моя жена, с которой было прожито тридцать лет, и я рискнул впервые провести отпуск один; редактор отправил меня на литературный фестиваль, где я должен взять интервью у знаменитого писателя, чьи творения недавно перевели на английский; фирма послала меня в недельную командировку, дабы я проконтролировал работу мюнхенского филиала, снизившего выпуск продукции. Все это было бы возможно в иной жизни, выбери я другой путь.
Конечно, я черт-те что себе надумал, в аэропорту никто не обратил на меня внимания. А чего меня разглядывать, если я выгляжу как все прочие?
В пятьдесят семь лет я мог по пальцам одной руки пересчитать свои заграничные поездки. Рим, само собой, и Норвегия, куда давным-давно я ездил на свадьбу Ханны и Кристиана. Разок в Америку. А еще на сорокалетие сестра подарила мне поездку в Париж, не подумав о том, что одинокого мужчину, давшего обет безбрачия и не познавшего близость ни в какой ее форме, отправлять на три дня и две ночи в город любви бессердечно. Обстоятельство, что мой день рождения ровно в середине февраля, только все усугубляло.
Я никогда не был в Африке, Азии и Австралии, не стоял перед Сиднейской оперой и Зимним дворцом русских царей. Моя жизнь прошла в Ирландии, и сейчас иногда возникала мысль, не было ли это ужасной ошибкой. Но тогда список моих ошибок так длинен, что лучше его не пополнять.
И вот я снова в Дублинском аэропорту. Вспомнилось, как в семьдесят восьмом я улетал в Рим и меня провожали светившаяся гордостью мама и скучавшая сестра. Зажав билет в кулаке, мимо стюардессы, окинувшей меня взглядом, я прошел на посадку. Сейчас я как будто переходил Рубикон. Досмотр клади, рамка металлоискателя, рентген, а потом тебя обшаривает угреватый толстяк, громко чавкающий жвачкой. Террористическая угроза, говорили все вокруг. Никому нельзя верить.
Мне, неопытному путешественнику, было интересно все: момент отрыва самолета от полосы, автострада М50, далеко внизу превратившаяся в ленту, город, распахнувшийся перед морем, скалистый изгиб вокруг Вико-роуд, где жили знаменитости. Женщина рядом со мной читала книгу Сесилии Ахерн, дочери бывшего премьер-министра, и вид ее говорил: не вздумайте лезть с разговорами. Мужчина в следующем кресле смотрел фильм в этакой переносной штуковине и поминутно шмыгал носом. В поездку я припас новый роман Джонаса, но в суматохе утренних сборов забыл его на столике в прихожей. За неимением лучшего в аэропорту я купил свежий номер «Айриш таймс», где широко обсуждалось недавнее радиоинтервью архиепископа Кордингтона, который шесть лет назад отправил меня в приход Тома Кардла, а сам тем временем дорос до кардинала, чему споспешествовал папа-немец, его давнишний закадычный друг.
Интервью стало ответом на журналистское расследование, утверждавшее, что кардинал Кордингтон был прекрасно осведомлен обо всем, что десятилетиями творилось в Церкви, но покрывал преступных священников, а посему виновен не менее их. Прежде кардинал, действуя, разумеется, по указке Рима, отказывался от любых интервью, но сейчас дело зашло слишком далеко: ему крепко досталось в докладе Мёрфи[37]37
Доклад Мёрфи – отчет о расследовании, проведенном правительством Ирландии, в отношении скандала с сексуальными злоупотреблениями в архиепархии Дублина был выпущен в 2009 г.
[Закрыть], все новые иски поступали от жертв насилия. В конце концов у него не осталось иного выбора, как согласиться на беседу в прямом эфире с радиоведущим Лиамом Скоттом.
Дока Скотт начал с легких вопросов. Он попросил кардинала рассказать о себе, о своей жизни, начав с того, что привело его к священству.
– Зов. – Голос Кордингтона был мягок и сладкозвучен. – Впервые я его услышал еще ребенком. В нашей семье не было священников. Говоря откровенно, родители мои были не слишком религиозны, однако во мне жило чувство моего предназначения, и я, став старше, поделился им с приходским настоятелем, славным человеком, который одарил меня благодатным советом.
– Как вы восприняли свое предназначение?
– Оно меня пугало. Я не был уверен, что способен на жертвы и достаточно умен для такой жизни.
– Вы понимали, с чем расстаетесь?
– Да, конечно.
– И все-таки пошли этим путем?
– Скажите, Лиам, у вас не бывает ощущения, что путь, которым вы следуете, уже давно кем-то для вас проложен? И вы над ним не властны? Вот что я чувствовал. Я избран. Господом. Впервые переступив порог семинарии, я интуитивно понял, что прибыл домой.
В этом мы были похожи, ибо в Клонлиффской семинарии меня посетило точно такое же чувство: вот место, куда я стремился всю свою жизнь.
Интервью продолжалось, после пары-тройки банальностей кардинал расслабился, и тогда-то все началось. Скотт привел статистику последних лет. Число дел о растлении малолетних, рассмотренных судами. Число дел в стадии расследования. Число арестованных священников. Число священников, по недостатку улик признанных невиновными, но оставшихся под большим подозрением. Число потерпевших. Число самоубийств. Число групп поддержки. Цифры, цифры, цифры. Ведущий прекрасно ориентировался в данных и лихо ими оперировал; он был абсолютно спокоен, ибо статистика говорила сама за себя. Когда перечень закончился, кардинал не проронил ни слова, и тогда ведущий нарушил затянувшуюся паузу:
– Как вы это прокомментируете, кардинал Кордингтон?
– Это ужасно, – ответил кардинал, и голос его полнился хорошо отрепетированным раскаянием. – Воистину ужасно.
Далее радиослушатели узнали о ложке дегтя в бочке меда, о преподанном уроке, об исправлении прошлых ошибок, мол, шагаем вперед, не забывая оглядываться, и прочую чушь. А затем, не подумав, он сказал, что из ста священников лишь один попадает в газеты, и прибегнул к нелепой аналогии:
– Это вроде авиакатастрофы. О разбившемся самолете все узнают немедля. О нем говорят в новостях, показывают по телевидению. Ибо десятки тысяч самолетов ежедневно взлетают и благополучно приземляются, и катастрофа являет собой столь большую редкость, что каждый считает своим долгом о ней сообщить. То же самое со священниками, которым предъявлено обвинение: в массе достойных и честных служителей число их так ничтожно, что мы узнаем о каждом несчастном случае.
Скотт вцепился мгновенно. Весьма странное сравнение, сказал он, поскольку те, кто в самолете, экипаж и пассажиры, не виноваты в катастрофе, случившейся по вине техники. Однако священники прекрасно сознавали, что творят, и действовали по собственной воле, не думая, как это скажется на детях, вверенных их заботе. Они виновники собственных несчастий и невероятных страданий других людей. В отличие от пилотов обреченных лайнеров, они преступники.
– И последнее, – сказал Скотт, готовя смертельный удар. – Мы знаем о каждой катастрофе, но наше знание о них вовсе не означает, что ежедневно в мире не происходят еще сотни других страшных событий, которые замалчивают или по недостатку доказательств не считают катастрофами.
Кардинал замешкался – видимо, смекнул, что сморозил глупость. Затем попытался увильнуть, но Скотт попросил его не держать радиослушателей за дураков и дать прямой ответ. Кордингтон слышно поперхнулся – уже давно никто с ним так не разговаривал. Приникнув к радиоприемнику, я поймал себя на том, что болею за Скотта и заклинаю его не дать кардиналу сорваться с крючка. Пусть правда выйдет наружу, думал я. Пусть выйдет вся правда.
– Давайте говорить на конкретных примерах, – предложил Скотт и вспомнил дело отца Стивена Шеррифа. В середине шестидесятых годов тот получил десять лет за растление школьников. Семнадцать учеников предали дело огласке. Четверо из них, не сироты, заявили, что ставили в известность директора школы, но тот пригрозил им исключением.
– Этим занимался мой предшественник, который уже почил, упокой Господь его душу, – сказал кардинал Кордингтон. – Я не в ответе за его действия или бездействие.
– Но тогда вы были помощником епископа той епархии, верно? – спросил Скотт.
– Да, верно.
– Значит, прежде чем дело отправилось к кардиналу, оно попало к вам.
– И я передал его в полномочные органы.
– То есть в полицию? – уточнил Скотт.
Повисла пауза. Все понимали, что кардинал имел в виду другое.
– Я передал его в церковные полномочные органы, – тихо ответил он.
– Не в полицию?
– Нет.
– Почему?
– Это не входило в мои обязанности.
– Погодите. Вы узнаёте о преступлении и не считаете себя обязанным о нем сообщить? Скажем, вы заглянули к нам в аппаратную и увидели, как один сотрудник ворует деньги из кошелька коллеги. Вы промолчите?
– Я сообщу вам. А вы уж разбирайтесь.
– А если я скажу, это пустяки?
– Тогда я решу, что вам виднее.
– Почему школьникам, которые не сделали ничего дурного, грозили исключением? – спросил Скотт.
– Нельзя не учитывать временной контекст, – спокойно сказал Кордингтон. – Упомянутые вами события происходили десятилетия назад…
– И продолжались до девяностых годов, – вставил Скотт.
– Хронология мне не известна. Но не забывайте: это был единичный случай. И потом, нет оснований полагать, что мальчики сказали правду.
– Как нет оснований подозревать их во лжи.
– Мальчишки… Порой они очень… – Кардиналу хватило ума не закончить фразу.
– В докладе Мёрфи сказано, что вы лично занимались одиннадцатью разными делами, по которым были поданы иски. Так ли это?
– Я не читал доклад целиком, Лиам. Но, раз вы говорите, видимо, так и есть.
– Вы не прочли доклад?
– Нет.
– Позвольте узнать почему? – после короткой паузы спросил ведущий. В голосе его слышалось искреннее удивление.
– Он очень большой.
– Вы шутите?
– Я занятой человек, Лиам. Вы, конечно, это понимаете. Столько обязанностей, что просто не хватает времени. Довольно того, что я прочел важные куски доклада и серьезно над ними подумал.
– Тот случай вы назвали единичным, но ведь это не соответствует истине?
– Соответствует. Прежде вышеупомянутый священник ни в чем не обвинялся.
Скотт помолчал, дав время себе и слушателям разобраться в кардинальской логике.
– И оттого семнадцать пострадавших становятся единичным случаем? – недоуменно спросил он.
– Послушайте, это было плохо. Спору нет. И теперь все мы это понимаем. Я очень сожалею о том, что произошло. Очень сильно сожалею.
Ему бы, дураку, на том и закончить, ведь он вроде как принес извинения, но кардинал, заигравшись, сослался на другие времена.
– Что вы хотите сказать? – насторожился Скотт. – Что в пятидесятые годы растление детей было в порядке вещей? Или в шестидесятые, семидесятые?
– Нет, разумеется. Но тогда мы не знали того, что знаем сейчас, – извернулся кардинал, и я представил, как его прошибло потом. – Тогдашние иерархи еще не ведали, как обойтись с подобными делами, представленными на их рассмотрение.
– То есть вы обвиняете своего предшественника на посту примаса Ирландии в бездействии? Вы можете во всеуслышание сказать, что он был не прав?
– Могу: он был не прав, – чуть помешкав, произнес кардинал. – Да, в этом я его укоряю. Обвинение – слишком суровое слово. Не мое дело обвинять, хотя вы, как видно, с этим не тушуетесь.
Пошла реклама. Что-то о страховании жилищ. Где заменить ветровое стекло, треснувшее от угодившего в него камушка. Затем программа вернулась в эфир.
– Если не возражаете, мы перейдем к следующему делу, – сказал Скотт и добавил, что в студию поступает много звонков, но радиослушатели смогут высказаться только после окончания беседы. – Дело Тома Кардла.
И тут кардинал вновь совершил ошибку.
– Отца Тома Кардла, – поправил он.
«Ты вообще думаешь, прежде чем говорить? – поразился я. – Как же ты умудрился стать кардиналом, когда у тебя в башке, похоже, ни одной извилины?»
– Историю спустили на тормозах, – продолжил Скотт, – и вам это известно, поскольку, как говорится в докладе, о преступлениях Кардла вы знали еще в 1980 году. Вы были епископом в Голуэе, втором месте службы Кардла, и получили жалобу от родителя пострадавшего ребенка, но решили замять дело и, сговорившись с епископами Арды и Клонмакнойса, перевели Кардла в Белтурбет. Что вы можете об этом сказать?
– Во-первых, тогда я только начал службу епископом и дел было невпроворот. Я не имел никаких доказательств того, что отец Кардл замешан в чем-то непотребном. Я считал его усердным молодым священником, который приносит большую пользу. Прихожане его любили. Когда потребовалось срочно закрыть вакансию в Каване, я рекомендовал отца Кардла, ибо слышал о нем только хорошее. Вот так все совпало, и только.
– Однако в Голуэй его перевели всего после года службы в Литриме?
– Возможно. Я не помню.
– Именно так.
– Что ж, поверю вам на слово.
– Год – не слишком ли короткий срок службы в первом приходе священника?
– Пожалуй.
– Тогда почему его убрали из Литрима?
– Не знаю, – сказал кардинал. – Меня это не касалось.
– Вероятно, после жалобы, поступившей на него в Голуэе, его перевели в Белтурбет.
– Нет, это полная чушь.
– То есть в вашу бытность епископом Голуэя никаких заявлений на Кардла не поступало?
– Я не помню, Лиам. Это было очень давно, я отвечал за многих священников. Всего просто не упомнишь.
– Остается фактом, что за двадцать пять лет службы Кардл сменил ни много ни мало одиннадцать приходов. Из доклада Мёрфи явствует, что в каждом приходе на него поступала по крайней мере одна жалоба. В некоторых приходах – несколько жалоб, но до суда не доходило. Родителям угрожали, требуя забрать заявления, иначе им откажут в святом причастии, детей не примут в католическую школу и вообще устроят веселую жизнь. О собственном магазине им лучше забыть, ибо никто не станет покупать у тех, кого заклеймили священники.
– Об этом мне ничего не известно, – хмуро отозвался кардинал.
– Знаете, что это напоминает? – Голос Скотта был ровен и спокоен. – Мафию. Запугивание, шантаж, вымогательство. Читаешь, до чего докатилась Церковь, и как будто смотришь «Клан Сопрано». Вы это понимаете? Если б марсианин ознакомился с докладом Мёрфи, он бы решил, что ради защиты интересов Церкви вы с вашими дружками ни перед чем не остановитесь. И неважно, кто при этом пострадает.
– По-моему, это нелепое утверждение, Лиам, – сказал кардинал. – При всем уважении, вы опошляете нечто весьма серьезное.
– Но ваши подчиненные угрожали родителям, – не сдавался Скотт. – Либо они действовали по вашим приказам и приказам церковных верхов, и тогда вы полностью виновны как соучастник преступного заговора, либо все происходило без вашего ведома, и тогда вы просто ротозей, не достойный занимать ответственный пост. Такая оценка справедлива?
И вновь кардинал решил вырыть себе могилу поглубже:
– Если б я искал справедливости, неужели я бы пришел к вам на передачу? Ведь вы, журналисты, не вполне беспристрастны, верно?
Скотт среагировал молниеносно. Зубы у него прорезались в дебатах с премьерами типа Чарли Хоги и Гаретта Фицджеральда, и за двадцать лет он отточил их в стычках с политиками вроде Берти Ахерна и Джерри Адамса, а потому за словом в карман не лез. Ему бы в адвокаты – Церковь наняла бы его мгновенно.
– Вы хотите сказать, все это журналистские выдумки? – спросил Скотт. – Все иски состряпала «Айриш таймс»? Или «Айриш индепендент»? Может, ТВ-3? Или «Тудей ФМ»? «Ньюс-ток»? Может, все ирландские средства массовой информации? Вы обвиняете нас?
– Нет, Лиам, нет. – Кардинал струхнул. – Вы меня не так поняли.
– Вы со своими подельниками-епископами переводили растлителя Тома Кардла из прихода в приход, потому что знали о его преступлениях?
– Знай мы о них, так, пожалуй, и поступили бы. Или лучше было бы его не трогать, что ли?
Господи помилуй! Я покачал головой. Да замолкни ты, наконец!
– Лучше было бы известить полицию! – Впервые Скотт возвысил голос.
– Конечно, конечно. Что мы и сделали. В свое время.
– Вы этого не сделали. Полиция вас известила.
– Перестановка слагаемых.
– Неужели все это вас не возмущает? – спросил Скотт, и только сейчас я отметил, что он ни разу не назвал собеседника «вашим святейшеством».
– Разумеется, возмущает, – помолчав, сказал кардинал. – Я же не идиот.
– И вы понимаете, почему церковники вызывают такую злобу?
– Вот это мне трудно понять, – тихо ответил Кордингтон, и я наконец уловил искренность в его голосе. – Я думал об этом, Лиам. Еще бы не думать. Я честно пытался понять. Я вовсе не такое чудовище, каким меня представляют ваши коллеги. Но я не понимаю. Не понимаю, как любой человек, не говоря уже о священнике, может на этакое сподобиться. И я гадаю, когда мир так переменился. В моем детстве ничего похожего не могло случиться ни со мной, ни еще с кем-то. Священники были очень достойные люди. – Он потерянно вздохнул, и меня даже кольнула жалость к нему. – Признаться, порой мне кажется, что я заснул в одной стране, а пробудился совсем в другой.
– Народ считает, вы обо всем знали, но покрывали злодейства.
– Нет, народ ошибается.
– Предположим, вы знали о злодеяниях Тома Кардла и оттого переводили его с места на место. – Скотт попробовал зайти с другого боку. – Согласитесь, что тогда вы превращаетесь в соучастника преступлений.
Кардинал задумался.
– Я не могу вам ответить.
– Почему?
– Ваш вопрос затрагивает юридическую сферу, в которой я не силен.
– Скажите, перевод священника документально оформляется епископом или требуется одобрение начальства?
– Вообще это прерогатива епископа, – сказал кардинал. – Но затем бумаги идут на подпись к примасу Ирландии. Вот сейчас я подписываю документы, полученные от епископов. Но это чисто бюрократический момент. Примас подмахнет любое перемещение, предложенное епархией. Нет причин возражать.
– И далее оповещают Рим о новых назначениях?
– Да, конечно.
Скотт выдержал паузу.
– Следовательно, папа знал обо всех переводах и преступлениях, утаенных от полиции? Он был в курсе всего?
– Пожалуйста, проявите хоть каплю уважения, Лиам. Папа умер и не может за себя постоять.
– Ему докладывали о преступлениях?
– Кто знает.
– Он одобрял перемещения?
– Не ведаю.
– Он понимал, что происходит?
– Не могу вам сказать.
– Если знал, он, выходит, по уши виновен. И был, если угодно, мозгом операции. Этаким главарем банды. И тогда он всех гаже.
Кардинал ахнул. Я тоже. Невероятное заявление. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу подобное по национальному радио. Не потому, что это была правда. Я не верил, что найдется журналист, кому хватит духу ее сказать.
После таких слов оставалось только принимать звонки в студию. Следующие полчаса были вполне предсказуемы: одни говорили о своем отвращении к банде преступных извращенцев, заговором молчания отгородившихся от людей, другие поносили лопавшиеся от ненависти радиостанции и газеты, которые вознамерились уничтожить Церковь и которым хватало наглости оскорблять досточтимого кардинала Кордингтона. Позвонил один потерпевший, он говорил спокойно и разумно: пятнадцать лет назад его отец заклинал кардинала, тогда еще епископа, расследовать то, что он узнал от своего мальчика, но безрезультатно. Кардинал ответил, что этого не помнит, хотя, конечно, тогда ничего не предпринял.
Час программы истекал, приближалось время новостей. Скотт поблагодарил кардинала за беседу, и тот ответил, что всегда рад обратиться к народу, в голосе его слышалось облегчение, что единственное в его жизни судилище наконец-то завершилось. Однако Скотт успел задать последний вопрос:
– Вас совесть не мучит? Вам хоть чуть-чуть стыдно за все, что натворила ваша Церковь? Бесконечная череда насилий, преступное замалчивание, исковерканные и оборванные жизни. Раскаяние в вас даже не теплится?
– Во мне теплится лампада Святого Духа, – ответил кардинал. – И твердая вера, что пути Господни неисповедимы.
Спокойной ночи. Я выключил радио и занялся своими делами. Больной неизлечим.
Уже перевалило за полдень, когда самолет приземлился в аэропорту Гардермуэн в тридцати милях от Осло. В иллюминатор я увидел фьорды и одинокую моторку – разрезая водную гладь, она оставляла шлейф дыма, устремлявшийся к городу. Я получил свой багаж и огляделся в поисках указателя выхода к железнодорожной платформе. Вспомнилось, как тридцать лет назад меня встречала делегация Рамсфйелдов, прибывшая на машине, этаком продукте зари автомобилизма, и тот сплошной кайф, каким стала наша двухчасовая поездка в Лиллехаммер. Кристиан приехал с дядюшкой и двумя кузенами, Эйнаром и Свейном.
Помню, я все поглядывал на Свейна, пытаясь разгадать в нем некое знание о мире, которого сам я лишен. Я ему слегка завидовал.
В дорогу дядя Олаф взял две бутылки водки «Викингфьорд», которые мы опустошили и в Лиллехаммер прибыли маленько расхлябанные. Ханна уже неделю жила в доме жениха и, увидев, как мы, глупо хихикая, вываливаемся из машины, принялась нас шпынять: как так можно, а если б авария? Но вот же мы, целые и невредимые.
Сейчас я ехал один и, откинувшись на удобном вагонном сиденье, смотрел на пейзаж, проплывавший за окном. Мне было хорошо и спокойно, хотя я знал, что по мере приближения к цели моего путешествия покой начнет пропадать.
Ни на миг не исчезавшее море и безмятежные лесистые холмы, на которых кое-где угнездились деревеньки, меня завораживали. Продолговатые скирды сена, укрытые белой пленкой, напоминали мороженое, выставленное подтаять на полуденном солнце. Ничего удивительного, что Кристиан всю жизнь мечтал сюда вернуться.
На полпути поезд сделал остановку в Тангене, где вышли несколько человек из моего вагона. Новыми пассажирами стали женщина лет тридцати и ее сын, белоголовый малыш лет семи, не больше, словно сошедший с рекламы норвежского туристического агентства. Они сели рядов через шесть от меня; сперва мальчик устроился рядом с матерью, потом перебрался на сиденье напротив нее, а затем, послонявшись по вагону, подсел ко мне. Не обращая на него внимания (здесь вам не Ирландия, народ не осатанел от страха), женщина через наушники слушала музыку и листала газету.
– Хей! – широко улыбнулся малыш.
– Привет, – ответил я, тотчас встал и через вагоны прошел в хвост поезда, где сел на свободное место у окна.
Вот как теперь я поступаю. Не рискую.
В половине пятого я уже был в Лиллехаммере. Оставив чемодан в камере хранения, я развернул карту и освежил в памяти заранее выписанный маршрут.
Разумна ли моя затея? – думал я. Или это очередная ошибка?
Путь был неблизкий, более получаса ходу, но я хотел собраться с мыслями и зашагал к домам на вершине холма, у подножия которого раскинулся музей под открытым небом Майхауген. В тот приезд Эйнар и Свейн водили меня знакомиться с норвежским историко-культурным наследием: гумна, деревянные церкви, юноши и девушки в нарядах девятнадцатого века. Петлистая дорога бежала вдоль ухоженных садов и посадок деревьев, служивших границей меж соседями, а потом за очередным поворотом я увидел коричневого кинг-чарльз-спаниеля, что-то вынюхивавшего на лужайке перед воротами; пес взглянул на меня, и я вдруг понял, что добрался до места.
В компании спаниеля, радостно трусившего следом, я прошел по подъездной дорожке мимо машины, припаркованной перед домом. Меня будто кольнуло, когда я заметил в ней детское сиденье.
В ответ на мой звонок в доме залаяла еще одна собака, и женский голос на нее прикрикнул на неведомом мне норвежском. Потом женщина открыла дверь и, увидев незнакомца, чуть нахмурилась – вероятно, приняла меня за торговца, или свидетеля Иеговы, или предвыборного агитатора.
– Хей, – сказала она. Мой провожатый шмыгнул в прихожую, но почти сразу вернулся с пластмассовым кроликом в зубах, которого гордо мне продемонстрировал. Второй пес, тоже кинг-чарльз, притопал к порогу и зевнул.
– Здравствуйте, – ответил я.
Женщина тотчас перешла на английский:
– Что вам угодно?
– Здесь живет Эйдан Рамсфйелд?
– Да.
– Если можно, я бы хотел с ним поговорить.
– Он еще не вернулся. Вот-вот будет. А вы…
– Одран Йейтс, – сказал я. – Его дядя.
Женщина удивленно приоткрыла рот.
– Ах так. Ну ладно. Эйдан знает о вашем приезде? Он ничего не говорил.
– Нет, не знает. Для меня самого это как-то неожиданно решилось. Дай, думаю, съезжу, вдруг застану, если он не укатил в отпуск.
– В отпуск? – рассмеялась женщина. – Это была бы неслыханная удача. – Она отступила, пропуская меня в дом, и на столике в прихожей я заметил докторский саквояж, явно принадлежавший хозяйке.
Мы помолчали, разглядывая друг друга.
– Извините, я не представилась. – Женщина протянула руку: – Марта. Жена Эйдана.
– Одран.
– Да, вы сказали. Пожалуйте в дом.
Следом за ней я прошел в большую гостиную, где на стене висел недурной пейзаж. А ведь я уже видел эту реку, вот только где? Может, нынче проезжал в поезде?
– Вам нравится? – спросила Марта, заметив мой взгляд. – Мост Систо в Риме. Там мы провели медовый месяц. Я купила на память.
– Да, нравится, – сказал я, охваченный воспоминаниями. Я отвернулся от картины и увидел двух ребятишек, рассматривавших меня, – мальчика лет четырех и девочку примерно двух лет.
– Дети, это Одран, – сказала Марта. – Он папин… – Она замялась и повторила: – Одран. А это Мортен и Астрид.
– Здравствуйте, – сказал я.
– Хей! – хором крикнули брат с сестрой. Я улыбнулся. Прелестные малыши.
– Что вам показывают по телику? – спросил я.
Мортен выдал длинную цепь норвежских слов, подкрепленных жестами; закончив, он глубокомысленно кивнул и вновь уставился в телевизор.
– Круто. – Я покачал головой и обратился к Марте: – Извините, что явился без уведомления.
– Ничего, – сказала она. – Хотите чаю?
Кухня блистала чистотой, хоть готовка ужина была в самом разгаре.
– Ничего не случилось? – спросила Марта. – Ханне не хуже?
– Нет-нет, все в порядке.
– Как Джонас?
– Насколько я знаю, прекрасно. Он, кажется, в Гонконге.
– Везет ему. Садитесь, пожалуйста.
Я сел, через минуту-другую Марта поставила передо мной чашку с чаем. Я прихлебывал чай, не зная, о чем говорить.
– Ну вот. – Марта села напротив.
Зачем я здесь? – подумал я. У нее хороший дом, семья, двое чудесных обласканных детей, пара дружелюбных собак. На кой черт я притащил всю эту боль к ее порогу?
– Наверное, я пойду, – сказал я. – Не хочу вам мешать.
– Вы не мешаете. Ничуть.
– Понимаете, я должен был приехать. – Груз прошлых лет давил все сильнее. – Мне надо с ним увидеться. Объяснить.
– Что – объяснить?
Я посмотрел ей в глаза и покачал головой. Если у меня нет слов для нее, как же я собираюсь говорить с ним?
На лицо ее набежала тень, стерев улыбку. Марта хотела что-то сказать, но в двери скрежетнул ключ, и я вскочил, объятый страхом, что наступает момент, который я, возможно, не переживу. Марта негромко окликнула мужа. Эйдан шел в кухню.
– Что за день! – говорил он. – Эйнар затянул с накладными, а когда все же закончил, взял и…
На пороге он смолк, а на меня обрушилось многолетнее нагромождение лжи и обмана, страданий и жестокости, к которым и я приложил руку, ибо кто, как не я, оставил племянника на растерзанье упырю?
Меня скрутило болью, я рухнул на стул и зашелся в рыданиях.
– Прости… – давясь словами, выговорил я вместо приветствия. – Я не знал… клянусь… пожалуйста, прости… я не знал… – Голос мой осекся, я стал бесформенной кучей из слез, слюней и соплей, Марта, пораженная разыгравшейся сценой, зажала рукой рот, а Эйдан, добрый человек, стократ лучше, чем все они вместе взятые, поставил сумку на пол, подошел ко мне и, обняв за плечи, притянул к себе.
– Перестань, дядя Оди, – сказал он. – Не плачь. А то я сам заплачу, и меня уже не остановишь.
Через два дня мы встретились в Осло, в тот вечер вскоре я покинул дом племянника. Когда эмоции немного улеглись, возникла напряженность: Эйдан, уставясь в пол, молчал, Марта поддерживала светскую беседу, и я стал прощаться.
– Я свалился как снег на голову, – сказал я. – Надо было, конечно, уведомить о моем приезде. Может, как-нибудь на днях свидимся, если надумаешь?
От работы на воздухе лицо Эйдана загорело и обветрилось, трехдневная щетина как будто замерла в своем росте. У него глаза Кристиана, думал я, а взгляд точно как у Ханны, когда она посматривает украдкой. Малыш-весельчак бесследно сгинул, превратившись в стопроцентного мужика.
– Ты надолго приехал? – наконец спросил Эйдан.
– Пробуду, сколько надо, – сказал я. – Номер в отеле забронирован на несколько дней, но если ты скажешь: «Вали в свой Дублин», я так и сделаю.
Эйдан только невозмутимо кивнул. Я глянул на Марту, но она явно не собиралась вмешиваться.
– Я оставлю свои координаты. – На листке я записал адрес отеля. – Позвони, если захочешь поговорить.
На том мы и распрощались.
На другой день я гулял по городу, рассеянно осматривая достопримечательности и разглядывая молодых путешественников, обладателей европейского железнодорожного билета. Интересно, думал я, каково было бы вновь стать двадцатилетним сейчас, в 2012-м, когда все вокруг иное? Но потом отогнал эту мысль, сулящую одно расстройство. К вечеру я зашел в собор и поставил свечку перед деревянным изваянием Мадонны с Младенцем, а вернувшись в гостиницу, получил сообщение от Эйдана: завтра по делам он будет в Осло и, если мне удобно, в семь вечера мы могли бы встретиться в баре в районе Акер-Брюгге.
Когда на следующий вечер я разыскал этот бар, Эйдан уже был там – за пивом просматривал спортивный раздел газеты. Заметив меня, он чуть улыбнулся:
– Непривычно видеть тебя в обычной одежде. Я помню тебя только в униформе.
– Распахнутый воротничок мне не идет, – отшутился я.
– Пиво будешь?
– Буду.
Эйдан помахал официанту, и я обрадовался прибытию высоких стаканов. Во рту у меня пересохло, а пиво давало отсрочку, чтобы немного прийти в себя.
– Твоя Марта, похоже, классная, – сказал я.
– Да.
– Она врач?
– Педиатр, – кивнул Эйдан. – У нее своя практика в Лиллехаммере.
– Но это не с ней ты когда-то давно жил в Лондоне?
– Нет, там все закончилось. С Мартой я уже здесь познакомился.
– А сам чем занимаешься?
– Владелец строительной компании. Вернее, совладелец. На паях с кузеном Эйнаром.
– Я его помню, – сказал я. – По свадьбе твоих родителей.
– Нет, на свадьбе был его отец. Эйнару всего двадцать. Он Эйнар-младший.
– Понятно. По дороге из аэропорта мы с твоим отцом, Эйнаром и Свейном напились водки. Приехали тепленькие. Как поживают Эйнар и Свейн?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.