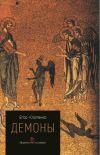Текст книги "История одиночества"

Автор книги: Джон Бойн
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Я помотал головой, хотя прекрасно знал.
– Твоя мама считает, нам надо кое о чем поговорить. Ты не против, нет? Согласен поговорить со мной?
– Конечно, отче.
– Я, знаешь ли, тоже когда-то был мальчиком, не смейся (я и не смеялся). Я понимаю, каково быть подростком. Сейчас у тебя нелегкое время. Уроки, учеба. Ты растешь. И кроме того, есть всякие… скажем так… отвлечения.
Я молчал. Решил, что не пророню ни слова и отвечу лишь на вопросы в лоб. Пусть он говорит, что считает нужным, я буду слушать, и только.
– Бывает, что ты отвлекаешься, Одран? – спросил пастор. Я шумно сглотнул и пожал плечами. – Отвечай, мальчик.
– Иногда, – сказал я.
– И на что отвлекаешься?
– Ну так, не могу сосредоточиться. – Я старался угадать с ответом. Вдруг вспомнились минуты ожидания субботней исповеди, когда я не столько выискивал свои истинные грехи на прошедшей неделе, сколько измышлял проступки, которые устроят священника. Ругнулся. Надерзил маме. Ни с того ни с сего швырнул камнем в мальчика.
– А что тебе мешает сосредоточиться, Одран? – Пастор озабоченно подался вперед: – Расскажи. Все останется между нами. Маме я не передам. Твои слова не выйдут дальше этой комнаты. Что мешает сосредоточиться?
Я понимал, какого ответа он ждет, но не мог заставить себя говорить на слишком постыдную тему.
– Телик, – сказал я. Вроде ответ не хуже любого другого.
– Телик?
– Да.
Пастор задумался.
– Ты много смотришь телевизор, Одран?
– Да, – признался я. – Мама говорит, чересчур много.
– Она права?
– Не знаю.
– И что ты смотришь, Одран?
– Что показывают.
– Ну например? Назови свою любимую передачу.
– «Вершина популярности».
– Так. По-моему, это музыкальная передача?
– Да, отче.
– Ты любишь музыку?
– Люблю, отче.
– А кто тебе нравится? Какие исполнители?
– «Битлз».
– Я слышал, они распались.
– Да, – сказал я. – Но они опять соберутся. Все так говорят.
– Хорошо бы, конечно. Кто еще тебе нравится?
– Элтон Джон. Дэвид Боуи.
– Еще кто-нибудь?
– Сэнди Шоу.
– Кажется, я ее знаю, – обрадовался пастор. – Она выступает босиком, да?
– Да, отче.
Помолчав, отец Хотон сглотнул, на его тощей шее дернулся кадык.
– И тебе это нравится, Одран? Любишь смотреть на ее босые ноги?
Я пожал плечами и отвел взгляд:
– Не знаю.
– А по-моему, знаешь.
– У нее есть хорошие песни.
– Вот как? Однажды я ее видел по телевизору. На конкурсе Евровидения. Ты смотришь этот конкурс, Одран?
– Да, отче.
– Ты видел ее выступление?
– Видел, отче. Это было несколько лет назад.
– И что скажешь?
– Она спела классно.
– Хочешь знать, что я о ней думаю?
– Да, отче.
– Сказать?
– Да, отче.
– На мой взгляд, она грязная девка. – Пастор еще больше подался вперед: – Из тех, у кого ни стыда ни совести. Выставляет свои прелести напоказ всему свету. Кто на такой женится, скажи на милость?
Я покачал головой:
– Не знаю, отче. – Мне захотелось, чтобы он ушел.
– И таких немало, ты согласен? Этих грязных девок. Я сам вижу бесстыдниц, что нагло разгуливают по городу. Во что превратился наш приход! На воскресную службу они являются в таких нарядах, что мне кажется, будто я заснул в Чёрчтауне, а проснулся в Содоме и Гоморре.
– Разом в обоих, отче? – рискнул я спросить.
– То есть в Содоме или Гоморре. Решил пошутить, Одран?
– Нет, отче.
– Надеюсь. Ибо сейчас не до смеха. Ой не до смеха. Речь идет о твоей душе. Ты это понимаешь? О твоей бессмертной душе. Сидишь тут, прикидываешься ангелочком, а сам мечтаешь удрать к телевизору, чтобы пялиться на грязных девок! Так, Одран, да? Смотри мне в глаза!
Я медленно поднял голову, и пастор вместе со стулом придвинулся ближе.
– Ты ужасный, правда? – тихо спросил он. – Такое личико… – Пастор вздохнул и ласково погладил меня по щеке. – Я знаю, ты борешься. Все мы боремся. Я здесь, чтобы помочь тебе в твоей борьбе, милый мальчик. – Сложив руки на коленях, он сверлил меня взглядом и долго молчал. – Мама рассказала мне, что у тебя было с той англичанкой.
– Ничего не было, отче! – крикнул я, но он вскинул руку, приказывая замолчать:
– Не лги мне. Твоя несчастная опозоренная мать все рассказала. Подумать только, как ты поступаешь с семьей, которая отдавала тебе все самое лучшее. Мало бедной женщине того, как сгинул твой отец? Мало ей, что с собой он забрал невинного мальчугана? Та к что нечего врать, будто ничего не было. Я этого не потерплю, слышишь?
– Да, отче, – промямлил я, испуганный его громким пронзительным голосом.
– Ты мне расскажешь, что у тебя было с той грязной англичанкой. Говори, что ты с ней вытворял.
Я сглотнул, подыскивая слова.
– Она захотела посмотреть мою комнату.
– Ну еще бы. И что там она делала?
– Разглядывала книги. Скрипку. Плакаты.
– Она тебя соблазняла?
– Простите?
– Она соблазняла тебя, Одран? Не прикидывайся, будто не понимаешь.
Я кивнул.
– Ты ее целовал?
Я снова кивнул.
– Тебе понравилось?
– Я не знаю.
– Не знаешь?
– Нет.
– А если подумать?
– В общем, понравилось.
Пастор шумно засопел и поерзал на стуле. Худое лицо его раскраснелось.
– Что было потом, Одран? Она что-нибудь тебе показала?
Я мысленно взмолился, чтобы он от меня отстал.
– Наверное, свои маленькие груди?
Я заметил, какие у него желтые зубы. Он их когда-нибудь чистит?
– Она показала тебе свои груди, Одран? Просила, чтобы ты их потрогал?
Желудок мой куда-то ухнул. О чем он спрашивает?
– Нет, отче.
– А она тебя трогала? Трогала вон там? – Он кивнул на мою промежность. – Расскажи, что она делала? Трогала тебя? А ты себя трогал? Ты показал ей, что у тебя есть? Ты же скверный мальчик, да? Конечно, скверный. Наверное, чем только не занимаешься в этой комнате, а? Один в темноте. Когда рядом никого. Ты занимаешься скверностью, Одран? Давай расскажи.
Я заплакал. Комната кружилась, я думал, что сейчас упаду в обморок. Отец Хотон еще что-то говорил и говорил, но я его почти не слышал. Он подсел ко мне на кровать, обнял и притянул к себе и зашептал в ухо, что грязные девки хотят совратить всех милых хороших мальчиков, что нам надо быть сильными, верить друг в друга и искать утешение в тех, кого мы знаем и кому доверяем, а он мой друг и я всегда могу ему довериться, ведь ничего страшного не случилось, я просто немного пошалил. Потом я, наверное, и впрямь упал в обморок, а когда очнулся, то лежал на кровати, комната была пуста, дверь закрыта.
Со стены ухмылялся Плуто, непристойно вывесив язык, – казалось, он хочет меня слизнуть и живьем проглотить; я вскочил с кровати, в клочья изорвал треклятого пса и затолкал обрывки плаката в мусорную корзину. Потом опять сел на кровать и надолго задумался. Я все разложил по полочкам: одно – сюда, другое – туда, где оно и хранилось многие годы. Затем в ванной умылся, спустился в кухню и увидел, что мама сидит за столом и плачет.
– Что с тобой, мам? – спросил я.
– Я счастлива, Одран. – Мама подняла на меня заплаканные глаза. – Вот и все. Я счастлива. Отец Хотон подтвердил, что я не ошиблась: тебе предназначено стать священником. Ты ему это сказал, Одран? Сказал, что хочешь быть священником?
Я, почти что несмышленыш, стоял возле плачущей мамы. В потоке воспоминаний о том времени всплывает множество мелких деталей, но я хоть убей не помню, что я тогда ответил. Знаю только, что вскоре автобусом я прибыл в Клонлиффскую семинарию, куда Том Кардл добрался на папашином тракторе.
Что сталось с отцом Хотоном? Ну, через пару недель он погиб. Направляясь в парк Святого Стефана, переходил Доусон-стрит, но не посмотрел по сторонам и стал уже не первой жертвой автобуса одиннадцатого маршрута, спешившего в Драмкондру[20]20
Район в Дублине, к северу от центра.
[Закрыть].
На похоронах его были толпы людей. Толпы.
Глава 6
2010
Помни, это не навечно, и не тревожься. Всего несколько лет. А потом я верну тебя в твою школу, обещаю.
Та к в 2006-м говорил архиепископ, а сейчас уже, конечно, кардинал Кордингтон, когда я прибыл на аудиенцию в Апостольский дворец. С тех пор минуло четыре года, но я по-прежнему служил викарием в бывшем приходе Тома Кардла, и ничто не предвещало возвращения в любезный моему сердцу Эдем. Все мои ученики окончили школу и теперь сидели в аудиториях Тринити-колледжа, или по евробилету, запрятанному в рюкзак, катили в поезде «Париж – Берлин», или служили в папенькиных банках и агентствах недвижимости, гадая, будут ли здесь прозябать до рождения собственных сыновей, преемников семейного бизнеса.
Один парень, его я помнил смутно, погиб – по автостраде М50 пьяный летел в Дун-Лэаре[21]21
Пригород Дублина.
[Закрыть] и угробил себя, свою подружку, ее сестру и сестриного приятеля. Похороны состоялись в теренурской церкви, и священник, тот самый отец Нгезо, четыре года назад занявший мое место, проникновенно говорил о приверженности покойного ленстерскому регбийному чемпионату, что, вероятно, было слабым утешением для трех убитых горем семей, чьи жизни разбились вдребезги. Другой парень вышел в финал телевизионного конкурса талантов, и о нем трубили все газеты, суля, что с хорошим продюсером в ближайшие годы он заработает миллионы. Еще один парень был арестован – на дискотеке изнасиловал девушку; он утверждал, что ничего не было, но я, помня развязность и хамство, какие он насаждал в своем привилегированном окружении, сомневался в невиновности этого павлина. Я внимательно следил за ходом судебного разбирательства и порадовался, что меня не вызвали охарактеризовать подсудимого. Парня признали виновным, но папаша его, разумеется, нажал нужные кнопки, и тот даже дня не отсидел в тюрьме. Судья заявил, что парня ожидало блестящее будущее и было бы жаль лишить его еще одного шанса; приговор – общественные работы. Сто часов. Вот вам разница между преступлениями, совершенными на южном и северном берегах Лиффи. На другой день первые страницы газет пестрели снимками ухмылявшегося парня и несчастной изнасилованной девушки, в слезах покидавшей здание суда. Хотелось взять канистру бензина, спички и пройтись по всем этим школам за высокими оградами, где на подобного сорта ублюдков молятся только потому, что однажды они прорвались через сто сорок метров регбийной лужайки и приземлили мяч за белой линией.
Те м не менее я скучал по всему этому. И ужасно хотел вернуться.
Я боялся представить, в каком состоянии сейчас библиотека, моя библиотека. Книги не на своих местах, все разделы смешаны. Нынче все уверяют, что страдают модным недугом, неврозом навязчивых состояний, но я-то определенно был ему подвержен, когда дело касалось обустройства моей библиотеки. Вечерами школьники разбредались по домам, а я получал истинное наслаждение, прибираясь в читальном зале, расставляя все по своим местам. Так я отдыхал. И теперь тщеславно думал, что новый библиотекарь наверняка не оценил мою любовь к порядку.
А мне пришлось свыкаться с приходской жизнью, отдельные стороны которой – скажем, пасторские – все больше и больше нравились. Моя связь с Господом крепла, чего вовсе не было в школе. Молитва для меня стала важнее порядка в книгохранилище. Больше времени я уделял себе и размышлениям о причинах, по которым счел себя пригодным для церковного поприща. Долгие часы я проводил с Библией, пытаясь пробиться к пониманию ее смыслов. Я думал о нашей Церкви – о том, что вызывало гордость за нее и что тревожило. Благодаря всему этому я ощущал себя человеком лучше и достойнее, но эгоистически тосковал по своей прежней жизни.
В общине нас было трое – пожилой приходский священник отец Бёртон, тихий, преданный делу трудяга, и мы, его помощники, отец Каннейн и я. Отец Бёртон жил отдельно, компанию ему составляла лишь экономка – внушительная женщина, опекавшая его, точно ребенка; она стирала, готовила и с властностью швейцарского гвардейца отваживала незваных гостей. Мы с отцом Каннейном, лишенные подобной роскоши, соседствовали в двух скромных помещениях церковного флигеля. Не скажу, что мы ладили, и, уж поверьте, моей вины в том нет. Отец Каннейн был моложе меня, лет тридцати с хвостиком, и хотел говорить лишь о регби и футболе, боксе и скачках. На мой взгляд, он бы лучше справился с ролью спортивного репортера «Айриш таймс», нежели викария в Северном Дублине, а его, в свою очередь, раздражала необходимость бок о бок работать с человеком на двадцать лет старше и позорно несведущим в захватывающей спортивной жизни.
– Как это вы не знаете, кто такой Рафа Надаль? – изумлялся он, перед тем испросив мое мнение, удастся ли кому-нибудь перещеголять Роджера Федерера в титулах, добытых на турнирах Большого шлема. – Он знаменит на весь мир.
– Он футболист? – Я валял дурака, ибо прекрасно знал, кто такой Надаль, но досада коллеги меня забавляла. И потом, нечего выпендриваться – видали, «Рафа». Друзья они, что ли? – Играет за «Манчестер Сити»?
– За «Манчестер Сиси». – Каннейн любил ввернуть словцо, которое, он считал, меня покоробит. – Надаль – теннисист. Испанец.
– Ну и ладно.
– И вы, значит, о нем не слышали?
– Я плохо разбираюсь в теннисе, – сказал я. – Вот мой племянник Эйдан – ярый болельщик «Ливерпуля». Во всяком случае, был им в детстве.
Я понятия не имел, чем сейчас интересуется Эйдан, поскольку не видел его десять лет, прошедших с похорон Кристиана, на которых он сидел бесчувственным букой, хотя был близок с отцом. В тот день он без конца величал меня «отче», и в тоне его слышалось презрение, меня огорчавшее, ибо я не сделал ему ничего дурного. Этакую грубость я оправдал его тогдашним состоянием. В последующие годы я неоднократно пытался восстановить наши отношения, но безуспешно, и теперь даже не знал, работает ли он по-прежнему на лондонских стройках.
– «Ливерпуль»? – процедил отец Каннейн, весь скривившись, точно проглотил отраву. – Нынче 85-й год, что ли? «Ливерпулю» давно кранты. Ему вовек не подняться.
Уроженец Уэксфорда, то бишь земляк Тома Кардла, по какой-то необъяснимой причине он был страстным поклонником «Вест Хэм Юнайтед», причем любовь его граничила с религиозным исступлением. Стены его квартирки были увешаны портретами футболистов, а сам он, точно подросток, разгуливал в красно-синем шарфе. Родился он в округе Феррикерринг – это милях в десяти от того места, где мой отец свел счеты с жизнью. Как-то раз подвыпивший Каннейн рассказал мне о своих детских и юношеских годах: в соревнованиях по троеборью он победил в плавании, потом учился на инженера в Лимерикском университете, но бросил его и стал студентом философского факультета в Мэйнуте, а в двадцать два года, получив божественный знак, поступил в семинарию.
– А в чем выразился этот божественный знак? – спросил я.
– Однажды я бродил по Синноттскому холму и вдруг узрел неопалимую купину, а потом разверзлись облака и раздался глас Божий, изрекший: «Слушай, будь другом, ступай в священники». – Каннейн помолчал, наслаждаясь моей ошалелостью, расхохотался и ткнул меня в плечо: – Да шучу я, Одран! Ничего, что я вас по имени? Когда мы вдвоем, можно без церемоний, а? Ладно, расскажу, если угодно. По правде, я думать не думал о священстве. В детстве даже не был служкой. Конечно, родители водили нас на мессы – куда денешься, иначе ни один покупатель не заглянул бы в их магазин, – но для них и меня это было просто традицией. Не скрою, в юности я был бабником и выпивохой, мне в голову не приходило стать священником. Но вот что случилось. Мой брат Марк, старше меня ровно на год, разбился на мотоцикле. В уэксфордской больнице его подключили к реанимационному аппарату. Никто не знал, выкарабкается он или нет. Врачи не могли сказать, сохранилась ли мозговая активность. Мы с Марком всегда были очень близки, дико близки, и вот когда дела стали совсем плохи, сижу я в больнице, напрочь раздавленный, а потом дай, думаю, зайду в церковь, хуже не будет. Ну, пришел, встал на колени и попросил Его, чтобы вернул нам Марка живым и здоровым, а уж я тогда сделаю для Него что угодно. И что-то я почувствовал, Одран. Внутри меня что-то шевельнулось, ей-богу. Где-то глубоко-глубоко. И тут я понял: если хочу, чтоб мне вернули брата, я должен навсегда завязать с бабами и посвятить себя служению Господу. В больницу я вернулся как будто заново рожденный.
– И как ваш брат? – История меня заинтриговала, поскольку сам я не пережил подобного откровения; мне просто сказали, что я предназначен к служению, и я даже не пытался это оспорить. – Он поправился?
– Нет, умер, – покачал головой Каннейн. На лице его промелькнула тень непреходящей боли. – Это было ужасно. Бедняга скончался. Но я не мог взять назад свое слово. И я не винил Его в том, что случилось. То, что во мне шевельнулось, оно никуда не делось, а потому я отправился к епископу Фернсскому и спросил, как мне быть. Он дал мне номер телефона, и вот через десять лет я здесь. Что скажете?
Что тут скажешь? Все мы пришли к служению разными путями. И не мне их обсуждать.
– Как вы считаете, Одран, – помолчав, спросил Каннейн, – кто нынче станет чемпионом в «Формуле-1» – Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель?
По сравнению с Теренуром, где все подчинялось строгому учебному расписанию и лишь во время каникул персонал себя чувствовал капельку вольготнее, моя приходская жизнь была разнообразнее, что казалось преимуществом.
На неделе я встречался с прихожанами и занимался административной работой. Если на выходные намечалась свадьба, готовился к венчанию, а перед тем, господи ты боже мой, давал наставление в супружеской жизни. Случалось, какой-нибудь старик захворает и я его навещал на дому; приходилось соборовать или помолиться за душу того, кто был при последнем издыхании или медленно угасал от недуга. По пятницам распределялись мессы между служками, а вторники я приберегал для своих непременных еженедельных поездок. Коллеги мои о них не знали и даже не интересовались, куда это я исчезаю.
По вторникам я садился в автобус (это было удобнее, чем ехать машиной), который останавливался неподалеку от лечебницы Ханны, и около часа проводил с сестрой, то и дело выпадавшей из реальности. Она могла вспоминать события из нашего детства, не упуская ни одной самой мелкой детали, а потом вдруг начинала рассказывать о женщине, вместе с которой мотала срок в тюрьме Маунтджой, хотя ни разу в жизни не имела дела с полицией. Или могла спросить, ждет ли в коридоре премьер-министр, мол, она получила документы, о которых он просил. Ты уселся прямо на них, Одран, встань, а то изомнешь! С Джонасом мы договорились, что вдвоем нет смысла навещать Ханну, поэтому он приезжал по средам и субботам, если не отлучался на встречу с читателями или какой-нибудь литературный фестиваль, что, на мой взгляд, происходило излишне часто и вряд ли шло ему на пользу.
Однако нынче была среда, а значит, не нужно ехать к сестре, чтобы вытаскивать ее из омута помраченного сознания. На сегодня у меня намечалась встреча с прихожанкой Анной Салливан. Я был с ней немного знаком – она и еще три женщины, тоже не первой молодости, ухаживали за цветами и после утренней мессы пылесосили в церкви. Недавно она отвела меня в сторонку и спросила, нельзя ли на неделе со мной повидаться, и я, разумеется, ответил согласием. Было заметно – что-то ее беспокоит.
– Можно я с собой прихвачу Эвана? – сказала она.
– Кого?
– Сына своего.
– Ах да. – Я смутно припомнил парня лет шестнадцати, кого, наверное, силком тащили на субботние службы и кто, скорее всего, через год-другой вообще не появится в церкви. – Конечно, конечно.
– И еще мужа моего Шона.
– Как он поживает? Что-то его не видно на службах.
– Сейчас не до этого, отче. Есть дело поважнее.
– Что ж, буду рад помочь, если смогу. В среду в четыре вас устроит?
Она кивнула; я видел, как ей нелегко признаться в семейных неурядицах, и от души надеялся, моих возможностей хватит, чтобы помочь в ее бедах.
– Что вам принести, отче? – спросила Анна.
– Не понял?
– Может, печенюшки? Шоколадные любите?
Я еле удержался от смеха:
– Нет-нет, спасибо, Анна. Сами приходите, и все. Если оголодаем, печенье у меня найдется.
– Ну ладно, – сказала она и поспешила прочь.
Разумеется, дверной звонок звякнул точно в означенное время, и на пороге возникла Анна Салливан в выходном платье и со свежей укладкой; рядом, уставившись в землю, переминался Эван, а вот Шона было не видно.
– Вызвали на работу, – объяснила Анна, пока я готовил чай. – У брата моего что-то не заладилось на стройке. Он ведь архитектор, вы знаете, отче? Шон частенько у него прорабом.
Я только улыбнулся, не поверив ни единому слову, и не стал расспрашивать. Таким как Шон беседы со священниками неинтересны, ну и бог-то с ним, я даже не рассчитывал, что он придет.
– Рад тебя видеть, Эван. – Я постарался выказать дружелюбие тому, кто был явной причиной визита.
– Угу. – Не поднимая глаз, парень возил кроссовками по полу, словно исполнял одиночный танец.
Я вглядывался в его лицо, пытаясь отыскать следы этакого страдания, свойственного нынешней молодежи, которая так выглядела, словно последнюю пару лет изнемогала на рудниках или в концлагере, но ничего не находил. Я видел абсолютную безмятежность. И скуку. Как ни странно, Эван совсем не походил на свою некрасивую мать, но тут я вспомнил: кто-то – да чуть ли не сама Анна – говорил мне, что он приемыш. Передо мной был симпатичный парень, светлые волосы его разделял прямой пробор, как у музыкантов молодежных ансамблей, которых часто видишь по телику. Он слегка напоминал Джонаса. Джонаса в юности. Как оба моих племянника, пошедших, скорее, в отца, Эван смахивал на скандинава. Может, его биологические родичи и впрямь из тех краев?
– Итак, чем могу помочь? – спросил я, раскинув руки.
Анна смущенно отвела взгляд, словно уже раскаялась в своем визите.
– Да вот… Эван, – сказала она.
– Вовсе нет. – Эван широко улыбнулся, показав белейшие зубы, на щеках его образовались ямочки. – Это все мама.
– Значит, дело касается вас обоих, – усмехнулся я.
В ответ Эван слегка хохотнул, но Анна покачала головой и поджала губы.
– Обо мне речи нет, – возразила она. – Речь о нем.
– Да нет, я в полном порядке, – спокойно парировал Эван.
– Везет тебе, – сказал я, и парень окинул меня насмешливым взглядом, словно прикидывая, как со мной поступить.
– Сколько вам лет, отче? – спросил он.
– Что за вопросы, Эван! – возмутилась Анна.
– Ничего-ничего, – успокоил я. – Мне пятьдесят пять.
– Наверное, следите за собой? – продолжил Эван. – На вид вам сорок с хвостиком.
Я открыл рот, но не нашелся с ответом. А что тут скажешь-то?
– Мой отец ваш ровесник, но выглядит кошмарно. Жирный боров.
– Эван! – прикрикнула Анна.
– Это правда. Не подумайте, отче, что я за глаза поливаю папашу. Я ему это в лицо говорю. Беспрестанно жрет и совсем не двигается. Я боюсь, как бы с ним чего не случилось. А он лишь смеется. Я люблю отца, но он и впрямь жирный боров, а я не хочу, чтобы его хватил инфаркт.
– Ты прекратишь или нет? – взвилась Анна. – Честное слово, отче, я не знаю, что на него нашло. Шон вовсе не жирный.
Эван пожал плечами:
– Жирный.
– Нет!
– Он как бочка.
– Так вы ради этого пришли? – спросил я. – Беспокоитесь об отце?
– Вовсе нет, – подалась вперед Анна. – У нас Эван чудит.
– Давайте так, – сказал я. – Вы расскажете, с чем вы пришли, и, что бы там ни было, я постараюсь помочь.
– Я не могу, отче. – Анна отвернулась. – Просто не могу.
Я прикрыл глаза и выдохнул. Перед внутренним взором возникла теренурская библиотека. Все бы отдал, чтоб сейчас там оказаться. На полках хаос. Морская трилогия Уильяма Голдинга в неверном порядке. Романы Клэр Килрой вперемешку с рассказами Клэр Киган. Вот именно в такие минуты я мечтал заняться разбором книг, а не вытягивать из кого-то проблемы, которые наверняка не смогу решить. И чего народ ко мне ходит, когда я ничего не смыслю в жизни?
– Вы в надежном месте, – сказал я, подражая психоаналитикам из телефильмов. Только вчера я посмотрел подряд шесть серий, в которых мощно сыграл Гэбриэл Бирн. – Можете говорить о чем угодно. Все останется в этих стенах.
Анна глубоко вдохнула, набираясь решимости. Выпрямилась и посмотрела мне в глаза. Ну наконец-то.
– Отче, разговор об Эване.
В этот момент я прихлебнул чай и чуть не прыснул. Анна, кажется, не поняла, что я смеюсь, а вот парень смекнул и осклабился:
– С вами все в порядке, отче?
– Извините. Не в то горло попало.
– С ним что-то не так, – продолжила Анна.
– Все так. По крайней мере, со мной, – перебил Эван. – Наоборот, все лучше некуда.
– Наоборот! – передразнила Анна, покачав головой.
– Что не так-то?
– Хватит уже, Эван! Чего ты выставляешься?
– Я всего-навсего сказал «наоборот», – недоуменно пожал плечами Эван.
– Веди себя как подобает.
– А я что делаю? Отче, разве я себя плохо веду?
Я не ответил и обратился к Анне:
– Что конкретно вас беспокоит?
– У него есть… друг, – после долгой паузы выговорила она.
Озадаченный, я переводил взгляд с матери на сына. У Эвана есть друг. Ну и славно. О чем тут беспокоиться? В теленовостях об этом сообщать, что ли?
– Друг, – повторил я.
– Хороший друг, – уточнила Анна.
– Очень, очень и очень хороший, – поддержал Эван.
– Вы меня запутали, – признался я.
– Они проводят слишком много времени вместе, – поспешно сказала Анна.
– Разве это необычно для друзей? – удивился я.
– Да ладно вам, отче. – Эван слегка утратил спокойствие, в тоне его сквозило раздражение. – Чего дурачком-то прикидываться?
– А если я не прикидываюсь? – Что бы там ни было, пока что я владел ситуацией. За долгие годы работы я приноровился к подросткам. Они меня не пугали. Я знал их как облупленных. Им меня не обескуражить, хоть вывернутся наизнанку.
– Это нехорошо, – сказала Анна.
– Что – нехорошо?
– О боже ты мой! – Эван театрально вздохнул и откинул прядь со лба. Я заподозрил, что этот жест он долго оттачивал перед зеркалом. – У меня есть друг. Его зовут Одран. Мы встречаемся. Вот и все. Мир не рухнул и прочее.
– Я тоже Одран, – сказал я.
Эван молчал, удивленно хлопая глазами.
– Не знаю, что я должен ответить? – наконец сказал он, в противной американской манере превратив утверждение в вопрос.
– Тот Одран голубой, – доложила Анна.
– Это не прилагательное, а существительное, – поправил ее Эван.
– Чего? – обернулась к нему Анна.
– Ты слышала.
– Видали, даже не скрывает. – Анна перевела взгляд на меня: – Ни капли стыда.
– Понятно, – сказал я. – Этот Одран твой одноклассник?
– Вот еще! – Эван негодующе фыркнул, словно я зачислил его в Ку-клукс-клан.
– Но он учится? Или уже взрослый?
– Блин! Конечно, учится. Он не шалопай какой-нибудь. Просто из другой школы. Нормальной. Куда и девочек берут.
Я переваривал новость и, признаюсь, был смущен.
– Тебе не нравится твоя школа? – спросил я.
– Нет, конечно. Там одни дикари. Все разговоры о регби, дрочке и манде.
Анна задохнулась, и я прикрыл глаза, чтобы не смотреть на нее. Пусть я неплохо разбираюсь в подростках, но обычно их матушки не сидели рядом, когда те говорили о подобных вещах.
– Полегче, Эван, – сказал я.
– Виноват, – тотчас извинился он. – Сказал, не подумав.
– Да уж.
– Я к тому, что в школе Одрана ребята не зациклены на всякой фигне, понимаете? И не обмирают от страха.
– А что, в твоей школе ученики напуганы?
– Вы уж извините, отче, но, по-моему, все скопом наложили в штаны.
– Из-за чего?
– Из-за того, что умнее, чем кажутся.
Я задумался.
– Что-то я не понял, – сказал я.
– В нашей школе не идиоты, – пояснил Эван. – И вы, и я это знаем. Там смышленые ребята. Образованные. Из хороших семей. И всем им хватает ума понять, что через два года учеба закончится и нынешние короли регби до конца дней своих будут конторскими крысами либо станут учительствовать в этой самой школе. Каждый обделался от мысли, что его маленькой драгоценной жизни вот-вот придет конец, тогда как у всех других, для кого мир не ограничен школой, она только начнется.
Я кивнул. Все верно. Ничего нового. Я многажды был тому свидетелем.
– И как это связано с твоим другом? – спросил я.
– В общем-то, никак, – помолчав, сказал Эван. – Я просто говорю, что он учится в другой школе. Вы спросили, не одноклассники ли мы. Нет. Вот короткий ответ.
– Он голубой, – повторила Анна.
– Может, хватит уже? – насупился Эван.
– И у вас сложились отношения? – спросил я, игнорируя реплику Анны.
– Ну, мы не женились и все такое. Хотя – да. Сложились. – Эван замялся, словно раздумывая, стоит ли делиться своими мыслями, и все же добавил: – Он классный.
– И вас, Анна, это беспокоит? – обратился я к его матери. Та смотрела в пол, лицо ее отражало душевную муку.
– А вас бы не беспокоило, что ли?
Я пожал плечами:
– Спроси вы об этом десять лет назад, я бы, наверное, ответил иначе. Видите ли, мой племянник – гомосексуалист.
– Перестаньте, отче, – отмахнулась Анна. – Не надо.
– Это правда.
– Быть такого не может.
– Это правда, – повторил я, не зная, как еще ее убедить. – Чистая правда.
– Будет вам. Мне от этого не легче.
Эван смотрел заинтересованно.
– Я не сочиняю, – пожал я плечами.
Года два назад Джонас признался, что он гомосексуалист, но тогда я не очень понял, какого отклика он ожидает. Кажется, я не нашелся, что ответить. Я был растерян и слегка смущен, но не гомосексуальностью его, а тем, что в нем вообще есть какая-то сексуальность. Для меня он оставался мальчишкой, меня слегка коробило от мысли, что он кого-то желает или кто-то желает его, тем более что мне подобные страсти были чужды, и я не хотел говорить на эту тему. Нет, я, конечно, попытался. Я спросил, как он это понял, и Джонас ответил, что знает об этом с девяти лет, когда его растревожило видеоTake That – клип песни «Молись». «Наверное, во всем виноват Марк Оуэн», – сказал он, я не понял, что он имел в виду, и не хотел выяснять. Но все же спросил, не заблуждается ли он в своей ориентации, и тогда Джонас поведал, что пару лет назад впервые в жизни влюбился в студента, по программе обмена приехавшего из Сиэтла. Они очень сблизились, много времени проводили вместе, и однажды на чьей-то квартире Джонас признался ему в своих чувствах. Вышло скверно. Тот, кого он считал другом, обошелся с ним очень жестоко. Настолько жестоко, что племянник мой все еще не оправился (и я это видел), распаляясь злобой к человеку, нанесшему травму молодому парню, который, уступив своему влечению, слишком сильно влюбился. Я не представлял, каково это – услышать, что кто-то меня любит. Но если бы вдруг кто-нибудь мне признался, я, думаю, по-доброму отнесся бы к тому человеку, независимо от его пола. Вряд ли на свете есть что-нибудь лучше такого признания.
– У него даже девушки никогда не было. – Анна ожгла сына взглядом.
– Ты-то откуда знаешь?
– Ты никого не приводил к нам на чай.
Эван рассмеялся:
– Мам, нынче никто не водит девушек на домашнее чаепитие. Отче, у вас когда-нибудь была подружка? В смысле, когда вы были в моем возрасте.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.