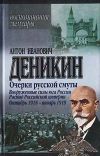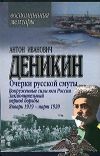Текст книги "1919"
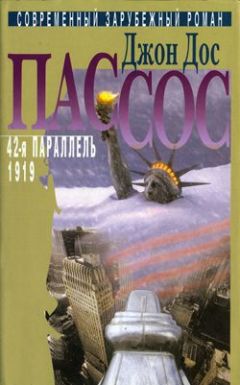
Автор книги: Джон Пассос
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Джон ДосПассос
1919
Новости дня XX
Молодецкая пехота
За ушами, грязь и сор
ВЕЛИЧАЙШЕЕ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ СТОЛКНОВЕНИЕ АРМИЙ ПОД ВЕРДЕНОМ
ДЕМОНСТРАЦИЯ 150.000 МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
но попутно возникает другой весьма важный вопрос. Нью-Йоркская фондовая биржа является ныне единственным в мире свободным рынком ценностей. Если она удержит это положение, то несомненно станет едва ли не величайшим в мире торговым центром
БРИТАНСКИЙ ФЛОТ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПОХОД К ЗОЛОТОМУ РОГУ
Ну кому придет охота
Затевать с пехотой спор
Никакая артиллерия
Никакая к черту конница
За пехотой не угонится
Ни тем более сапер
ПОД ГАЛЛИПОЛИ ТУРКИ УДИРАЮТ ОТ ТОММИ[1]1
В Галлипольской (Дарданелльской) операции (19 февр. 1915 – 9 янв. 1916) англо-французский флот осаждал турецкие форты, стремясь установить контроль над Дарданеллами. Операция цели не достигла из-за отсутствия единого командования и тщательно продуманного плана. Золотой рог – бухта у входа в пролив Босфор, овладение которым входило в план Галлипольской операции.
[Закрыть]
что скажут, вернувшись на родину, наши ветераны войны о тех американцах, которые бессвязно лепечут о каком-то новом строе и в то же время барахтаются в мелководье? Слушая эту слабоумную болтовню, те, кто пережил великую трагедию, вспомнят необъятную новую Ничью землю – Европу, дымящуюся убийством, насилием и грабежами, объятую пожарами революции
БАСТУЮЩИЕ ОФИЦИАНТЫ ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ К ЖЕНЩИНАМ
Мощный дуб, стройный ясень, плакучие ивы
И Америки нашей цветущие нивы
подобное положение неминуемо должно вызвать приток из-за границы колоссальных денежных сумм, чтобы поддержать равновесие на внутреннем рынке
Когда я думаю о флаге, реющем над нашими судами, об этом единственном в их облике красочном пятне, который так и трепещет, словно наделенный живым духом, мне начинает казаться, что передо мной разворачиваются пергаментные свитки, на которых начертаны право на свободу и справедливость, и багровеют полосы крови, пролитой во имя этих прав, а в углу – символ той ясной лазури, которой могут достичь все народы, вставшие на их защиту.
Вздернем на мачту наш славный звездный стяг
И марш-марш к черту в зубы так нас растак
Джо Уильямс
Джо Уильямс надел купленный у старьевщика штатский костюм и бросил матросскую форму, завернув в нее булыжник, с пристани в мутную воду гавани. Был полдень. Кругом никого. Ему стало не по себе, когда он вспомнил, что не захватил с собой сигарной коробки. Вернувшись в будку, он нашел коробку там, где ее оставил. В этой коробке были когда-то сигары «Флор-де-Майо», которые он как-то купил спьяна в Гуантанамо. Теперь в ней лежали под золотой кружевной бумагой: карточка Джейни в день окончания школы, моментальный снимок Алека на мотоцикле; фотография с подписями тренера и всех игроков школьной бейсбольной команды, в которой Джо был капитаном, – все в бейсбольных костюмах; старый розовый, почти совсем выцветший моментальный снимок папиного буксира «Мэри Б.Салливен», который ведет хорошо оснащенное судно, сделанный с Виргинского мыса; карточка одной раздетой девицы по имени Антуанет, с которой он путался в Вильфранше; несколько лезвий для безопасной бритвы; почтовая открытка, изображавшая его самого и еще двух парней – все трое в белых матросских костюмах на фоне мавританской арки в Малаге; пачка иностранных марок, пакетик «Веселых вдов» и десяток розовых и красных раковин, собранных им да побережье Сантьяго. Сунув коробку под мышку, чувствуя себя неловко в мешковатом штатском костюме, он медленно пошел к маяку и проводил взглядом эскадру, идущую кильватерной колонной вниз по реке Ла-Плате. День был пасмурный; узкие крейсера скоро растаяли в пелене тянувшегося за ними дыма.
Джо перестал глядеть на них и начал следить за закопченным грузовым пароходом, входившим в гавань. Пароход сильно кренило на левый борт; виден был его корпус под ватерлинией, зеленый и облепленный склизкими водорослями. На корме был сине-белый греческий флаг и приспущенный грязно-желтый карантинный флаг на фок-мачте.
Человек, подошедший к Джо сзади, сказал ему что-то по-испански. Это был улыбающийся краснолицый мужчина в синем костюме, он курил сигару, но Джо почему-то испугался.
– Не понимаю, – сказал Джо и пошел мимо пакгаузов на улицы за гаванью.
Он с трудом разыскал Марию: все дома были очень похожи друг на друга. Он нашел бар по звуку механической скрипки, доносившемуся из окна. Войдя в душный, пахнувший анисом бар, он долго стоял у стойки, держа в руке липкий пивной стакан и глядя на улицу, тянувшуюся яркими полосами за бисерной занавеской, прикрывавшей вход. Он ежеминутно ждал появления военного моряка в белой форме с желтой кобурой.
За стойкой смуглый юноша с крючковатым носом глядел, прислонясь к стене, в пространство. Джо собрался с духом и кивком подозвал его. Юноша подошел и доверительно перегнулся через стойку, упираясь в нее одной рукой и вытирая клеенку тряпкой, которая была у него в другой руке. Мухи, лепившиеся к кольцам, оставленным на клеенке пивными стаканами, улетели и присоединились к жужжавшему на потолке рою.
– Послушай-ка, скажи Марии, что мне ее нужно повидать, – сказал Джо, кривя губы.
Юноша за стойкой поднял два пальца.
– Два песо, – сказал он.
– Да нет, не то, мне с ней только поговорить.
Мария кивнула ему с порога за стойкой. У нее были большие, широко расставленные глаза с синеватыми мешками и желтовато-бледное лицо. Сквозь помятое розовое платье, обтягивавшее ее большие груди, Джо мог разглядеть кольца сморщенной кожи вокруг сосков. Они сели за стол в задней комнате.
– Дай два пива! – крикнул Джо в дверь.
– Что тебе надо, hijo de mi alma?[2]2
Свет очей моих (исп.)
[Закрыть] – спросила Мария.
– Ты знаешь Дока Сиднера?
– Конечно, я знаю всех янки. Ты почему это не на большом корабле?
– Не пойду больше на большой корабль… Подрался с одним сукиным сыном, поняла?
– Che![3]3
Вон как! (исп.)
[Закрыть]
Груди Марии заколыхались, как желе, когда она рассмеялась. Она взяла Джо жирной рукой за шею и притянула его лицо к своему.
– Бедный мальчик… Глаз подбили?
– Ну да, он мне подбил глаз. – Джо высвободился. – Младший офицер. Я его отделал, понимаешь? Теперь мне военного флота не видать… Да и хватит с меня. Слушай-ка, Док говорил мне, что ты знаешь одного типа, который может изготовить матросское свидетельство… первого класса, понимаешь? Я хочу служить в торговом флоте, Мария.
Джо допил пиво.
Она все качала головой и приговаривала:
– Che! Pobrecito…[4]4
Бедняжка… (исп.)
[Закрыть] Che! – Потом спросила печально: – Сколько у тебя долларов?
– Двадцать, – сказал Джо.
– Он возьмет пятьдесят.
– Тогда мне крышка.
Мария подошла к нему сзади и обняла жирной рукой за шею, нагнувшись над ним с тихим булькающим смехом.
– Малость обожди, подумаем… Sabes?[5]5
Понимаешь? (исп.)
[Закрыть]
Большие груди прижались к его шее и плечу, и он поежился: ему было неприятно, когда она прижималась к нему утром, пока он был еще трезв. Но он не шевелился, покуда она внезапно не закричала пронзительно, как попугай:
– Пакито… Ven асá![6]6
Иди сюда (исп.)
[Закрыть]
Грязный толстозадый мужчина с красным лицом и красной шеей вышел откуда-то сзади. Они заговорили по-испански над головой Джо. Потом она погладила его по щеке и сказала:
– Ладно, Пакито sabe, где он живет… Может, он возьмет двадцать, sabes?
Джо встал. Пакито снял грязный поварской передник и закурил сигарету.
– Понимаешь – матросское свидетельство? – сказал Джо, подходя к нему и глядя ему в лицо. Тот кивнул:
– Хорошо.
Джо обнял и слегка потискал Марию.
– Ты хорошая баба, Мария.
Она, ухмыляясь, проводила их до двери бара.
Выйдя на улицу, Джо внимательно посмотрел по сторонам. Мундира не видать. В конце улицы над цементными пакгаузами торчал черный силуэт подъемного крана. Они сели в трамвай и долго ехали, не произнося ни слова. Джо сидел, уставясь в пол, свесив руки между коленями, покуда Пакито не толкнул его. Они вышли где-то в пригороде, застроенном дешевыми на вид, новыми, но уже грязными цементными домами. Пакито позвонил у двери, похожей на все прочие двери, и через некоторое время им отворил человек с красными веками и большими лошадиными зубами. Через полуоткрытую дверь он долго говорил с Пакито по-испански. Джо постоял на одной ноге, потом на другой. По тому, как они искоса взглядывали на него, он понимал, что они советуются, сколько из него можно выколотить денег.
Он уже собирался вмешаться в разговор, когда человек, стоявший за дверью, обратился к нему на гнусавом лондонском жаргоне:
– Дай этому парню пять песо за беспокойство, а мы с тобой обтяпаем это дело, как полагается между белыми людьми.
Джо выгреб из кармана все серебро, какое у него было, и Пакито ушел.
Джо прошел за цинготником в прихожую, в которой пахло капустой, масляным чадом и стиркой. Когда они вошли, тот положил Джо руку на плечо и сказал, дыша ему в лицо винным перегаром:
– Ну, паренек, сколько можешь дать?
Джо отстранился.
– Двадцать американских долларов, больше у меня нет, – сказал он сквозь зубы.
Цинготник покачал головой.
– Только четыре фунта… Ладно, посмотрим, может, что и придумаем. Ну выкладывай.
Прямо на глазах у цинготника Джо расстегнул пояс, вспорол два шва маленьким лезвием карманного ножа и вытащил две оранжевые, сложенные вдоль кредитки. Он осторожно расправил их и уже хотел было отдать, но передумал и сунул в карман.
– Давай-ка я погляжу на свидетельство, – сказал он усмехаясь.
Красновекие глаза цинготника увлажнились; он сказал, что все должны помогать друг другу и быть благодарны, если человек рискует своей шкурой, чтобы помочь ближнему. Потом он спросил Джо, как его зовут, сколько ему лет, где он родился, как давно плавает и так далее, и ушел в соседнюю комнату, заперев за собой дверь.
Джо стоял в прихожей. Где-то тикали часы. Тиканье становилось все медленнее и медленнее. Наконец Джо услышал щелканье замка, и цинготник появился с двумя бумагами в руках.
– Ты пойми, что я для тебя делаю, парень…
Джо взял одну бумагу. Он наморщил лоб и стал читать ее; она показалась ему вполне солидной. В другой бумаге было написано, что Морскому агентству Титтертона доверяется производить ежемесячные удержания из жалованья Джо, покуда не будет погашена сумма в десять фунтов.
– Послушай-ка, – сказал он, – ведь это выходит, я выкладываю семьдесят долларов.
Цинготник сказал, что зато какой он на себя риск берет, и какие нынче трудные времена, и, в конце концов, если он не хочет, может и не брать. Джо прошел за ним в комнату, где в беспорядке валялись всякие бумаги, нагнулся над письменным столом и подписал документ вечным пером.
Они сели в трамвай и сошли на улице Ривадавиа, Джо прошел за цинготником в маленькую контору, помещавшуюся за пакгаузом.
– Вот вам расторопный морячок, мастер Мак-Грегор, – сказал цинготник желчному на вид шотландцу, который расхаживал по комнате, кусая ногти.
Джо и мистер Мак-Грегор поглядели друг на друга.
– Американец?
– Да.
– Надеюсь, ты не рассчитываешь на американское жалованье?
Цинготник подошел к нему и что-то шепнул. Мак-Грегор посмотрел на книжку и, по-видимому, удовлетворился.
– Ладно, распишитесь в книге… Распишитесь вот тут, под последним именем.
Джо расписался и отдал цинготнику двадцать долларов. Он остался без гроша.
– Ну, счастливо оставаться, парень.
Джо поколебался, прежде чем подать ему руку.
– Пока, – сказал он.
– Сходи за своими вещами и явись через час, – хрипло сказал Мак-Грегор.
– Нет у меня никаких вещей. Я торчал на берегу, – сказал Джо, подкидывая на ладони сигарную коробку.
– Тогда подожди на дворе, я потом отведу тебя на «Аргайл».
Джо несколько секунд постоял на пороге, глядя на улицу. Ну его, осточертел ему Буэнос-Айрес. Он сел на ящик с клеймом «Тиббет и Тиббет, Эмалевая посуда, Блэкпул» и стал ждать мистера Мак-Грегора, размышляя, кто он – шкипер или помощник капитана. Да, немало времени пройдет, прежде чем он выберется из Буэнос-Айреса.
Камера-обскура (28)
когда пришла телеграмма что она умирает (трамвайные колеса скрежетали вокруг стеклянного колпака как все грифели о все доски во всех школах) во время прогулки по берегу Пруда запах стоячей воды лапки вербы под режущим ветром грохот визгливых трамвайных колес по расхлябанным рельсам бостонских предместий скорбь не мундир сначала пустись во все тяжкие и выпей бокал вина за ужином у «Ленокса» прежде чем сесть в поезд
Я так устал от фиалок
Отнимите их у меня
когда пришла телеграмма что она умирает стеклянный колпак лопнул в скрежете грифелей (ты когда-нибудь спал в апреле хотя бы одну неделю?) и Он встретил меня на сером вокзале у меня болели глаза от киноварных бронзовых кроваво-зеленых чернил которые сочились из кружащихся апрельских холмов У Него были белые усы усталые обвисшие старческие щеки Ее нет больше Джек скорбь не мундир в гостиной восковый аромат лилий в гостиной (Он и я мы оба будем хоронить мундир скорби)
потом запах реки сверкающий Потомак догоняет маленькие чешуйчато-серебряные волны у Головы индейца на кладбище пели дрозды и обочины дороги дымились весной Столько апреля не выдержит мир.
когда пришла каблограмма что Он умер я ходил по улицам переполненным пятичасовой мадридской толпой закипающими сумерками в надтреснутых граненых стаканах агвардиентэ красного вина газовофонарной зелени солнцезакатного багрянца черепичнокрышей охры губы глаза красные щеки коричневая колонна горла сел на Северном вокзале в ночной поезд сам не зная зачем
Я так устал от фиалок
Отнимите их у меня
разбитый радужно переливающийся стеклянный колпак старательно скопированные бюсты архитектурные детали грамматика стилей
это был конец книги и я оставил Оксфордское издание классиков в маленькой комнате пахнувшей прогорклым оливковым маслом в Бостонском пансионе Ahora теперь обретет vita nuova но мы
которые слушали дивный голос читавшего вслух Копи и читали чудесно переплетенные книжки и глубоко вдыхали (дыши глубже раз два три четыре) аромат восковых лилий и искусственных пармских фиалок под эфирной маской и завтракали в библиотеке где бюст был Октавия[7]7
Август, Гай Октавий (63 г. до н. э. – 14 г.н. э.), римский император, внучатый племянник Юлия Цезаря. После убийства последнего принял имя Гай Юлий Цезарь Октавиан.
[Закрыть]
мы теперь лежим мертвые в телеграфной конторе
На громыхающей деревянной скамейке в поезде ползущем в ночь поскорей бы с нижней палубы наверх вдохнуть чуточку Атлантики на ныряющем пароходе (я подружился с овальнолицей швейцаркой и ее мужем) глаза у нее были слегка навыкате и она грубовато говорила Zut alors[8]8
прекрати (франц.)
[Закрыть] и роняла нам улыбку-рыбку морскому льву согревавшую наш мрак когда чиновник иммиграционного ведомства пришел за ее паспортом он не смог отправить ее на Эллис-Айленд la grippe espaguole[9]9
испанка (франц.)
[Закрыть] она была мертва
мыть окна
штрафной батальон
скрести зажигательные свечи карманным ножом
уклоняющийся от воинской повинности
розы Американская Красавица растерты в пыль в постели шлюхи (туманная ночь пылала прокламациями Лиги прав человека) миндальный запах рвущихся снарядов посылающих певучие eclats [осколки (франц.)] в сладковатую тошнотную вздутость гниющих трупов
завтра надеялся я первый день первого месяца первого года
Шалун
Джек Рид был сыном шерифа Соединенных Штатов, видного гражданина города Портленда, в Орегоне. Он был даровитый мальчик,
и поэтому родители отправили его в школу на Восток и в Гарвард.
Гарвард культивировал открытое «а» и знакомства, которые могут принести пользу в будущем, и хорошую английскую прозу… Кого Гарвард не исправит, тот уже не исправится,
и все Лоуэллы говорят только с Кэботами,[10]10
Лоуэллы и Кэботы– известные бостонские фамилии. В Бостоне существует поговорка: «Лоуэллы говорят только с Кэботами, а Кэботы только с богом». Эми Лоуэлл (1874–1925) – американская поэтесса и критик, представитель группы американских имажистов.
[Закрыть] а Кэботы только…
и Оксфордское издание классиков.
Рид был даровитым юношей, он не был ни социалистом, ни евреем, ни из Роксбери родом; он был силен, жаден, имел аппетит ко всему: мужчина должен любить многое в жизни.
Рид был мужчиной; он любил мужчин, он любил женщин, он любил есть и писать, и туманные ночи и выпивку, и туманные ночи, и плавание, и футбол, и рифмованные стихи, и кричать «ура», произносить тосты, основывать клубы (не очень шикарные клубы, кровь в его жилах была недостаточно жидка для очень шикарных клубов)
и голос Копи, читающего «Человека, который хотел быть королем», умирающую осень, «Погребение в урне», хорошую английскую прозу, фонари, вспыхивающие в университетском общежитии под вязами в сумерки,
невнятные голоса в аудиториях,
умирающую осень, вязы, Дискобола, кирпичи древних зданий, и мемориальную арку, и уборщиц, и деканов, и доцентов, тонкими голосами подхватывающих припев,
припев; ржавая машина скрипела, деканы тряслись под своими академическими шапочками, зубчатое колесо довертелось до Выпускного Акта, и Рид вышел в мир:
Вашингтон-сквер!
«Приличия» оказались ругательством;
Вийон искал пристанища на ночь в итальянских казарменных домах на Салливэн-стрит,
научные исследования установили, что Р.Л.С[11]11
Р. Л. С. – Роберт Льюис Стивенсон (1850–1894) – английский писатель, литературный критик и публицист.
[Закрыть] был отчаянным кутилой и бабником,
а что касается елизаветинцев,
ну их ко всем чертям.
Сядь на пароход для скота и погляди на мир, поищи приключений, чтобы было о чем рассказать по вечерам; мужчина должен любить… учащенный пульс ощущение что сегодня туманными вечерами шаги такса, глаза женщин… многое в жизни.
Европа, приправленная хреном, глотай Париж, как устрицу;
но тут есть еще кое-что, помимо оксфордского издания английских классиков. Линк Стеффенс[12]12
Стеффенс, Джозеф Линкольн (1866–1936), американский публицист, глава движения «разгребателей грязи». С 30-е гг. сблизился с рабочим движением.
[Закрыть] говорил о кооперативной республике;
революция в голосе мелодичном как голос Копи, Диоген Стеффенс с Марксом вместо фонаря ходил но западу и искал человека, Сократ Стеффенс не переставал спрашивать: почему бы не революция?
Джек Рид хотел жить в бочке и писать стихи;
но он продолжал встречаться с бродягами, рабочими, дюжими ребятами, которых он любил, обездоленных, безработных, почему бы не революция?
Он не мог заниматься своим делом, когда в мире столько обездоленных;
не он ли выучил в школе наизусть Декларацию независимости? Рид был уроженцем Запада, и что он говорил, то он и думал; когда он говорил у стойки Гарвардского клуба с однокурсниками, он думал то, что говорил, от пяток до волнистых, растрепанных волос (кровь в его жилах была недостаточно жидка для Гарвардского клуба и Голландского клуба и респектабельной нью-йоркской богемы).
Жизнь, свобода и стремление к счастью;[13]13
«Жизнь, свобода и стремление к счастью»– цитата из Декларации независимости 1776 г.
[Закрыть]
ими даже не пахло на шелкопрядильнях, когда
в 1913-м
он поехал в Паттерсон, чтобы писать о стачке, о демонстрациях текстильщиков, избитых фараонами, о забастовщиках, брошенных в тюрьму; он и оглянуться не успел, как сам стал забастовщиком, демонстрантом, избитым фараонами, брошенным в тюрьму;
он не позволил редактору взять его на поруки, он хотел кое-чему научиться у забастовщиков в тюрьме.
Он научился кое-чему, он воспроизвел паттерсонскую стачку в парке Медисон-сквер. Он научился верить в новое общество, где не будет обездоленных,
почему бы не революция?
Журнал «Метрополитен» отправил его в Мексику
писать о Панчо Вилье.
Панчо Вилья научил его писать, и скелетообразные горы, и высокие органные трубы кактусов, и блиндированные поезда, и оркестры, играющие на маленьких площадях перед смуглыми девушками в синих шарфах,
и пропитанная кровью пыль, и свист пуль
в чудовищной ночи, в пустыне, и коричневые тихие пеоны, умирающие, голодающие, убивающие за свободу,
за землю, за воду, за школы.
Мексика научила его писать.
Рид был уроженцем Запада и говорил то, что думал.
Война была шквалом, задувшим все Диогеновы фонари;
«человеки» начали собираться, требовать пулеметы. Джек Рид был последним из великого племени военных корреспондентов, обставлявших цензуру и рисковавших своей шкурой ради хорошей корреспонденции.
Джек Рид был лучшим американским писателем своего времени, если бы кто-нибудь по-настоящему захотел узнать, что такое война, он все мог бы узнать из статей Рида
о германском фронте,
о сербском отступлении,
о Салониках;[14]14
Салоники– город в Греции, важный порт Восточного Средиземноморья. В 1915 г. его осаждал англо-французский экспедиционный корпус, стремясь отразить австро-германо-болгарское наступление на Сербию.
[Закрыть]
в тылу колеблющейся царской державы,
обманув охранку,
в Холмской тюрьме.
Контрразведчики не разрешали ему въезд во Францию, потому что, по их словам, однажды ночью, дурачась в немецких окопах с артиллеристами-бошами, он выстрелил из тевтонского орудия, направленного в сердце Франции… шалость, но, в конце концов, разве важно, кто стреляет из орудий и куда направлены их дула? Рид был с ребятами, которых крошили в куски,
с немцами, французами, русскими, болгарами, семью маленькими портняжками в Салоникском гетто,
а в 1917-м
он был с солдатами и крестьянами
в Петрограде в октябре;
Смольный,
Десять дней, которые потрясли мир.
Это тебе не Вилья, не живописная Мексика, не Гарвардские клубные шалости, не планы создания греческого театра, не рифмоплетство, не захватывающие рассказики военного корреспондента былых времен,
это тебе не шутка, это всерьез.
Делегат,
возвращение в Штаты, привлечение к суду, процесс журнала «Мэссиз»,[15]15
«Мэссиз»– прогрессивный американский литературный и общественно-политический журнал (1911 – 1918), вокруг которого группировались писатели революционных взглядов (Дж. Рид, Ф.Делл, К.Сэндберг и др.).
[Закрыть] процесс уоббли, тюрьмы, набитые по приказу Вильсона,
подложные паспорта, речи, секретные бумаги, зайцем сквозь санитарный кордон, в пароходных угольных ямах;
тюрьма в Финляндии, все бумаги украдены,
теперь не до писания стихов, не до приятельской болтовни с каждым встречным, не до шалостей студента с обаятельной улыбкой, который умеет так мило болтать, что любой судья отпускает его;
все члены Гарвардского клуба служат в контрразведке, завоевывая мир для банковского концерна «Морган-Бейкер-Стилмен».
Этот старый бродяга, дующий кофе из консервной банки, – шпион генерального штаба.
Мир больше не шутка,
только пулеметный огонь и пожары,
голод, вошь, клопы, холера, тиф.
нет перевязочных средств, нет хлороформа, эфира, тысячи раненых умирают от гангрены, санитарный кордон, и повсюду шпионы.
Окна Смольного пылают, раскаленные добела, как бессемер,
в Смольном нет сна,
Смольный, гигантский железопрокатный завод, работающий двадцать четыре часа в сутки, выпускающий людей, народы, надежды, тысячелетия, импульсы, страхи,
сырье
для фундамента
нового общества.
Мужчина должен много делать в жизни. Рид был уроженцем Запада, он говорил то, что думал.
Все, что у него было, и себя самого бросил он в Смольный,
диктатуру пролетариата;
СССР -
первая рабочая республика
создана и стоит.
Рид писал, выполнял поручения (повсюду были шпионы), работал, пока не свалился,
заболел тифом и умер в Москве.