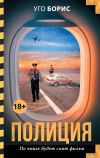Текст книги "Последний пир"

Автор книги: Джонатан Гримвуд
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
1769
Свобода
Поскольку я пишу эти строки, вы уже поняли, что я не умер на Корсике, хотя бывали дни, недели и месяцы, когда такой исход представлялся мне весьма вероятным. Сначала было затишье. Меня держали в деревенских домах, хорошо кормили и примерно раз в неделю перевозили на новое место – иногда по ночам, иногда средь бела дня. Так продолжалось до тех пор, пока осенью ко мне не явился сам Паскаль Паоли. Он сообщил, что его армия одержала великую победу в битве с маркизом де Шовеленом. К концу десятичасового сражения они ранили тысячу французов, убили шестьсот, а остальные шестьсот сдались, пополнив арсенал Паоли новыми пушками, мортирами и мушкетами, которых хватит на новую армию. Корсика свободна и будет свободна всегда.
Паскаль Паоли оказался прав. Оценив масштаб бедствия, наш славный Людовик XV решил, что остров не стоит новых потерь. Однако поражение настолько подмочило репутацию герцога де Шуазеля как министра иностранных дел, что тот уговорил короля отправить на Корсику новую армию. Шарлот был против, Жером заявил, что мысль о возможных потерях приводит его в ужас, но король оказался непреклонен, и Шуазель добился своего. В конце зимы французская армия высадилась на берегах Корсики, на сей раз возглавляемая Ноэлем, графом де Во.
Меня стали держать в домах попроще и часто перевозить с места на место, иногда каждый день, иногда через два на третий. Однажды я решил, что про меня все забыли, а пастушок, которому поручили носить мне черствый хлеб, от страха попросился ночевать со мной. Через неделю явились мои похитители. Они вышибли бы дух из бедного пастушка, но я солгал им: мальчик будто бы пригрозил, что взрослые отрежут мне ягодицы и повесят меня на собственных кишках, если я попытаюсь ударить его и сбежать.
Тем вечером пастушок в знак благодарности принес мне сыр. Сыр был твердый и плесневелый, но я не ел сыра уже три месяца, поэтому едва не заплакал от счастья. Зима выдалась суровая. Сквозь щели в стенах завывал ветер, лил ледяной дождь. Кормили меня скверно, похитители ходили хмурые и молчаливые. С приходом весны они немного повеселели, начали ловить кроликов и жарить на открытом огне мелких птиц, самых разных – жаворонков, дроздов, щевриц, древесниц и сорокопутов. А потом опять стало худо: похитители кидали на меня мрачные взгляды, и я догадался, что они вновь обсуждают мою судьбу. Они были молоды, некоторые – совсем мальчишки. Выходит, других Паоли послать уже не мог. Все силы были брошены на войну с моими соотечественниками.
К началу мая я присоединился к потрепанной колонне солдат. Быть может, они отступали. Или наступали.
По выражению их лиц, когда они сидели на корточках или прямо в грязи на деревенской площади, ничего нельзя было понять. У человека, который сторожил меня в тот день, был один здоровый глаз, а второй напоминал наполовину свернувшийся яичный белок. Яйцеглазый не разрешал мне покидать поле его зрения, называл меня «стариком» и грозился переломать ноги, если я попытаюсь сбежать.
– Сегодня мы идем, понял? Не останавливаясь.
– Далеко?
– Увидишь.
Я задал тот же вопрос солдату с осипшим голосом, который присоединился к нам милей позже и которому Яйцеглазый докладывался. Он ответил:
– Надо дойти до Понте-Нуово. Осталось миль двадцать пять, может, больше.
– Когда можно будет передохнуть?
Солдат взглянул на меня и увидел старика, а не француза. Он увидел человека. Не дворянина, не дипломата… Впрочем, он и не мог знать, кто я такой. Я тоже разглядел в нем человека. Он с искренним сочувствием произнес:
– Остановок не будет.
Его добрый голос так меня тронул, что пришлось прятать слезы.
Мы шли и шли – до сих пор не могу поверить, какие расстояния мы одолевали, – и вокруг меня пела песни крестьянская армия Паоли. Одни песни придавали мне сил, другие казались бесконечными, и я начинал думать, что в их монотонности кроется причина моей усталости. Я то и дело пошатывался и спотыкался, сыпал проклятьями, но шел дальше. Среди солдат попадались и женщины: одна из них, с грязным лицом и суровым взором, рявкала на свой отряд и грозилась выпороть любого, кто остановится хоть на секунду. Примерно через девятнадцать миль бока у меня начали болеть так, словно меня жестоко били по почкам. Я видел, как один солдат остановился и согнулся пополам, а другой стал разминать ноги, но если бы я последовал их примеру, то уже точно не смог бы сделать и шагу. Милей позже, когда солнце стало садиться за моей спиной, а вокруг по-прежнему шагали солдаты, я твердо решил, что дойду до конца.
К этому времени я изрядно оброс: волосы доходили мне до плеч, а бороду приходилось время от времени расчесывать пальцами. Одежда на мне превратилась в лохмотья – столь жалкие, что минувшей зимой один надзиратель принес мне вонючий полусгнивший плащ, и я с радостью его надел. Немытый, косматый, голодный и мучимый жаждой, я постоянно тер глаза, покрасневшие от пыли и солнца. Иными словами, я мало чем отличался от тех, кто шел рядом, и потому не привлекал внимания. Когда передо мной мальчишка оступился и едва не уронил мушкет, я поймал его. Яйцеглазый шагнул ко мне, однако осипший солдат его остановил. Какой вред может принести незаряженный мушкет в такой толпе? В конце пути я отдал ружье мальчишке и коротко кивнул в ответ на благодарность – не хотел, чтобы кто-то слышал мой французский акцент. Сиплоголосый принес мне в награду чашку кислого вина. Я уже год не пил ничего, кроме воды, и широко улыбнулся, ощутив на языке знакомый вкус.
– Что вы будете здесь делать? – спросил я солдата.
– Умирать, скорей всего. Хочешь – присоединяйся.
– Это не моя война.
Он смерил меня равнодушным взглядом.
– Война касается всех.
Он остался у Понте-Нуово, а меня повели дальше. В одной деревне я увидел церковь и попросил Яйцеглазого пустить меня помолиться. Он разрешил, и я поднялся по ступеням в прохладный мрак. Конечно, мне нужен был не Господь, а минута покоя. Поняв это, Господь – если он существует – оставил меня одного. По привычке я макнул пальцы в чашу у двери и перекрестился, затем ненадолго встал на колени перед алтарем. Окна в церкви были высокие и узкие, и сквозь одно, разбитое, внутрь проникал острый луч света: казалось, он пронзает пол.
«Голод, – подумал я. – Все кажется таким странным из-за голода».
Сбоку от алтаря на мраморном одре стоял стеклянный гроб, в котором лежала девушка – или женщина, – с бледной кожей цвета слоновой кости и закрытыми глазами. Руки ее были скрещены на пышной груди, прикрытой желтеющим кружевом. Конечно, она была восковая, а местный священник наверняка выдавал ее за святую, чье тело не подвержено тлению. Безмятежное лицо, белокурые волосы, крошечные пальчики ног… Ее облик мучительно напоминал мне кого-то, и всякий раз, поворачиваясь к двери, я вновь и вновь оглядывался на девушку – пока в мою голову не прокралась мысль о Виржини. Я оцепенел. Неужели такой она и была в моих глазах? Безупречной, не подверженной переменам и тлению? Восковой куклой? Неудивительно, что Виржини была несчастна со мной.
Вопрос мучил меня еще несколько минут, покуда его не прогнали зной и дорожная пыль. Тем вечером Яйцеглазый оставил меня в тесной горной пещере: вход в нее заложили кирпичной кладкой, в которой были проделаны крошечная дверь и окошко с решеткой и покореженными ставнями. Утром я проснулся один. Никто не принес мне еды – ни днем, ни вечером. Дверь оказалась крепко запертой, ставни на окне заколочены снаружи. К счастью, заколотили их в спешке и всего двумя гвоздями.
На следующее утро вновь никто не пришел, и еще через день тоже. Я питался по большей части пауками и жуками, а воду пил из лужи на полу. Мне казалось, что если я умру здесь, это будет справедливая и достойная смерть: с жуков начал, жуками и закончил. Потом я велел себе не глупить и начал охотиться на летучих мышей, которые на рассвете влетали в пещеру сквозь отверстие высоко под ее сводами. Их были тысячи. Хорошо, пусть сотни. Они свисали вниз головой со скалистых сводов, и я сбивал их камнями, а потом съедал сырыми, поскольку ни огнива, ни кремня, ни трута у меня не было. Сейчас, вспоминая, я не понимаю, почему не мог оторвать ставни. Это просто не пришло мне в голову. Я держал мышей за крылья и рвал зубами плоть. Иногда они были еще живы, иногда – мертвы. В течение недели я съедал по несколько штук в день, никогда не наедался досыта, но по крайней мере они не дали мне умереть.
В конце недели рядом началось сражение: до меня стали долетать звуки мушкетных и пушечных выстрелов. Это продолжалось несколько часов, и я даже как будто учуял запах пороха. Прошел еще один день, и тогда я увидел на дороге внизу французскую армию. Они не обратили внимания на мои крики. Я заорал опять, потом перешел на ругательства, и тогда двое солдат отделились от колонны и поднялись ко мне. Они были очень злы и избили бы меня мушкетами, если бы не запертая дверь.
– Ну так выломайте ее! – сказал я.
Они уставились на меня: молодые, обгоревшие на солнце, провонявшие потом, чесноком и дешевым вином. Они хотели знать, кто это посмел ими командовать, но что-то в моем тоне их насторожило.
– Ты что, француз?
– Я маркиз д’Ому. Позовите вашего командира.
Они подозрительно посмотрели на меня, затем беспомощно переглянулись – словно жалея, что вообще ввязались в это дело. Один солдат полез вниз, а второй принялся долбить дверь большим камнем. Поскольку она открывалась внутрь, ему повезло больше, чем мне. Я выполз на солнечный свет как раз в ту минуту, когда к пещере подошел седоватый лейтенант. До повышения он явно был сержантом, подумал я, вспомнив нескольких учителей академии.
– Вы маркиз д’Ому?
Я отвесил неглубокий поклон. Тогда он тоже вспомнил про манеры и поклонился в ответ.
– Нам сказали, вы умерли. Все так думают.
– Порой я и сам так думал.
Он спросил, могу ли я идти.
– Скорей всего. Но небыстро.
Тогда лейтенант приказал привести для меня мула, а всю поклажу с него перегрузил на солдат.
– Здесь было сражение, – сказал я, прежде чем взобраться на спину мула. – Позавчера, кажется.
– При Понте Нуово, – кивнул лейтенант. – Кровавая резня. Один из вражеских генералов дезертировал. Гессенские наемники обернулись против корсиканцев прямо посреди битвы. Половина армии бежала с поля боя. Война кончена. Мы сейчас ловим их так называемого главнокомандующего и его ближайших приспешников. Найдем, уж не сомневайтесь.
Лейтенант хлопнул моего мула, и мы тронулись в путь: сперва поднялись на вершину горы, затем спустились в маленький городок, приютившийся в долине. Воздух здесь был сладок и чист, стрекотали сверчки, и солдаты угостили меня водой с хлебом. Как ни странно, я очень радовался, что выжил.
Лейтенант передал меня майору, который лично сопроводил меня в дом графа де Во в Корте. Убедившись, что это и в самом деле я, граф отдал мне собственные апартаменты, нашел для меня пристойную одежду и приказал своему слуге побрить меня и постричь. Кроме того, я получил на время его парик и бессчетное число кувшинов с горячей водой: после мытья я уже мог составить ему компанию. Целую неделю за мной наблюдал врач, и я сидел на диете для инвалидов. Де Во тоже сказал, что они давно оплакали мою трагическую гибель, а слава обо мне прошла по всей Франции. Он был искренне рад, что они ошиблись.
Я поблагодарил его за теплые слова и спросил, когда отходит ближайший корабль. Если нужно, я приеду в Париж, повидаюсь с Жеромом, Шарлотом и всеми, кто захочет со мной встретиться, но первым делом я должен поехать домой. Меня ждут Манон и дети. Тигрис. При мысли о них на глазах у меня выступили слезы. Де Во все устроил, отправил во Францию вестников и попросил меня оказать ему услугу – заехать сначала в Кальви и посетить тюрьму для корсиканских пленников. Паскаля Паоли еще не поймали, как и его ближайших соратников. Возможно, они прячутся среди простых солдат, дожидаясь конца войны. Увидев мое удивленное лицо, граф заверил меня, что война окончена, но некоторым корсиканцам это еще не ясно, и восстановление порядка может занять несколько месяцев.
В последний вечер он хорошо меня накормил, и я пошел спать, по дороге ненадолго остановившись в коридоре, чтобы взглянуть на свое отражение в мутном, засиженном мухами зеркале. У меня было изможденное лицо со впалыми щеками, сгорбленные плечи и спина, а живот стал плоским, как у мальчишки. Таким худым я был, когда покидал академию. Щетина моя изрядно поседела. Наутро я забрался в экипаж и уехал в Кальви, где предоставил майору письмо от графа де Во. Тот отдал честь и сопроводил меня в тюрьму. Камеры были забиты битком и от них несло отчаянием. Всюду стояла стража: французские солдаты со штыками на мушкетах.
Я прошел сквозь три больших зала, забитых корсиканцами. Одни были ранены, другие покачивались от усталости, но все провожали меня лютым ненавидящим взглядом. В третьем зале я вдруг заметил чьи-то поразительно голубые глаза и стал невольно вглядываться в толпу.
– Кого-то узнали, милорд?
У Паоли отросли волосы и борода, на нем была потрепанная форма рядового. Раненный в ногу, он опирался на костыль и на еще одного солдата – Армана дю Плесси. Не подумав, я стал искать взглядом Элоизу и лишь потом сообразил, что женщин здесь быть не может.
– Нет. Просто сходство.
Майор расстроенно кивнул.
– Что с ними будет? – спросил я.
Он с недовольством посмотрел на пленных.
– Скоро выйдут на свободу. Только перепишем имена. Офицеров освободим условно, хотя их тут мало: почти все сбежали.
Майор достал из кармана часы и сообщил, что корабль «Леопард» отплывает через три часа: я могу сперва поужинать с ним либо сразу отправиться на причал. Я сослался на усталость и поспешил к кораблю.
В последние минуты перед отплытием на набережной появился мальчишка и попросил встречи со мной. Капитан выругал его и пообещал поколотить, если тот вздумал напрасно меня беспокоить.
– Вы француз?
Я попытался улыбнуться, хотя мечтал только о своей койке.
– Я – Жан-Мари, маркиз д’Ому.
Он кивнул, словно услышав требуемое, и протянул мне небольшой сверток. Я не сразу принял его, и мальчишка настойчиво поднял сверток выше. Стоило мне его взять, как он пустился наутек и тут же скрылся в толпе.
– Все хорошо, милорд? – спросил капитан.
– Да-да, не беспокойтесь.
Я отправился в свою каюту: сердце бешено колотилось, по пальцам текла липкая жидкость. Наконец узлы на верхней замызганной тряпке поддались: внутри оказался чистый муслиновый лоскут, а под ним – сырная голова размером с кулак. Отковырнув ногтем небольшой кусочек, я положил его в рот. Сыр был сливочный, с легким привкусом тимьяна и едва уловимой лимонной ноткой. Я вспомнил слова Элоизы о том, что девушек, дающих молоко, кормят самой лучшей едой. Я позволил себе съесть еще один кусок, после чего завернул сыр в муслиновый лоскут и бросил в кувшин с водой.
Корсика вернула мне утраченное любопытство и укрепила мой дух – не так, как воздух делает хлеб черствым, но как огонь и вода закаляют сталь. Много лет спустя, когда я уже забыл лицо Паскаля Паоли, мысль о той поре мгновенно заставляла меня ощутить мучительный голод и почувствовать аромат диких трав в знойном воздухе. Корсика преподала мне и другой урок, весьма неожиданный: очевидно, я не так уж безнадежно привык к теплу и сытости. В деревенских домах, руинах и пещерах я цеплялся за жизнь со свирепостью, которой гордилась бы Тигрис.
В той тюрьме я видел сеньора Паоли, иначе и быть не может. Однако он в каком-то смысле обошелся со мной справедливо, сохранил мне жизнь. Больше того, ко мне вернулась былая страсть к пище. Его прощальный подарок – головка броччио ди донна, – оказался как нельзя более кстати. Первое поистине необычное угощение за десять лет. У сыра был особый, удивительный аромат. Лишь много позже я осознал, что в тот день попробовал на вкус новые идеи.
Броччио ди донна
Взять две пинты молочной сыворотки, приготовленной из равных частей овечьего и грудного молока, подогреть на равномерном огне в керамическом горшке до температуры тела. (Сколько раз я ни пробовал приготовить броччио ди донна из одного только грудного молока, ничего хорошего у меня не получалось.) Добавить три чайные ложки соли, две трети пинты свежего грудного молока, две трети пинты свежего овечьего молока. Снова нагреть, не доводя до кипения и не позволяя молоку приставать к стенкам кастрюли. Охладить смесь до комнатной температуры. Снять с поверхности сыворотки сыр и процедить сквозь муслиновый лоскут. Получившаяся масса должна быть цвета слоновой кости. Вкус сливочный, насыщенный, почти шелковистый.
Простой броччио ди донна
Подогреть, не доводя до кипения, смесь из двух пинт грудного и двух пинт овечьего молока, добавить бокал хорошего шампанского уксуса (или полстакана свежего лимонного сока) и охладить все до комнатной температуры. Процедить смесь сквозь муслиновый лоскут и посолить створоженный остаток. Съесть в течение дня. Вкус сливочный и насыщенный, но не такой изысканный, как у сыра, приготовленного по первому рецепту.
1770
Возвращение
Я вернулся домой и сразу попал в крепкие объятья сына, который в двенадцать лет уже считал себя слишком взрослым для подобных нежностей. Моя пятнадцатилетняя дочь лишь присела в реверансе. Элен стала так похожа на мать, что я невольно поклонился в ответ. Тигрис в течение двух дней отказывалась меня признавать, а потом целый месяц не отходила от меня ни на шаг и даже спала на пороге нашей комнаты – когда Манон запрещала ей ложиться в изножье кровати.
К тому, как меня встретила Манон, я еще вернусь, сперва позвольте рассказать о ждавших меня письмах. Жером сообщил, что откажется от моих денег за последние четыре года из десяти, в течение которых мне, как главному смотрителю зверинца, не полагалось получать жалованье. Казна вскоре выплатит мне двадцать тысяч золотых ливр – жалованье за этот год и за минувший, когда меня столь вероломно похитили…
Остальное я не дочитал. Письмо Шарлота показалось мне чересчур церемонным. Он делал упор на нерушимые узы дружбы и благодарил Бога за то, что я выжил. Столько всего осталось невысказанным, что я сразу понял: его что-то гложет. Король – за него наверняка писал Жером – выразил мне признательность за подвиг перед Францией и пообещал придворную должность моему сыну. Или же, если таково будет мое желание, Лоран может поступить в армию.
Написал мне и Вольтер. Его письмо понравилось мне куда больше остальных.
Он порадовался моему чудесному спасению, написал о невзгодах, закаляющих человеческий дух, и закончил тем, что отдал дань уважения моим похитителям – все-таки они преследовали благородную цель. Как он понял, я теперь лично знаком с Паскалем Паоли, и ему хотелось узнать мое мнение об этом человеке, его последователях и политических взглядах. Он слышал, что Паоли дал женщинам Корсики право голоса на выборах и что они не только воюют плечом к плечу с мужчинами, но и командуют отрядами. Вольтеру хотелось знать, видел ли я все это своими глазами. «Думается, главное оружие корсиканцев – их отвага. Она столь велика, что в последней битве на реке Голо они соорудили вал из убитых солдат, дабы успеть перезарядить орудия. Храбрецов на свете много. Но отвага, подобная этой, присуща лишь поистине свободным людям». Читая эти строки Вольтера, я вспомнил слова старика-корсиканца, с которым мы шли к Понте-Нуово. «Война касается всех». Впервые в жизни я задумался, правильную ли сторону выбрал.
Как я и надеялся, в первую же ночь ко мне пришла Манон. Она была моя жена, маркиза, она воспитывала моих детей и хозяйничала в замке д’Ому не хуже любой корсиканки, чей муж пал жертвой вендетты. Шарлот в своем письме не раз подчеркивал, что она прекрасно справлялась со своими обязанностями.
Манон один раз стукнула в дверь, распахнула ее и немедленно затеяла ссору.
– Почему ты не писал? Ты должен был писать!
– Манон, меня держали в плену!
– С того дня, как ты покинул наш замок? До сего утра? Ты был в плену все это время? Тебе связали руки и не давали бумагу?
– Меня схватили, как только я высадился на острове. Почти сразу.
– Мог бы написать до того. Из Версаля. И ты мог написать, как только тебя освободили. Когда это произошло? Десять дней назад? Раньше?
Она стояла в белой ночной сорочке на пороге между моей спальней, которая раньше всегда была нашей, и гардеробной, где теперь спала Манон. Она стиснула руки в кулаки и подбоченилась, как разгневанное дитя. Вздохнув, я выбрался из постели и подошел ее обнять. Она меня оттолкнула.
– Почему ты не писал?!
Ее гнев показался мне немного искусственным.
– Что стряслось?
– Как что?! Я думала, ты умер!
– Манон. Что стряслось?
В ее глазах горел вполне искренний гнев, но по какому-то иному поводу. Впрочем, насчет писем она была права. Мне следовало написать ей и перед отъездом из Версаля, и из Кальви, и когда граф де Во послал во Францию гонцов с вестью о моем спасении. Однако злилась Манон по какой-то иной причине. Причем злилась на себя. Я знал ее одиннадцать лет, восемь из которых мы были любовниками, а пять – мужем и женой.
– Манон, объяснись.
Мое раздражение придало ей храбрости. Вскинув подбородок, она ответила:
– Шарлот приезжал. – То, что она назвала его по имени, а не герцогом де Со или просто герцогом, сразу же меня насторожило.
– Шарлот?
– Да. Месяц назад. Он хотел лично сообщить, что кампания графа де Во против Паскаля Паоли близится к концу. Он знал, что я все еще надеюсь на твое возвращение, однако считал это маловероятным. Он решил быть со мной честным – хотя бы из уважения к тебе. А я… – Манон помедлила. – Я сказала: «Вдруг он все-таки спасся?»
– И?
– Шарлот сказал, если ты еще жив, корсиканцы все равно убьют тебя, лишь бы не отдать французам. Он плакал, когда это говорил. – Манон взглянула на меня, и тут уж я увидел в ее глазах неподдельную досаду. – Ты не представляешь, как он тобой дорожит! Шарлот пообещал мне поддержку и защиту. Он согласился найти Элоизе достойного мужа, а Лорана воспитывать как родного сына, взяв на себя управление замком д’Ому до его совершеннолетия.
– Манон, что случилось?
– Мне было одиноко!
Она отвернулась, помолчала немного и шепотом продолжила:
– Тебя не было целый год. И мне стало одиноко. – Манон едва заметно пожала плечами, не поднимая глаз от пола. – Он сказал, ты умер. Я ему поверила. А теперь…
– Я жив.
Слезы брызнули у нее из глаз и побежали по щекам, а оттуда – на сорочку, которая от влаги стала прозрачной. Я взял ее, безропотную, за плечи и пальцами вытер ей глаза.
– Ты же знаешь, я тебя люблю, – сказал я.
– Откуда мне знать? Ты ни разу не говорил…
Вспомнив, сколько раз я говорил это Виржини – даже когда это перестало быть правдой, словно бы ложь могла все исправить, – я задал себе вопрос: что со мной стряслось? Я как будто очнулся от неприятного и постыдного сна.
Манон икнула.
– Подожди здесь.
И я стал ждать ее в собственной спальне, в первую ночь после возвращения домой. Через несколько минут Манон вернулась в расшитом шелковом халате – под полой она прятала кнут с серебряной ручкой, который я подарил ей в первый год нашей семейной жизни. Она тогда училась ездить верхом, и я весьма гордился своей находчивостью.
– Три удара, – сказала Манон.
– Почему три?
Сняв халат, она аккуратно сложила его и повесила на спинку стула.
– Угадай.
Затем Манон повернулась ко мне спиной, задрала сорочку и нагнулась. Я не знал, что она имела в виду:
они с Шарлотом провели вместе три ночи? Или успели лечь трижды за одну ночь? Спросить я не решался и чем больше думал об этом, тем дурнее мне становилось.
– Жан-Мари. Не медли. Это жестоко.
Она все еще ждала, опираясь локтями на кровать, в которую мы должны были лечь вместе: ее обнаженные ягодицы были уже не такими круглыми, как прежде, чуть ниже темнело заветное отверстие. Если я выпорю ее, наши отношения раз и навсегда изменятся, а если нет… Как можно знать наверняка, что они не изменятся и в этом случае? Отшвырнув кнут, я шлепнул Манон по заду с такой силой, что она качнулась вперед. Затем она восстановила равновесие, и я стал шлепать ее вновь и вновь: удары громко звенели в тишине спальни. Позже, когда она лежала в моих объятьях, а мое семя высыхало на ее бедрах, она спросила, почему я не воспользовался кнутом. Я солгал, что не смог бы остановиться, если бы начал.
Манон поцеловала меня в ухо и сказала, что я хороший человек и не должен думать о себе плохо. Я был польщен и хотел ей верить. На рассвете она рассказала мне кое-что еще, и от удивления я даже попросил ее повторить. В свой приезд Шарлот сделал ей удивительное признание – наверняка в темноте и пьяный вдрызг, ибо при свете дня, на трезвую голову такое не говорят. Он часто задавался вопросом, как бы повернулась его жизнь, если бы в той опрокинутой лодке с Виржини оказался Жером. Если бы до дома вместе с ним, Шарлотом, доплыл я. Из этих слов я понял, что Манон известно о нашем детском приключении.
Да, Шарлот в самом деле был очень пьян, когда это говорил, призналась Манон. Пьян настолько, что сказал и вот что: он всегда любил меня больше, чем Виржини, и ее любовь стоила ему нашей, хотя он изо всех сил старался не подавать виду.
– Манон.
– Честное слово, он так и сказал.
– Он имел в виду дружескую любовь.
Она поцеловала меня в ухо.
– Ну разумеется.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.