Текст книги "Государство"
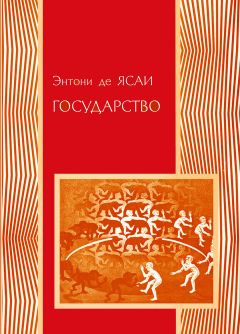
Автор книги: Энтони де Ясаи
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Глава III. Демократические ценности
Либерализм и демократия
Либеральная идеология пропагандирует в качестве политики, ведущей к общепринятым ценностям, политику разделения, которую антагонистическое государство проводит под давлением демократической конкуренции.
«Демократия» – это не другое название для хорошей жизни[128]128
Я имею в виду часто цитируемый cri de coeur [крик души (франц.). – Прим. перев.] С. М. Липсета, что демократия не есть средство для хорошей жизни, это и есть хорошая жизнь (S. M. Lipset, Political Man, 1960, p. 403).
[Закрыть].
Для того чтобы уловить некоторые ключевые особенности либеральной идеологии и практики антагонистического государства, нам может оказаться полезным небольшое размышление о демократии как о процедуре и как о положении дел (предположительно являющемся результатом применения процедуры). Рассматривая рациональные основания подчиняться государству, я утверждал, что политический гедонизм подразумевает согласие с принуждением как нечто сопутствующее выгодам, предоставляемым государством. Функционирование государства, по Гоббсу, способствовало самосохранению или, по Руссо, достижению более широкого спектра целей; реализация этих целей требовала кооперативных решений, которые (как следует из утверждений сторонников теории общественного договора) не могли бы возникнуть, если бы отказ от сотрудничества не наталкивался на устрашение. Главная роль государства заключается в том, чтобы отказ от сотрудничества из наиболее привлекательного варианта (говоря на языке теории игр, «доминирующей стратегии», которой должен следовать рациональный игрок) превращается в запретительно дорогой. Оно может играть эту роль по-разному, в зависимости от сочетания трех ингредиентов – подавления, согласия и легитимности, – которые составляют тот сплав, с помощью которого искусство государственного управления способно обеспечить повиновение.
Ожидания гедониста в принципе могут быть реализованы даже таким государством, которое преследует свои цели, пользуясь для подчинения себе гражданского общества одним лишь подавлением. При условии что цели гедониста ограничены по охвату и умеренны по масштабу, а цели государства напрямую с ними не конкурируют (например, если политическому гедонисту требуется защита от уличных грабителей, а государству – национальное величие), то твердое правительство может одновременно заниматься и теми и другими[129]129
В особенности государство, которое забирает потенциальных грабителей в армию и ведет их мародерствовать в богатых иностранных городах, как это делал Бонапарт в 1796 г. Конфликт возникнет позднее: Бонапарт вскоре начал требовать, по его же выражению, «годовой доход в 100 000 человек» (une rente de 100,000 hommes).
[Закрыть]. Да и капиталистическому государству не обязательно требуется согласие для того, чтобы воплощать свою непритязательную программу, т. е. навязать обществу кооперативное решение, состоящее в уважении к жизни и собственности, противостоять «неминимальным», «некапиталистическим» соперникам и преследовать любые метаполитические цели, какие только можно себе представить; но если бы оно действительно опиралось на согласие, то сомнительно, чтобы оно ограничилось столь скромными задачами.
Легитимное государство – предполагая, что время, его собственное хорошее поведение и удача позволили ему заработать этот редкий статус, – может найти кооперативные решения для осуществления широкого круга целей, выходящих за рамки сохранения жизни и собственности и недостижимых иным способом. Для этого оно может просто попросить подданных действовать соответствующим образом. Но чем больше оно просит, тем больше оно эксплуатирует свою легитимность и тем больше подвергает ее перенапряжению. Даже если его собственные цели абсолютно не конкурируют с целями подданных – а это условие, очевидно, трудно соблюсти, – такому государству все равно придется считать сферу действия любого общественного договора ограниченной (если оно действительно рассматривает свои услуги обществу в договорных терминах). Поэтому кооперативные решения, о которых оно готово попросить, будут лежать в узких границах.
Политическое подчинение, основанное преимущественно на согласии, напротив, не только позволяет общественному договору (или его марксистскому эквиваленту – передаче одним классом власти государству в обмен на последующее подавление другого класса) иметь практически неограниченный масштаб, но и расцветает благодаря его бесконечному расширению. Причина в том, что государство, которому требуется согласие подданных для сохранения власти, в силу своей нерепрессивной природы открыто для реальной или потенциальной конкуренции со стороны соперников, пытающихся перетянуть согласие к себе. Для сохранения власти государство не может ограничиваться внедрением кооперативных решений там, где их ранее не было, потому что его соперники, если они знают свое дело, будут предлагать то же самое и что-то еще дополнительно.
Сделав или согласившись сделать все, что улучшает чье-либо положение, но никому не делает хуже (обычно кооперативные решения трактуются именно так), государство должно идти дальше и еще больше улучшать положение одних за счет ухудшения положения других. Оно должно вести политику по разнообразным направлениям для завоевания согласия классов или слоев, групп интересов и корпораций. В рамках каждого из этих направлений политики в конечном счете производятся межличностные сопоставления. В частности, государство должно предоставлять или убедительно обещать выгоды одним, отбирая что-то у других, потому что не остается выгод, которые никому ничего не «стоят»[130]130
Кооперативные решения лучше всего интерпретировать как исходы игр с положительной суммой, в которых нет проигравших. Но в игре могут быть и выигравшие, и проигравшие, и она все равно будет считаться игрой с положительной суммой. Предполагается, что, помогая одним за счет ущерба для других, государство создает положительную, нулевую или отрицательную сумму. Из этих предположений в строгом соответствии с логикой следует возможность межличностного сравнения полезностей. Например, можно утверждать, что ограбить Петра для того, чтобы заплатить Павлу, – это игра с положительной суммой. Тем самым мы утверждаем, что предельная полезность денег для Павла выше. Вместо этого можно сделать менее жесткое утверждение о том, что действия в пользу Павла являются попросту справедливыми или честными, что он больше заслужил эти деньги или что он беднее. Последний аргумент может содержать в себе апелляцию или к справедливости, или к полезности и благодаря этому, как и любой вздор, обладает силой бесформенности.
[Закрыть]. Тем самым оно должно прийти к благоприятному балансу между потерянным и выигранным согласием (который может совпадать или не совпадать с балансом между согласием выигравших и согласием проигравших). Поиск баланса политических преимуществ фактически неотличим от поиска баланса межличностной полезности, или справедливости, или того и другого вместе, который предположительно лежит в основе максимизации общественного благосостояния или справедливости распределения.
Я предлагаю называть «демократическими ценностями» предпочтения, которые субъекты выявляют, реагируя на действия государства по поиску межличностного баланса. Это предпочтения относительно целей, которые могут быть реализованы только за счет другой стороны. Если другая сторона не соглашается нести потери, то достижение таких целей обычно требует угрозы принуждения. Цели реализуются в ходе установления некоторого типа равенства вместо другого типа равенства или вместо неравенства. Такое равенство можно мыслить себе как преимущественно политическое или преимущественно экономическое. Хотя различие между ними зачастую мнимое, его всегда проводят с уверенностью. Англию Гладстона или Францию времен Третьей республики, например, регулярно бранят за достижение политического равенства при отсутствии экономического. Наоборот, благожелательные критики Советского Союза, Кубы и других социалистических государств считают, что эти страны продвинулись на пути к экономическому равенству, игнорируя равенство политическое.
Шаг к максимизации демократических ценностей делается тогда, когда государство снижает свою способность к подавлению и переносит свою опору на согласие; когда оно полагается не на согласие умных и политически влиятельных собственников, а на согласие широких слоев, например, расширяя избирательное право и делая голосование по-настоящему тайным; и когда оно перераспределяет богатство или доход от немногих ко многим. Но разве эти примеры, охватывающие полностью сферы «политической и экономической» демократии, не показывают, что говорить о «демократических ценностях» излишне? Считать, что все предпочитают больший объем власти и денег меньшему (понимая под властью если не способность доминировать над остальными, то по крайней мере способность противостоять им, т. е. самостоятельность), – это удобное и разумное общепринятое правило. Если некий шаг дает больше власти многим и меньше – немногим, больше денег многим, а меньше – лишь немногим, то большинство одобрит этот шаг. Вот и все. Какой смысл нарекать простое следствие аксиомы рациональности «предпочтением демократических ценностей»? Нам пришлось бы поддержать это возражение и рассматривать демократию просто как эвфемизм для «условий, при которых эгоистические интересы большинства перекрывают эгоистические интересы меньшинства», или аналогичных формулировок, если бы не вероятность того, что для людей имеют ценность такие институты, которые не служат их эгоистическим интересам (альтруизм), или, что может быть даже более важно, люди ценят эти институты, ошибочно полагая, что они действуют в их интересах. Последнее может быть обусловлено не только искренним неведением относительно непредвиденных или непреднамеренных последствий функционирования того или иного института («Действительно ли эгалитаристская политика приносит бедным больше денег с учетом всех или большинства ее последствий для накопления капитала, экономического роста, занятости и т. п.? Действительно ли массы определяют свою судьбу голосованием по принципу “один человек – один голос”?»), но и бесчестным манипулированием, политическим «маркетингом» и демагогией. Из какого бы источника ни происходила эта вера, марксисты вполне разумно назвали бы ее «ложным сознанием», т. е. ситуацией, когда некая идеология принимается теми, чьим рациональным эгоистическим интересам на самом деле служит другая идеология. Предпочтение демократических ценностей, отделенных от собственных рациональных эгоистических интересов, является отличительной особенностью многих либеральных интеллектуалов[131]131
Где либеральному интеллектуалу лучше, в естественном состоянии или при государственном капитализме? Если он не может ответить, но при этом относится к числу как раз тех людей, которые должны подталкивать общество, то в каком направлении ему следует это делать?
[Закрыть].
Демократия, чем бы она ни была сверх того, – это одна из возможных процедур, которой совокупность людей, демос, может воспользоваться для «выбора» из коллективных альтернатив, среди которых нет единогласно предпочитаемых. Наиболее примечательным и важным примером такого выбора является наделение государственной властью. То, как наделяется властью претендент или коалиция претендентов, и, конечно, то, может ли этот выбор быть произведен в любых обстоятельствах и может ли он вообще вступить в силу, зависит от прямого или представительного характера рассматриваемой демократии, от взаимосвязи законодательных и исполнительных функций и от обычаев в целом. Эти зависимости важны и интересны, но несущественны для моей аргументации, и я оставлю их в стороне. Всякая демократическая процедура подчиняется двум базовым правилам: (а) у всех допущенных к осуществлению выбора (у всех членов данного демоса), равные голоса и (б) большинство голосов имеет преимущество перед меньшинством. При таком определении члены центрального комитета правящей партии в большинстве социалистических стран представляют собой демос, который принимает решения по отведенным ему вопросам в соответствии с демократической процедурой, где каждый голос весит одинаково. Это не препятствует тому, что внутрипартийная демократия может по сути представлять собой правление генерального секретаря, или двух-трех «делателей королей» в генеральном секретариате или политбюро, или двух кланов, или двух группировок, построенных на отношениях типа «патрон-клиент» и объединившихся против остальных, или любой другой комбинации, которую могут вообразить политическая наука и злые языки. Более широкие формы демократии могут включать в демос всех членов партии, или всех глав семейств, всех взрослых граждан, и т. д. Серьезной проверкой на демократию будет не состав демоса, а то, что все участники должны входить в него на одинаковых правах.
Это правило может иметь парадоксальные последствия. Оно делает многосоставное, «взвешенное» голосование недемократическим в отличие от афинской демократии или демократии типичного города-государства раннего Ренессанса, где все взрослые граждане мужского пола имели право голоса, но до 9/10 жителей являлись негражданами. Оно фактически гарантирует практику обхода, закулисного «улаживания» или открытого нарушения демократических правил, требуя, чтобы одинаковый вес придавался голосу Козимо де Медичи и голосу любого флорентийского гражданина из «простого народа», одинаковую значимость – генеральному секретарю и областному руководителю, «петуху на куче навоза». Эти размышления следует воспринимать не как жалобу на то, что демократия недостаточно демократична (и требование каким-то образом сделать ее более демократичной), но как напоминание о том, что правило, противоречащее жизненным фактам, неизбежно искажается и ведет к извращенным и фальшивым результатам (хотя это и недостаточный повод отказываться от него). Возможно, нельзя придумать правило, которое не противоречило бы в какой-то степени некоторому важному жизненному факту. Но правило, которое нацелено на то, чтобы сделать чей-либо голос по любому вопросу равным голосу кого-либо еще, prima facie[132]132
Здесь: прежде всего (лат.). – Прим. науч. ред.
[Закрыть] является искажением действительности в сложных, дифференцированных сообществах, не говоря уже об обществе в целом[133]133
Простое, недифференцированное сообщество в этом контексте означает не только то, что все его члены равны (перед Богом, перед законом, по талантам, влиянию, богатству и другим существенным параметрам, которыми обычно характеризуется равенство), но и то, что они все примерно одинаково озабочены каждой из проблем, которые должны решаться демократическим путем от имени всего сообщества. Сообщество равных в обычном нестрогом понимании этого выражения может включать участников с разными родами занятий, принадлежащих к разным половозрастным группам. Они не будут в одинаковой степени озабочены проблемами, которые по-разному затрагивают представителей различных профессий или половозрастных групп, а большинство проблем как раз таковы.
[Закрыть].
Другое базовое правило демократической процедуры, т. е. правило большинства в рамках данного демоса, также может иметь бóльшую и меньшую степень приложимости. Наибольшая степень считается наиболее демократической. Примененное таким образом правило большинства означает, что мини мальное относительное большинство, а при разделении по принципу да/нет – минимальное абсолютное большинство, позволяет добиться своего по любому вопросу. Конституционные ограничения на действие правила большинства, в особенности исключение некоторых вопросов из числа голосуемых, запрет на определенные решения и применение к другим правила не простого, а квалифицированного большинства, нарушают суверенитет народа и, очевидно, должны считаться недемократическими, если только не придерживаться мнения о том, что суверенитет государства, не полностью контролируемого народом, должен быть ограничен именно для того, чтобы демократическими правилами (или тем, что от них осталось после конституционных ограничений) можно было безбоязненно пользоваться.
У меня еще будет повод коротко вернуться к занимательной проблеме конституций в главе 4 (с. 266–276). Пока же будет достаточно заметить, что логически предельным случаем правила большинства будет ситуация, в которой 50 % демоса могут навязать свою волю оставшимся 50 % по любому вопросу, причем какие 50 % являются доминирующими, определяется случайным образом. (Это эквивалентно предложенному профессором Баумолем самому демократическому критерию максимизации блокирующего меньшинства.)[134]134
Интересный факт: законодательство о компаниях в Германии и во Франции предусматривает важное положение о «блокирующем меньшинстве» (Sperrminorität, minorité de blocage), а британское законодательство о компаниях и американское корпоративное право – нет.
[Закрыть]
Демократия по разумным практическим причинам в общественном сознании ассоциируется с тайным голосованием, хотя это и не входит в число существенных правил. Общеизвестно, что оно препятствует некоторым демократическим способам действий (таким, как формирование коалиций или взаимные услуги). Если голосование тайное, то обмены вроде «я проголосую сегодня как нужно тебе, если ты проголосуешь завтра как нужно мне» сталкиваются с проблемой обеспечения исполнения договоренности. По этой же причине невозможно обеспечить достижение цели при прямой покупке голосов, если продавец заключает сделку недобросовестно и не голосует так, как было договорено. Однако гораздо более важным эффектом тайного голосования является снижение или полное устранение риска, с которым сталкивается голосующий, когда голосует против того, кто в итоге оказывается победителем, приобретает власть и возможность наказать голосующего за его выбор[135]135
Ср.: Thomas C. Schelling, The Strategy of Confl ict, 2nd edn, 1980, p. 19. [Русск. пер.: Шеллинг Т. Стратегия конфликта. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 32–33.] Согласно Шеллингу, тайное голосование защищает избирателя. Это, несомненно, так. Но верно и то, что оно превращает его в источник повышенного риска. Попытки коррумпировать, подкупить его становятся чистой лотереей.
[Закрыть].
Что же при всем при этом происходит с демократией, если ее рассматривать как результат коллективных решений, а не особый способ достигать их? Если мы просто согласимся называть демократией положение дел, полученное в результате применения демократической процедуры, каким бы оно ни оказалось (подобно тому, как можно считать справедливостью то, что следует из справедливой процедуры), то никакое «а не» в формулировке данного вопроса, т. е. никакое осмысленное разграничение, будет невозможно. Но демократические правила не обладают тем свойством, что если применяются только они, то разумные люди обязательно согласятся с тем, что результатом этих правил является демократия. Многие разумные люди, на самом деле, считают победу нацистов в Германии на выборах в 1933 г. антидемократической, хотя она стала результатом приемлемого соблюдения демократической процедуры.
Является ли для большинства демократическим результатом то, что власть вручается тоталитарному государству, чьим открыто провозглашенным намерением является подавление конкуренции за власть, а тем самым отмена правила большинства, голосования и всех остальных демократических ингредиентов, – это вопрос, на который нет достаточно очевидного ответа. Подобно праву свободного человека продать себя в рабство, отмену демократии в результате демократического выбора большинства следует рассматривать в контексте причинно-следственных связей, в терминах возможных альтернатив и мотивов этого выбора, а не просто в терминах антидемократических последствий, какими бы тяжелыми они ни были. Каким бы ни оказался окончательный вывод, даже если бы в конце концов выбор в пользу тоталитаризма был признан демократическим, ясно, что его зависимость от фактического контекста исключает простую идентификацию по происхождению, основанную на принципе «демократический, потому что получен демократическим путем».
Если положение дел, устанавливающееся в результате применения признанных демократических правил, не обязательно является демократией, то что тогда ею является? Один из ответов, неявно присутствующий в значительной части политического дискурса XX в., заключается в том, что термин «демократический» просто означает одобрение без жестко определенного содержания. Демократия превращается в хорошую жизнь. Если может быть две точки зрения на то, что представляет собой хорошая жизнь, то может быть две точки зрения и на то, что такое «демократический». Лишь в обществе с очень однородной культурой государство и его соперники в борьбе за власть могут иметь одинаковое представление о демократии. Если претендент считает, что его приход к власти ведет к хорошей жизни, он будет считать демократическим политическое устройство, способствующее этому, и антидемократическим – такое устройство, которое этому препятствует или благоприятствует тем, кто уже находится у власти. Для последних верно обратное.
Непонимание этого ведет к тому, что люди клеймят за цинизм любое применение образа действий, который признан антидемократическим, если им пользуются соперники. Почти идеальным примером этого является жесткий государственный контроль и идеологическое Gleichschaltung[136]136
Унификация, приобщение к господствующей идеологии (нем.). – Прим. перев.
[Закрыть] на французском радио и телевидении начиная примерно с 1958 г., которые подвергались яростным атакам левых до 1981 г. и правых – после. В том, что и те и другие считают контроль со стороны соперника антидемократическим, нет причин предполагать наличие цинизма, поскольку собственный контроль действует во благо, а чужой – во вред, и в аргументации, основанной на этом, нет ничего неискреннего.
Из понимания демократии как хорошей жизни, как желательного положения дел следует, что нарушение демократических правил ради демократического результата может быть необходимым и оправданным. Полностью следуют этой логике только марксисты-ленинисты. Оказавшись у власти и не доверяя близорукости и ложному сознанию избирателей, они предпочитают заранее удостовериться, что исход выборов будет действительно демократическим. Однако в несоциалистических странах, где средства для этого недоступны или не используются, а выборы проходят более или менее в соответствии с классическими демократическими правилами, проигравший нередко считает, что результат оказался недемократическим в результате ненормального, нечестного и несправедливого фактора, например враждебности СМИ, лживости победителя, изобилия его финансовых ресурсов и т. д. Вместе взятые, эти жалобы порождают спрос на внесение изменений и дополнений в демократические правила (например, путем контроля над СМИ, уравнивания средств на проведение избирательной кампании, запрет на ложь) до тех пор, пока они не приведут к правильному результату, каковой и является единственной проверкой их достаточной демократичности.
Демократия не получила полноценного определения ни как конкретная процедура, ни как хорошая жизнь в политическом смысле – т. е. одобряемое нами политическое устройство. Если мы немного сузим применение этого термина, то не потому, что нам не хочется признавать равного права Монголии, Ганы, США, Гондураса, Центральноафриканской Республики и Чехословакии называть себя демократиями, а потому, что попытка сформулировать более узкую концепцию должна осветить некоторые интересные взаимосвязи между демократическим ценностями, государством, которое их создает, и либеральной идеологией. Общая связь этих трех элементов может выглядеть, например, так: демократия – это политическое устройство, при котором государство создает демократические ценности, а либеральная идеология приравнивает этот процесс к достижению высших, всеобщих целей.
Согласно нашему определению, демократические ценности создаются государством в результате межличностных сопоставлений; например, оно демократизирует избирательное право или распределение собственности в том случае и в такой степени, в какой оно ожидает получить от этого шага чистый прирост поддержки в свою пользу. Но оно вело бы ту же самую политику, если бы мотивацией вместо рационального эгоистического интереса служила любовь к равенству. Поэтому не существует эмпирического теста для того, чтобы отличить просвещенный абсолютизм императора Иосифа III и Карла III Испанского от популизма Хуана Перрона или Клемента Эттли; все они, с точки зрения внешнего наблюдателя, создавали демократические ценности. В то же время у нас есть основания считать, что первые двое, в своей власти почти не опиравшиеся на народную поддержку, не были обязаны заниматься этим и сделали свой выбор, исходя из своих склонностей и политических убеждений. Причинно-следственная связь, таким образом, оказывается направленной от предпочтений монарха к политическому устройству и его демократическим свойствам. С другой стороны, вполне убедительным было бы предположение о том, что независимо от наличия у Перрона или Эттли эгалитаристских убеждений и желания возвысить рабочего человека (а у них все это было), потребность в согласии для завоевания и сохранения власти все равно заставила бы их вести ту политику, которую они вели. Тогда можно предположить, что причинно-следственные связи образуют круг, который состоит из любви государства к власти, его потребности в согласии, рациональных эгоистических интересов его подданных, удовлетворения выигравших за счет проигравших и оправдания всего этого процесса либеральной идеологией в терминах неоспоримых, окончательных ценностей – т. е. из всего взаимозависимого множества факторов, принимающих форму политического устройства с демократическими чертами.
Два типа причинности, один из которых действует при просвещенном абсолютизме, а другой при демократии, можно различить в априорном смысле, если дать им обоим, так сказать, действовать в «обществе равных», в котором все подданные (кроме преторианской охраны, если таковая имеется в конкретном случае) равны по крайней мере в таких аспектах, как политическое влияние, талант и деньги. Просвещенный абсолютный монарх, предпочитая равенство и видя, что его подданные равны, в целом удовлетворился бы политическим устройством, как оно есть. Но демократическое государство конкурировало бы с соперниками за народную поддержку. Соперник мог бы попытаться разделить общество на большинство и меньшинство, найдя некую характеристику (такую, как вероисповедание, цвет кожи, род занятий и т. д.), по которой люди были бы не равны; а затем постараться получить поддержку большинства, предлагая пожертвовать ради него частью интересов меньшинства, например его деньгами. Поскольку политическое влияние у всех одинаково (один человек – один голос, простое правило большинства), то, если все следовали бы своим эгоистическим интересам, действующая демократическая власть уступила бы демократическому сопернику, если бы сама не начала неэгалитаристскую политику и не предложила бы, например, передать большинству бóльшую часть денег меньшинства[137]137
Правило большинства, когда голоса подаются в полном соответствии с интересами, неизбежно приведет к некоторому перераспределению, а значит, и неравенству в обществе равных. В обществе неравных, аналогичным образом, всегда будет существовать большинство, выступающее за перераспределение. Как заметил Амартия Сен, можно организовать большинство, выступающее за перераспределение даже за счет бедных. «Выберем беднейшего индивида, отберем половину его доли, выбросим половину от нее, а остаток разделим среди остальных. Мы только что улучшили положение большинства» (Amartya Sen, Choice, Welfare and Measurement, 1982, p. 163). Однако конкуренция гарантирует, что большинство сможет предложить для голосования более привлекательные, более богатые альтернативные варианты перераспределения, т. е. что перераспределение не будет происходить за счет бедных. При наличии выбора эгалитаристское перераспределение будет предпочитаться неэгалитаристскому, потому что потенциальный выигрыш в перераспределении от богатых к бедным всегда выше, чем в перераспределении от бедных к богатым.
[Закрыть]. (Условия равновесия при такой конкуренции описаны в главе 4, с. 282–290). То есть в обществе равных демократия действует в смысле, противоположном уравниванию, которое мы с ней ассоциируем; используя некий удобный критерий для отделения одних подданных от других, ей придется сформировать большинство и пожертвовать ради него меньшинством, а конечным эффектом будет некоторое новое неравенство. Это неравенство будет функционировать как демократическая ценность, одобренная большинством. Если демократия и вела когда-либо к созданию «общества равных», то это, вероятно, происходило в соответствии с такими принципами, в реализации которых она могла бы пойти дальше, требуя лишь идеологической корректировки, проделать которую не так уж и сложно.
В последней исторической корректировке такого рода, начавшейся примерно в одно время с нынешним веком и заменившей государство – ночного сторожа на государство – социального инженера, идеология усовершенствования государства поменялась практически полностью, за исключением названия. Благодаря потрясающей метаморфозе, которая произошла с понятием «либеральный» за последние три поколения, исходный смысл этого слова безвозвратно утерян. И теперь бесполезно кричать «держи вора!» – на тех, кто этот смысл украл. Говорить о «классическом» либерализме или пытаться воскресить исходное значение в каком-то ином виде – все равно что говорить «горячо», имея в виду и «горячо» и «холодно». Применение мною термина «капиталистический» объясняется как раз желанием избежать подобного двусмысленного словоупотребления и обозначить этим термином по крайней мере смысловое ядро первоначального значения термина «либеральный».
В надежде на то, что это поможет частично развеять семантический туман, я буду пользоваться термином «либеральный» как современным сокращенным обозначением политических доктрин, направленных на то, чтобы подчинить индивидуальное благо общему (не оставляя нерушимых прав) и возложить реализацию последнего на государство, опирающееся преимущественно на согласие[138]138
Более мудрые головы, вероятно, решат, что с моей стороны безрассудно предлагать определение либерализма, учитывая, что «это столь обширный интеллектуальный компромисс, что он включает большинство самых влиятельных убеждений в современном западном общественном мнении» (Kenneth R. Minogue, The Liberal Mind, 1963, p. viii, курсив мой. – Э. Я.).
[Закрыть]. Общее благо большей частью состоит из демократических ценностей, которые могут быть любыми в зависимости от того, что потребуется для сохранения согласия. Но кроме этого общее благо также требует достижения других, все более многочисленных и разнообразных целей, для которых в тот или иной конкретный момент времени нет поддержки большинства. Сегодня примеры таких целей включают расовую десегрегацию, отмену смертной казни, запрет ядерной энергетики, компенсацию последствий дискриминации [affirmative action], эмансипацию гомосексуалистов, помощь слаборазвитым странам и т. д. Эти цели считаются прогрессивными, т. е. в будущем должны стать демократическими ценностями[139]139
Либералы поддерживают эти цели сегодня не в расчете на то, что большинство людей будет поддерживать их завтра. Они, скорее, рассчитывают на то, что большинство поддержит эти цели, потому что эти цели являются ценными. И тот и другой довод является достаточным, чтобы сесть в вагон до того, как поезд уйдет. Однако второй довод свидетельствует для либералов о том, что с моральной точки зрения этот вагон заслуживает того, чтобы в него садиться.
[Закрыть]. Согласно либеральной доктрине, гражданское общество способно контролировать государство, а последнее тем самым неизбежно является благотворным институтом, и достаточно соблюдения демократической процедуры, чтобы ограничить его роль выполнением общественного мандата, являющегося, в свою очередь, некой суммой предпочтений общества.
При такой природе государства в либеральной доктрине возникает некоторая неловкость в отношении свободы как неприкосновенности – ограничения, которое может привести к отрицанию приоритета общего блага. Там, где неприкосновенность очевидным образом представляет собой привилегию, доступную не каждому, как это, очевидно, было в Западной Европе по крайней мере до середины XVIII в., либерализм противостоит ей. Либеральный метод, как правило, заключается не в том, чтобы распространять неприкосновенность как можно шире, как если бы этого было недостаточно для установления равенства, а в том, чтобы по возможности отменить ее. Тоуни, один из самых влиятельных разработчиков либеральной идеологии, по этому поводу красноречиво выразил эту мысль: «[Свобода] не только сочетается с условиями, в которых все люди в равной степени являются слугами, но и находит в таких условиях свое наилучшее выражение»[140]140
R. H. Tawney, Equality, 1931, p. 241, курсив в оригинале.
[Закрыть]. «Она исключает то общество, где лишь некоторые являются слугами, а остальные – хозяевами»[141]141
Сравните с диагнозом Токвиля: «On semblait aimer la liberté, il se trouve qu'on ne faisait que haïr le maître» («Людям только кажется, что они любят свободу, – на самом деле они только ненавидят своего господина»). (C. A. H. C. de Tocqueville, L’ancien régime et la révolution, Gallimard, 1967, p. 266. Англ. пер.: The Ancien Regime and the French Revolution, 1966. [Русск. пер.: Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М.: Московский философский фонд, 1997. С. 133]).
[Закрыть]. «Подобно собственности, с которой она была в прошлом тесно связана, свобода в таких обстоятельствах становится привилегией класса, а не принадлежит всей нации»[142]142
Tawney, Equality, p. 242, курсив мой. – Э. Я.
[Закрыть].
То, что свобода наиболее совершенна, когда все являются слугами (даже более совершенна, чем если бы все были хозяевами), отражает предпочтение в пользу понижения всех до одного уровня. Свободе противоречит не состояние порабощения, а наличие хозяев. Если нет хозяев, а есть лишь слуги, то они должны служить государству. Когда порабощение есть порабощение государством, свобода достигает апогея; лучше, чтобы ни у кого не было собственности, нежели она была бы у некоторых. Равенство и свобода являются синонимами, хотя это тождество несколько затуманено. Едва ли можно было бы уйти дальше от идеи о том, что они являются конкурирующими целями.
Даже если бы свобода, понимаемая как неприкосновенность, не была всего лишь еще одним измерением человеческой жизни, в отношении которого равенство может нарушаться, подобно деньгам, удаче или происхождению, либералы все равно противились бы этой идее. Даже когда мы все обладаем неприкосновенностью, неприкосновенность одних сокращает способность государства помогать другим, а следовательно, ведет к снижению производства демократических ценностей; даже равная свобода, понимаемая как неприкосновенность, вредит общему благу[143]143
В своем классическом труде Origins of Totalitarian Democracy (1960) Дж. Л. Талмон (J. L. Talmon), постулировав, что теперь существует либеральная демократия и тоталитарная демократия, но когда-то они представляли собой единое целое, не может точно установить момент, когда произошел раскол между ними. Он ищет его в основном в период Великой Французской революции и в ее окрестности, не утверждая, что обнаружил его. Может быть, этот раскол найти и вовсе невозможно; может быть, его никогда и не было.
Талмон, по-видимому, неявно опирается на эту точку зрения, характеризуя демократию как фундаментально нестабильный политический принцип, потенциальное чудовище, которое должно быть надежно встроено в капитализм, чтобы не представлять угрозы. Он не задается вопросом о том, как этого добиться. Как поймет читатель, добравшийся до этого места, один из доказываемых мною тезисов состоит в том, что это невозможно. Демократия не поддается «встраиванию в капитализм». Она его поглощает.
[Закрыть].
Это особенно ярко проявляется в том, как либеральная мысль рассматривает собственность. Частная собственность, капитал как источник уравновешивающей силы, укрепляющий структуру гражданского общества в противовес государству, раньше считались ценными как для тех, кому что-то принадлежит, так и для тех, кому не принадлежит ничего. Либеральная мысль эту ценность больше не признает. Она считает, что демократическая процедура является источником неограниченного суверенитета и может с полным правом изменять или отменять титулы собственности. Выбор между использованием частных доходов на частные или общественные цели, так же как и между частной и общественной собственностью в более широком смысле, может и даже должен делаться и подвергаться постоянному пересмотру, исходя из стремления к таким аспектам общего блага, как демократические ценности или эффективность.
Эти критерии должны регулировать преимущественно масштаб и способ государственного вмешательства в частные контракты в целом. Например, «политика цен и доходов» является правильной, и ее следует принять независимо от нарушения частных договоренностей, к которому она приводит, если она помогает бороться с инфляцией без вреда для эффективности распределения ресурсов. Если она вредит последней, ее все равно следует принять в сочетании с дополнительными мерами для компенсации этого ущерба. Либеральная мысль почти никогда не испытывает недостатка в дополнительных мерах как для реализации основного шага, так и для преодоления непредвиденных эффектов, которые он может породить, и этот процесс может продолжаться бесконечно в надежде на достижение исходной цели. (Вероятно, мера, принятая сегодня, является n-м эхом некоторой более ранней меры в том смысле, что потребность в ней в данной конкретной форме не могла возникнуть без предшествующих мер; и поскольку эхо не демонстрирует никаких признаков затухания, у n есть все шансы вырасти до очень большого значения.) Тот факт, что одна мера влечет за собой каскад производных мер, является не аргументом против нее, а вызовом для правительства, творчески подходящего к делу. Тот факт, что такому творческому правительству требуется нарушить права собственности и свободу контрактов, является аргументом за или против него не в большей степени, чем необходимость разбивать яйца является аргументом за или против омлета.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































