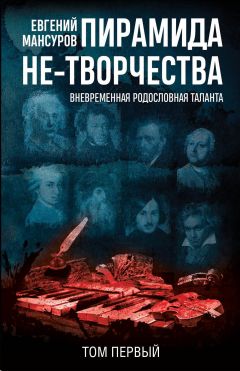
Автор книги: Евгений Мансуров
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Три принципа общества большинства
а) «Порочный человек делает только порочные открытия»На оценки гениев современниками и потомками огромное влияние оказывали противоречия в жизни и творчестве первых. Они озадачивали одних, способствовали глубокому пониманию человеческой сущности величайших умов другими, вызывали злорадство у третьих. Мировая литература о великих людях полна указаний на их противоречия, на несоответствие призывов к добру и личного их поведения, на обескураживающие многомиллионных почитателей изъяны их нравственности…» (из книги Н.Гончаренко «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.). Решение проблемы иным видится в переоценке их творчества, которое «всегда отражает душу художника-творца». И если это «тёмная ночь души», то… Ещё труднее приходится начинающему автору, оскорбляющему тщеславие «общества большинства».
Сколько их было, молодых и честолюбивых, начавших поход за славой без гроша в кармане! Чтобы опубликовать свою поэму, Томас Чаттертон (1752–1770) выдал её за архивную рукопись некоего средневекового монаха и поэта по имени Томас Роули. Ознакомившись с «эпосом 15-го столетия», литературный мир пришёл в восторг. Когда же его истинный автор – 16-летний прожигатель жизни, находившийся в состоянии хронического безденежья, – попробовал говорить от себя, ему напомнили, как, например, это сделал X.Уолпол, что поэзия – занятие для джентльменов, а не для простолюдинов. «Больнее уязвить самолюбивого юношу, страдающего от своего униженного положения, было невозможно», – констатирует Г.Чхартишвили в книге «Писатель и самоубийство», Россия, 1999 г.). Молодой автор ещё не знал, что «литературный мир», равно как и «научное сообщество», придерживается ранжира заслуг, где трудно найти место начинающему таланту и практически невозможно – «инфант терриблу», разрушающему устои общественной жизни. Молодой же шалопай был «горд, как Люцифер» и полагал, что звание поэта оправдает любые его безрассудства. И, в самом деле, остается только гадать, как «мог возникнуть этот феномен-вундеркинд, который в 17 лет какой-то вулканической вспышкой поэтического дара стимулировал новый поворот в развитии европейской культуры?» (А.Шувалов, 2004 г.).
Эваристу Галуа (1811–1832) было шестнадцать, когда он усомнился в постулатах математики и начал самостоятельные исследования там, где аксиомы уступали место туманным предположениям. С прозорливостью гения он пришел к революционному открытию. Однако его доказательства были слишком смелы, дерзки, оригинальны. Бросив вызов крупнейшим авторитетам своего времени, Э.Галуа прошел через насмешки, интриги, оскорбления. Потом, как в лучших детективных романах, его рукопись пропала со стола эксперта. «По просьбе С.Пуассона, известного математика того времени, Э.Галуа восстановил текст одного из утерянных исследований. Но и Пуассон оказался бессилен разобраться в нем. Он писал: «Мы приложили все усилия, чтобы понять доказательства мсье Галуа. Его рассуждения недостаточно ясны, недостаточно развернуты и не дают возможности судить, насколько они точны. Мы не в состоянии даже дать в этом отзыве наше мнение о его работе…» …» (из книги А.Сухотина «Парадоксы науки», СССР, 1978 г.). А написать новый труд уже не хватило ни времени, ни сил. К моменту роковой дуэли Галуа было 20 лет. Только двадцать лет! «Охота есть, да мало мозгу!» – вероятно так рассуждали его недальновидные современники. И прошли десятилетия, прежде чем вклад Э.Галуа был оценен по достоинству, прежде чем он сам стал красивой романтической легендой с домыслами не до конца известных обстоятельств жизни и смерти.
«Известно, что характер человека имеет органическую связь с его умственной деятельностью, как бы отвлеченна ни была эта последняя… К воображению принято относиться с большим недоверием: Евклиду привыкли верить, и очень естественным является вопрос: если геометрия Николая Лобачевского (1792–1856) – не Евклидова, то может ли она быть истинной?.. Лобачевский же имел смелость печатать свои сочинения, относящиеся к этому предмету. И в этом смелом шаге, может быть, проявилось то русское «ничего», о котором говорил Бисмарк…» (из очерка Е.Литвиновой «Н.И.Лобачевский. Его жизнь и научная деятельность», Россия, 1895 г.). «Уже в университете к Николаю Лобачевскому было особое отношение. Сокурсники восхищались его выдумками, лихими проделками, а то и безобразиями. Так, однажды он смастерил ракету и ночью запустил её на университетском дворе, едва не учинив пожар. Вызвав переполох, не признавался поначалу в содеянном и угодил в карцер. В другой раз привёл корову, уселся на неё верхом и стал потешать товарищей, изображая вольтижировку… Естественно, последовало наказание. Короче говоря, на педагогических советах частенько склонялось его имя: то как ослушника, охальника и безобразника, то как весьма сообразительного, способного ученика. Инспектор посвятил ему фискальное донесение в педсовет. По его словам, Лобачевский позволяет «мечтательное о себе самомнение, упорство, неповиновение, грубости, нарушения порядка и отчасти возмутительные поступки»…» (из сборника Р.Баландина «100 великих гениев», Россия, 2007 г.). Как смутьяна принял Лобачевского и научный мир. Его «воображаемая» геометрия нашла, например, в российской прессе 1840-х годов такой отзыв: «Даже трудно понять, каким образом г. Лобачевский из самой лёгкой и самой ясной в математике, какова геометрия, мог сделать такое тяжёлое, такое тёмное и непроницаемое учение… Для чего же писать, да ещё и печатать такие нелепые фантазии?..»
«Другие люди» бывают оскорблены до глубины души, обнаружив несоответствие между жизнью художника и его творчеством. Они просто не в состоянии примирить одухотворённую музыку Людвига ван Бетховена (1770–1827) с его скверным характером, божественные экстазы Рихарда Вагнера (1813–1883) с его эгоизмом и нечестностью, нравственную нечистоплотность Мигеля Сервантеса (1547–1616) с его нежностью и великодушием. Иногда, в порыве негодования, они пытаются себя убедить, что и произведения таких людей не столь замечательны, как им казалось… Им начинает казаться, что всё с самого начала было ложью. «Какие же это подлые обманщики!» – говорят они…» (из книги С.Моэма «Подводя итоги», Великобритания, 1938 г.).
«Качества такого «взъерошенного» искателя правды обычно переносятся противоположной стороной на его открытие. Отрепетированный приём, он называется argumentum ad hominum (апелляция к человеку). Суть его такова: чтобы дискредитировать идею, достаточно бросить тень на её отца, в биографии которого всегда можно при желании отыскать непонятные места и разыграть возмущение» (из книги А.Сухотина «Превратности научных идей», СССР, 1991 г.).
Так, может быть, действительно, все дело в их творениях – в судьбе, от которой не убежишь? В этих «числах-уродах» (Дж. Кардано), сметающих стройные ряды математических формул? В этой нелинейной геометрии (Н.Лобачевский), идущей встык с античным совершенством Эвклида? В этих Заумных «Аналитических машинах» (Ч.Бэббидж), где окончательный успех так проблематичен, а материальные затраты столь велики, что можно, наконец, понять и решение правительства не поддерживать сомнительный эксперимент?
б) «порочное» открытие есть свидетельство порочности самого человека»Занимая «промежуточную» ступень между учёными и деятелями искусства, русский историк Василий Ключевский (1841–1911) отмечал «дурную неблаговоспитанную привычку или наклонность враждовать с людьми, воюя с их научными идеями, как будто научная идея, даже ошибочная, неудачная, есть порок или преступление, а не просто ошибка мысли или неудача» (из очерка «Памяти М.Н.Погодина», Россия, 1875 г.). Однако от вражды к людям творческим предостережения эти, как и многие другие, мало кого уберегли.
«Во время занятий в Парижском университете анатомией и физиологией Роджер Бэкон (ок.1214–1292) изучал также эффекты преломления световых лучей и шлифовал стёкла… Говорят, будто в старости учёный и сам пользовался таким стеклом-помощником. Во всяком случае, на исходе жизни Р.Бэкон 14 лет провёл в одиночной камере монастырской тюрьмы, куда его бросила инквизиция за связь… с дьяволом. И виной были выставлены как раз отшлифованные стёкла, сквозь которые, дескать, мир виден вовсе не таким, как его создал господь Бог…» (из книги А.Сухотина «Превратности научных идей», СССР, 1991 г.).
«Ещё в 17-м столетии выдающийся естествоиспытатель и философ Р.Декарт предупреждал: когда пишешь о трансцендентальных проблемах (то есть проблемах, выходящих за пределы сущего), будь трансцендентально ясен. Однако для Николая Лобачевского (1792–1856) дело приняло вовсе не шутливый поворот… Он отстаивал свою теорию «воображаемой» геометрии вопреки убеждениям учёного мира, общественному мнению и, уж конечно, наперекор здравому смыслу, которым нередко вооружено невежество… Это, а также ряд других обстоятельств привели к тому, что в 1846 году его лишили – вопреки ходатайству учёных – должности ректора Казанского университета, а через год освободили от должности профессора и вообще от всех занимаемых должностей, которые он в университете нёс…» (из книги А.Сухотина «Парадоксы науки», СССР, 1978 г.).
«А французский академик Жан Рише (1630–1696) – обнаружил непостоянство длины секундного маятника с широтой, что тогда казалось ложным и компрометирующим. Поэтому открытие лишило его доверия, так что практически он не принимал до самой смерти участия в работах академии…» (из книги Е.Регирера «Развитие способностей исследователя», СССР, 1969 г.).
«Ещё Карла Гаусса (1777–1855), одно время увлёкшегося комплексными значениями, стали подозревать в патологической наклонности, а уж Джероламо Кардано (1501–1576), когда он вводил их, меньше чем душевнобольным и не числили…» (из книги А.Сухотина «Превратности научных идей», СССР, 1991. г.). Да, опять о «ненормальности» Дж. Кардано, ибо свойство его «чисел-уродов» не укладываться в привычные для того времени числовые ряды распространялось на него самого. Современники отказывались видеть в его лице серьезного исследователя (только потомки по-настоящему оценили его «карданов вал»), характеризуя как человека неудержимого темперамента, ведущего беспорядочный образ жизни. Невозможность однозначной оценки такой личности привела к тому, что Джироламо Кардано стал загадкой для современников и многочисленных биографов. «Современники говорили, что это умнейший из людей и в то же время глупый как ребенок» (Ч.Ломброзо, 1863 г.). Не добавили ясности и архивные изыскания потомков: «Одни биографы утверждают, что он страдал «манией величия и манией преследования», другие, наоборот, находили у Кардано «комплекс неполноценности»…» (Р.Гутер и Ю.Полунов, 1980 г.). Возможно, имело место и то, и другое, когда его «бредовые идеи» («голоса из мрака», «вещие сны» и т. д.) только оформлялись в конфронтации с «обществом большинства».
«Луиджи Гальвани (1737–1798) именовали «лягушачьим танцмейстером», высмеивая его работы как ненаучные на том основании, что он мог допустить, что давно умерщвленные лягушки могут вздрагивать от прикосновения металла» (из книги Е.Регирера «Развитие способностей исследователя», СССР, 1969 г.). Однако «шарлатан» Гальвани не только это допускал: заинтересовавшись способностью мёртвого препарата проявлять жизненные сокращения под воздействием разряда искры («мышцы, действительно, начинают немедленно сокращаться…»), он открыл новый источник электричества!
А философ Томас Гоббс (1583–1679)? Уж лучше бы он не так рьяно занимался вопросами социальных отношений и не выводил своего знаменитого «закона войны всех против всех»! О том, что Государство всячески притесняет Личность, знали и до него. Но ещё никто так ярко и убедительно не сравнивал аппарат государственной власти с библейским чудовищем Левиафаном, несущим разрушение и смерть из ада морских глубин (трактат «Левиафан, или Материя, форма и власть государства», Англия, 1651 г.). Объявив его самого скопищем пороков, чуть ли не воплощением зла, власти травили философа при жизни и не оставили в покое после смерти. Кличка «гоббист» сделалась в Англии синонимом «Атеиста» и «разрушителя основ». А он, вопреки молве, был государственником до мозга костей и завещал на своём надгробии выбить эпитафию, полную укора и несгибаемого достоинства: «Здесь лежит истинно философский камень»…
Если «общество большинства» так мало ценит заслуги учёного мужа, всячески принижая значение его великих открытий и законов жизни государств, оно тем более не склонно щадить репутацию художника-творца, дерзнувшего предложить «безнравственное» художественное произведение.
«При всех человеческих слабостях величайшие таланты науки и искусства ни в личной жизни, ни в творчестве вседозволенностью не пользовались, – прежде всего спешит отметить психолог Николай Гончаренко. – Хотя некоторые шедевры мирового искусства могут дать повод для противоположного мнения. Например, А.Лосев («Эстетика Возрождения», СССР, 1978 г. – Е.М.), основываясь на примерах грубо натуралистических описаний у Франсуа Рабле (1494–1553), приходит к выводу, что «реализм Рабле есть эстетический апофеоз всякой гадости и пакости»…» (из книги «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.). Ничего возвышенного, разумеется, не видели и современники: «Книга Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», Франция, 1533-52 гг. – Е.М.) сразу приобрела много врагов. Её читали нарасхват, над ней от души хохотали и во дворцах, и в домах простых граждан, но суровые доктора Сорбонны встретили её неодобрительно и объявили произведением, оскорбляющим нравственность. Вероятно, и сам автор не избег бы преследования, если бы не покровительство сильных друзей…» (из очерка А.Анненской «Франсуа Рабле, его жизнь и литературная деятельность», Россия, 1892 г.). Однако эти сильные покровители были не настолько влиятельны, чтобы защитить Рабле от обвинений «в развращении нравов своего века». А может ли развращать праведник? Вот и готов приговор автору «непотребной» книги: его обвиняли в безбожии, в богохульстве, в глумлении над святынями веры, выставляли пьяницей, обжорой, циником, человеком безнравственным… Никаких подобных грехов Рабле за своей душой не имел. А в своей дерзкой, свободолюбивой книге, где ничего не сковывает пытливости ума, полёта фантазии он говорит о праве отдельной личности жить полной жизнью как тела, так и духа. Как неудобно это «право на выбор» без заранее обещанного читателю «права на моралитэ»!
Сам Рабле уповал на могучую силу времени, которое «сокрушит тупость и невежество и даст в конце концов истине победу над ложью». Его «сотоварищи по перу» едва ли могли разделить его оптимизм, видя перед собой примеры совсем иного рода…
«Еврипид (ок.480–406 до н. э.) был обвинён в атеизме, когда он вывел на сцену человека, отвергавшего бытие богов. Кларк обвинял Джона Мильтона (1608–1674) за нечестие его сатаны; а враг Уильяма Шекспира (1564–1616) мог бы упрекнуть его за чрезвычайно верное изображение ужасного злодея Яго…» (из трактата И.Дизраэли «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1895 г.). «Разве была бы возможна литература, если бы благородное сердце Фридриха Шиллера (1759–1805) могло быть заподозрено в соучастии с преступлениями Франца Моора, ужаснейшего создания, самого закоренелого из всех злодеев, когда-либо выведенных драматургом на сцену (из предисловия О.Бальзака к первому изданию романа «Шагреневая кожа», Франция, 1831 г.).
Воображение читателя вообще непредсказуемо. На примере же Фредерик-Леметра (1800–1876) мы можем видеть, как не литератор, а актёр награждается публикой всеми пороками героя «антиобщественной» пьесы. «Сначала Фредерик-Леметру приписывали все пороки и эксцентричность Робера Макэра (роль беглого каторжника в мелодраме «Постоялый двор Адре», Франция, 1823 г. – Е.М.), репутацию беспутного гения. Вера зрителей в подлинность сценических героев актёра странным образом оборачивалась против него. Свистопляска клеветы и сплетен предельно осложняла жизнь Фредерика» (из книги Е.Финкельштейн «Фредерик-Леметр», СССР, 1968 г.).
Современники отмечали проникновенную, нечеловеческую игру Никколо Паганини (1782–1840): «Рука гения коснулась сухих формул, и они преобразились, возникли причудливые картины, засверкали характерные, гротесковые образы и везде – предельная насыщенность и динамичность, ошеломляющая виртуозность. Ничего подобного не создавала художественная фантазия до Паганини, не смогла создать и после…» (из сборника Д.Самина «100 великих композиторов», Россия, 1999 г.). Однако сразу же появились сомнения в кознях сатаны: «Скрипка в руках Паганини – орудие психики, инструмент души, которую он продал дьяволу. Этот колдун питается мозгом убиенных младенцев и сделал струны своей скрипки из кишок убитой и замученной им жены»… «У меня остаётся одна надежда, – писал Паганини, – что после моей смерти оставят меня в покое те, кто так жестоко отомстил мне за мои успехи скрипача, что не нарушат покоя моего и не оскорбят имени моего, когда я буду лежать в родной земле». Его надежда не оправдалась. «Да не будет он предан земле кладбищенской!» – был вердикт святой церкви. Обвинённого в чародействе скрипача ожидали полувековые посмертные скитания…
«О том, насколько далеко художник может отступать от общепринятых норм, свидетельствует творчество Людвига ван Бетховена (1770–1827), произведения которого «так резко отличались от привычной в те времена музыки, что многие современники считали Бетховена безумцем»…» (из книги Ю.Борева «Эстетика», СССР,1969 г.).
«Безумец? Но безумие перестало быть понятием чисто медицинским. Тогда и писатели выводили героев-безумцев, которые могли говорить и думать то, что не позволялось нормальным людям. Тема безумия, рассказы о сумасшедших не случайно появляются с конца 1820-х годов. Рассказы Владимира Одоевского (1803–1869), повести Николая Гоголя (1809–1852), поэмы и повести Александра Пушкина (1799–1837), безумным объявляли Чацкого, а за ним и живого Петра Чаадаева (1794–1856). Самого Пушкина считали безумцем. В. Жуковский в 1834 году раздражённо пишет Пушкину, что ему «надо бы пожить в жёлтом доме»… Они безумцы, эти редкие люди, время от времени встающие поперёк дороги. Их глас вопиет в пустыне. Они лишние люди, чуждые обществу…» (из книги Д.Гранина «Тринадцать ступенек», СССР, 1984 г.).
«Нелегко убедить публику в том, что писатель – может описать преступление, не будучи преступником! – констатирует Оноре де Бальзак (1799–1850). – Но разве самые мрачные из трагических авторов не были обычно людьми кроткими и склонными к патриархальным нравам?» (из предисловия к первому изданию романа «Шагреневая кожа», Франция, 1831 г.). «Мы не должны, таким образом, принимать, что тот, кто энергически описывает порок, сам порочен, – иначе мы оскорбим достойнейшего человека, – предостерегает Исаак Дизраэли (1766–1848). – Но мы не должны и думать, что тот, кто прославляет добродетель, сам по себе добродетелен, – иначе мы можем довериться сердцу, которое, зная всю цену добра, стремится на пути ко злу…» (из трактата «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1795 г.).
в) «Открытие становится «порочным», если им пользуются порочные люди в порочных целях»«Никколо Макиавелли (1469–1527) упрекали за то, что он распространял политическую систему (в трактате «Государь», Италия, 1513 г. – Е.М.), которая будто бы ниспровергала понятие о чести и даже покушалась на самоё человеческое благополучие; но разве Макиавелли создал свой век или век, который приготовил появление Макиавелли? Живя посреди маленьких итальянских княжеств, где интриги и убийства считались обыкновенными занятиями придворных, что лучшего мог предпринять этот оклеветанный гений, как не сорвать завесу, скрывающую эти разбойничьи вертепы?.. Он строил свои системы злодейств «как наблюдатель» а не как преступник»…» (из трактата И.Дизраэли «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания,1795 г.).
«Государь» Микиавелли позднее был узаконен в качестве нормативного акта государственных деятелей («Это единственная книга, которую можно читать» – Наполеон) и активно осуждён «властителями дум», начиная с Вольтера и Ш.Монтескьё. Единодушия и не могло быть, ибо Макиавелли взялся исследовать сокровенные механизмы власти. На этом поприще скорее можно нажить непримиримых врагов или тайных недоброжелателей, нежели объективных критиков и искренних друзей. Но остаются надежды на признание потомков.
«В настоящее время склоняются к тому, что Макиавелли испытывал меньше всего восторга в связи со своими глубокими размышлениями о человеческой душе», – пытается воздать должное «принципиальной объективности» итальянца психотерапевт Антон Ноймайр («Художники в зеркале медицины», Австрия, 1995 г.). А французский писатель Жан Жионо (1895–1970), начавший в 1947 году рад своих литературных «Хроник», берёт «Государя» Макиавелли под решительную защиту: «Это первая рентгеноскопия человека, может быть, даже единственная чистая объективность, одно из бесстрастных изучений страсти, словно исследование математической проблемы».
Макиавелли был бы рад услышать такие слова, но при жизни он их не дождался…
Или другой исторический факт на тему «кто создаёт свой век». Изобретение динамита позволило Альфреду Нобелю (1833–1896) учредить ежегодные премии в области литературы, искусства и науки, однако источник дохода, принёсший столько смертей и увечий вместо выгод «мирных взрывов» во имя прогресса науки и техники, вызвал протест ряда международных пацифистских организаций, призывавших к бойкоту премий «имени шведского изобретателя оружия А.Нобеля».
Протесты ширились. Человек, изобрётший динамит, был напрямую назван убийцей – на том основании, что его открытия «могут быть губительны». Случайно или преднамеренно, но игнорировали и завещание его, где сказано, что премией должны награждаться те, «кто в течение предшествующего года принёс наибольшую пользу человечеству». Критерий, разумеется, самый гуманный. И у него есть автор. А право решать, что на пользу, а что во вред человечеству, – предоставлено потомкам. Даже они не могут иногда догадываться о том, какое толкование, какое применение получит то или иное открытие через пару десятков лет! А вот Нобель поступил мудро: он предложил идею Премии и обеспечил её финансовую поддержку, возложив право выбора самого гуманного открытия года на высоконравственный Алеопаг. И список «достойных», основанный «недостойным», пополняется с завидным постоянством. Получить Нобелевскую премию стало делом престижа, а сам «нобелевский фонд», давно отделившись от своего творца-учредителя: превратился в международный институт с огромной сферой влияния: за 100 лет Нобелевскими премиями награждено более 600 человек из 41 страны. Не смущает, кажется, уже и тот факт, что «сегодня каждый пятый учёный мира занят разработкой орудий истребления» (Н.Гончаров, 1991 г.).
Продолжая разговор об источниках «неблаговидных» доходов, заметим, что критики экономической теории Адама Смита (1723–1790) приписывали этому шотландскому исследователю «увлечение вопросами прибыли и накопления капитала». На горизонте замаячил «дикий» капитализм, алчный и беспощадный. Действительно, Смит провозгласил, что «общество существует для человека, а не человек для общества, – и только из свободной экономической деятельности отдельных людей создаётся наилучший общественный распорядок». Философ много говорил о разделении труда, прибавочной стоимости и «невидимой руке» рынка. По науке, это должно привести к общему благосостоянию, обуздав эгоистические побуждения о «сверхнормативной» выгоде. Не всё, однако, получилось по науке…
Спустя два столетия мы можем констатировать, что противоречия господствующего предпринимательского класса привели к двум войнам всемирного масштаба и резкому обнищанию масс в т. н. развивающихся странах. Вот и готов приговор создателю новой экономической теории. Но того ли ожидал Адам Смит, провозглашая свободные экономические отношения и видя государство собственников, состоящее из добропорядочных граждан? Защищая своего соотечественника от нападок, Исаак Дизраэли (1766–1848) справедливо писал: «Если господствующее начало в великом произведении А.Смита («Исследование о природе и причинах богатства народов», Великобритания, 1776 г. – Е.М.) и смешивает, по-видимому, счастье народа с его богатством, то мы не имеем права упрекать за это гениального человека, который отражает на себе ощущения своего отечества даже тогда, когда дело касается самобытных умозрений» (из трактата «Литературный Характер, или История Гения», Великобритания, 1795 г.).
Самобытные умозрения насчёт чудодействия «простого продукта» – земли, отданной в частное владение, конечно, имелись. А вместе с ними росла и горечь от непонимания его идей. «Последние годы Адама Смита были окрашены в мрачные, меланхолические тона, – комментирует трагедию жизни философа Д.Самин в сборнике «100 великих учёных» (Россия, 2004 г.). – Накануне своей смерти Смит приказал сжечь все неоконченные рукописи, словно ещё раз напоминая о презрении к тщеславию и мирской суете…»
После смерти А.Смита вдруг выяснилось, что этот ярый поборник свободной торговли и беспрепятственной конкуренции истратил большую часть своего состояния на тайные пожертвования неимущим… Впрочем, обвинений в пособничестве обнищания масс он всё равно не избежал. Не он первый, и не он последний…
«Настойчивые предупреждения Роберта Мальтуса (1766–1834) относительно бедствий перенаселения и его горячая рекомендация нравственного воздержания как единственного действительного средства в борьбе с нищетой, произвели на некоторых читателей его «Опыта о народонаселении» (Великобритания, 1798 г.) такое впечатление, будто автор вообще не сочувствует возрастанию населения и склонен даже в известных случаях предпочесть жизни смерть… Еще менее справедливое обвинение возвели на Мальтуса те из его врагов и друзей, которые решили, что так как сокращение размножения – его главная цель, следовательно, для Мальтуса в сущности безразлично, какими средствами будет оно достигаться… Исходя отсюда же, некоторые противники Мальтуса заключили, что он должен сочувствовать всему, что будет препятствовать людям вступать в супружество, и что поэтому он признает целесообразным запретить просто беднякам обзаводиться семьями» (из очерка Н.Водовозова «Р.Мальтус, его жизнь и научная деятельность», Россия, 1895 г.).
Некоторые апологеты «мальтусизма» пошли еще дальше и на исходе 19-го века стали разрабатывать теории насильственной стерилизации отдельных социальных и этнических групп и даже целых народов. Но ведь ни к чему подобному Роберт Мальтус не призывал! «Смотреть на меня, как на врага населения, – говорил он, – значит не иметь понятия о моих принципах. Враги, с которыми я борюсь, суть нищета и порок. То обстоятельство, что всякая убыль населения всегда легко восполняется его естественным приростом, с нравственной точки зрения не может служить и тенью извинения безумного пожертвования людьми, уже существующими».
Казалось бы, об этом уже существующем Р.Мальтус высказался вполне определенно. Завеса будущего помешала ему откреститься от тех «селекционеров», которые начали практическую работу по «улучшению рас»…
Вспомним и то, как после Второй мировой войны с театральных афиш Европы исчезло имя Рихарда Вагнера (1813–1883), а «в Израиле, где понимают и чтят хорошую музыку, произведения Вагнера не были исполнены ни разу» (В.Гаков «Круглые даты 2003 года», Россия, 2003 г.) – и только потому, что он был любимым композитором «коричневого фюрера» Адольфа Гитлера (1889–1945):
• «Гитлер поклонялся Рихарду Вагнеру, чьи музыкальные драмы его завораживали. Позже Гитлер утверждал, что иных предшественников, кроме Вагнера, у него не было… Гитлер отождествлял себя с Вагнером, что стало постоянным источником его вдохновения. Стоило уверенности Гитлера в себе пошатнуться, как он обращался к магическому миру Вагнера, гений которого возвращал ему веру в себя. Незадолго до войны, в августе 1939 г., Гитлер пригласил А.Кубичека к себе в Байрейт. Старый приятель напомнил Гитлеру, случай, когда тот, потрясённый только что услышанной оперой «Риенци» (1842 г.), прямо из театра потащил Кубичека на вершину горы Фрейнберг, чтобы там излить опешившему другу свои мечты о будущем, утверждая, что ему суждено когда-нибудь спасти германский народ, как некогда Риенци спас римлян. Польщённый рассказом Кубичека, Гитлер затем пересказал этот случай Уинифред Вагнер, англичанке, приёмной дочери композитора, одной из первых поклонниц Гитлера, торжественно добавив: «Это началось в тот час!»…» (из книги А.Буллока «Гитлер и Сталин: Жизнь и власть. Сравнительное жизнеописание», Великобритания, I991 г.);
• «Боги, герои, гигантские проекты и высокопарные слова служили Гитлеру стимулами и заслоняли для него банальность его собственной жизни… Сам Гитлер ссылался на Вагнера не только как на музыканта и драматурга, но и как на сильную личность, «величайшую фигуру пророка немецкого народа»; он любил указывать на выдающееся значение Вагнера «для развития немецкого человека», восхищался мужеством и энергией его политических действий… и как-то раз сказал, что, когда он осознал своё внутреннее родство с этим великим человеком, его охватило «прямо-таки истерическое возбуждение» (Г.Раушнинг)…» (из книги И.Феста «Гитлер: Биография», ФРГ, 1973 г.).
Признаем, что именно творчество Р.Вагнера, позволяющее «осознавать внутреннее родство с этим великим человеком», сыграло определённую роль в формировании мировоззрения Адольфа Гитлера. Признаем в принципе, что «хотя избранная гением область творчества (музыка Вагнера), естественно, наиболее подвержена его воздействию, его влияние часто выходит за её пределы… И человек даже далёкий от его идей, от понимания сущности его вклада в науку или искусство доверяет ему больше других, – он прислушивается к нему даже тогда, когда не имеет представления о том, что он написал…» (Н.Гончаренко «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.). Но почему, однако, деятельность самого, пожалуй, экзальтированного меломана – «фюрера», спровоцировавшего мировую бойню, – отбросила тень на имя композитора, разошедшегося с ним и по месту, и по времени рождения? А ведь факт остаётся фактом: «Спустя полвека после смерти – его оперы, пронизанные «нордическим духом», вызывающие статьи о «засилье еврейской музыки», сделали из Вагнера официального выразителя «духа нации» (из сборника В.Гакова «Круглые даты 2003 года», Россия, 2003 г.). Явно принимая во внимание этот печальный опыт 20-го столетия, историк И.Фест выносит «окончательный» приговор: «С Вагнером в искусстве начинается эпоха неразборчивого околдовывания масс. И просто невозможно представить стиль зрелищ в «третьем рейхе» без этой оперной традиции, без демагогического по своей сути художественного творчества Рихарда Вагнера… Искусство Вагнера никогда не позволяло забывать о том, что в своей основе оно есть инструмент неудержимого и далеко идущего стремления покорять себе» (из книги «Гитлер: Биография, ФРГ, 1973 г.).









































