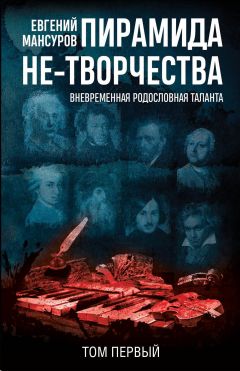
Автор книги: Евгений Мансуров
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 55 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Нам неизвестно, какой «толчок извне» испытывает художник-творец, когда казалось бы сама жизнь втягивает его в другую, «родственно-наследственную» колею. Однако сила притяжения, что тормозит его «полет к звездам», достаточно велика. Историки науки и искусства уже задним числом, но во все времена, констатируют это неизбывное противодействие: «Им предсказывали карьеру сапожника, а они становились Нобелевскими лауреатами, их секли розгами, а они сочиняли лирические стихи, их учили коммерции, а они придумывали грамматику, их обливали помоями, а они перешептывались с музами, работали с утра до ночи, делали гениальные открытия и объясняли людям законы бытия» (В.Черняк, 2010 г.).
Как приговор предрассудкам своего времени можно рассматривать, например, начало жизненного пути поэта-самородка Артюра Рембо (1854–1891): «Он родился в буржуазной среднезажиточной семье. Тираническая власть семейственных привычек и буржуазных традиций непоправимо оттолкнула его и от семьи, и от родного города» (П.Антокольский, 1960 г.). И убеждение поэта, предопределившее его трагический финал: «Любое ремесло внушает мне ужас… Рука с пером стоит руки с плугом…» (из книги «Одно лето в аду», Франция, 1873 г.).
Что формирует вектор движения их действий: сила притяжения или сила отталкивания?.. Если гениальность – это «уход куда-то», то ее невозможно представить и без «прихода оттуда». Иначе гении-метеоры, сгорая, не освещали бы свой век. Некий нерукотворный монолит распространяющий флюиды своего влияния на души тех, кто чувствует «всемирную отзывчивость». Нездешний дар не обменивается и не продается, на составные запчасти не разбирается. Он или есть, или его нет к несчастью (или счастью) тех, кто хотел бы его продать или заменить (приобрести).
Но можно ли сказать, что художник-творец испытывает при этом упоительный сон? Его заряд энергии заблуждения, действительно, «зашкаливает» за порог обывательских представлений, и только находясь в «невменяемом состоянии», игнорируя реалии жизни, можно утверждать, что «рука с пером стоит руки с плугом». Но сон ли это и сон упоительный?! Именно проза жизни ставит перед художником-творцом встречный вопрос: «А как добыть средства к существованию без руки с плугом?» Ведь его предки зарабатывали на жизнь в поте лица своего, тяжелым физическим трудом, и никому из них не приходила в голову блажь браться за перо (смычок, кисть, резец). С таким же успехом можно просадить нажитое, играя в рулетку или манипулируя за ломберным столом. А потом?.. Что скажет сын, считая долги промотавшегося отца?
Будущее всегда неясно и непредсказуемо. Тут уж не до «законов бытия», изложенных академическим стилем. Страх неизвестности толкает домочадцев к решительным действиям, когда они, озабоченные уже ранним развитием своего отпрыска, стараются посвятить его в то, что хорошо знают и умеют сами. Им кажется, что их личный опыт (стезя, на которой они сами достигли определенных успехов) может служить гарантией того жизненного оптимума, который позволит их потомку по крайней мере не оказаться у опасной черты (изведать нищету, остаться без крова и не у дел, испытать неприязнь начальника, нажить опасных врагов и т. д.). Другой вопрос – о весомости их жизненного багажа – обычно не обсуждается. Всегда имеется не больше того, что наработано. Но не всегда наработанное вызывает чувство профессиональной гордости. Вот, например, только один экскурс в историю, где речь идет о художественной стезе: «Большинство великих художников родилось отнюдь не в живописных мастерских. Весьма немногие были сыновьями живописцев, которые, следуя установленному обычаю, могли передать им навыки своей профессии. Из всех знаменитых мастеров, пожалуй, только Рафаэль и А.Иванов были сыновьями художников. Отцы Джордоне и Тициана никогда не держали в руках ни кисти, ни резца; отцы Леонардо да Винчи и Паоло Веронезе тоже не были художниками. Родители Микеланджело принадлежали к благородному сословию, то есть, попросту говоря, вообще не знали никакого ремесла. Тинторетто был сыном красильщика, Караваджо – сапожника, Альбано – торговца сеном, И.Левитан – железнодорожного служащего, И. Репин – военного» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
А сколько семей башмачников, дворников, красильщиков, кровельщиков или пастухов дало из своих рядов великих поэтов, музыкантов или ученых! Они, их безымянные предки, даже не задумывались об «исторической миссии». Напротив, в понятие о родовой чести входило что-то иное. До возведения в культ почитались занятия предков. Для определения жизненного поприща самим важным считались истоки.
Архитектор Андреа ди Пьеро ди Павда, по прозвищу Палладино, родился в семье каменщика, математик К.Гаусс сын водопроводчика, сатирик Д.Дефо сын мясника, Ганс Христиан Андерсен сын сапожника, химик Д.Дантон сын ткача; как сын суконщика начал свою карьеру сэр У.Петти, занимавшийся политической экономией и «по совместительству» освоивший искусство врачевания; беллетрист Ф.Решетников в анкетных данных об отце писал, что он сын дьячка, ставшего к концу жизни почтальоном, – и т. д. «Случайность» рождения – очевидна. Для их родителей очевидной представлялась случайность жизни-воплощения их чад. Они не сомневались в своем праве на их опеку. Намерения, разумеется, оставались самые благородные. Но как насчет дороги, вымощенной хотя и из желания всех благ, но ведущей… ну сами знаете куда?
О том, что родительская любовь может быть такой же слепой, как и сильной, напоминает гроссмейстер Рудольф Шпильман (1883–1942): «Ни одна любящая мать, ни один дальновидный отец не могут с уверенностью сказать, какие особые таланты таятся в их детях. И потому они воспитывают их по своему разумению, причем часто в совершенно ненадлежащем направлении» (из книги «О шахматах и шахматистах», Германия, 1929 г.). И пусть вас не смущает очевидная специфика, на основании которой шахматный эксперт делает далеко идущие философские обобщения. Ведь он говорит об особом, талантливом ребенке, чье развитие невозможно отслеживать по книжным рекомендациям. Тем более трудно определить «надлежащее направление», которому должен следовать человек, рожденный с даром нездешним. Знают ли об этом его родственники или же исходят из представлений, что он рожден «с такими же устремлениями, как и все», но они не видят причин менять свою программу действий. Наконец, имеет место и такой выше отмеченный довод, как семейная гордость и родовые традиции. А к тем наследникам, которые, по существу, ничего наследовать не хотят, применяются меры убеждения – от предостережений, увещеваний и наставлений до угроз отречения и проклятия со стороны глав семейств и старейшин рода. Ничего не помогало! Воистину удивительно то упрямство, с каким эти неразумные чада, уклонялись от верного пути. Ссылки на увлечения молодости, незрелость первого опыта хотя бы давали надежду, что «фанаберия ума» окажется преходящей. Однако положительного эффекта не давали ни ограничение материального обеспечения, ни аутодафе «вредоносных» книг («…старались произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами; для того многократно я принужден был читать и учиться чему возможно было, в уединенных и пустых местах» – М.Ломоносов).
«В молодости Леону-Батисте Альберти (1404–1472) – итальянский ученый, писатель, теоретик искусства эпохи Раннего Возрождения – Е.М. – пришлось пережить жестокую нужду: отец его умер очень рано, а родственники, видя его страстное увлечение науками и полную неспособность и нежелание вести дела, все больше и больше «урезывали его содержание». Надо думать, они смотрели на него, как на отщепенца» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
«Отец Блеза Паскаля (1623–1662) не только не побуждал его к занятиям геометрией, но упорно прятал от него все, что могло дать ему хоть какое-то представление об этой науке, боясь, что занятия ею повредят здоровью ребенка. Но одаренность Паскаля была так велика, что он самостоятельно нашел решения многих теорем Эвклида. Лишенный учителей и учебников, он добился поразительных успехов в геометрии благодаря собственному гению» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
Можно понять, например, досаду «фельдфебеля на троне» Фридриха Вильгельма I, когда он наблюдал «чувствительную задумчивость» на лице сына, наследника Прусского королевства, будущего Фридриха II Великого (1712–1786): «Нет, Фриц повеса и поэт: в нем проку не будет!» «Чтобы выбить из принца французскую дурь, король бросал в камин книги, ломал флейты и усердно, до вывихов пальцев ног, пинал доморощенного «галантного человека» и его учителей. Принцу приходилось ночью тайком покидать дворец и в доме какого-нибудь из своих молодых друзей предаваться порокам образованности. Но если дежурному офицеру удавалось выследить его, то король не ленился подняться с постели, чтобы лично накрыть всю компанию и раздать всем сестрам по серьгам…» (из книги С.Цветкова «Эпизоды истории в привычках, слабостях и пороках великих и знаменитых», Россия, 2011 г.).
Были недовольны занятиями наследника, будущего столпа науки Чарльза Дарвина (1809–1882), и в его семье. «У тебя, – говорил огорченный отец, обращаясь к сыну, – только и есть интерес, что к стрельбе, возне с собаками и ловле крыс, ты будешь позором для себя и своей семьи».
«Утрата жены (1868 г.) усугубила свойственный Кристиану, отцу Эдварда Мунка (1863–1944), кальвинистский фатализм, которым он щедро делился с детьми… От горестной атмосферы в семье, где постоянные утраты сочетались с суровой бедностью, Эдвард Мунк спасался, как мог, хотя возможности у него были ограничены. Он находил радость в рисовании; рисовал углем, забравшись на печь. Но Кристиан, считавший художников развратниками и безбожниками, отправил сына учиться на инженера. Проучившись год, Мунк сказал отцу, что хочет стать художником. Несмотря на яростное сопротивление Кристиана, Мунк поступил в Норвежский институт искусства. Он быстро доказал свою состоятельность как художник, и, возможно, отец смягчился бы, работай Мунк в традиционной манере, получая стипендии, продавая картины и не нуждаясь в деньгах. Но Мунк связал себя с наиболее радикальным искусством… Его лишь высмеивали. Удрученному Мунку негде было искать утешения. Дома недовольный отец молился о спасении его души, а сестра Лора, погрузилась в мир фантазий и иллюзий (первые признаки шизофрении)…» (из книги Э.Ланди «Тайная жизнь великих художников», США, 2008 г.).
Николай Добролюбов (1836–1861) родился в семье священника… Он был представлен в духовное училище, из которого через год был переведен третьим учеником в семинарию. В семинарии он учился 5 лет, все шел первым… Добролюбов мечтал учиться в университете, но уступая желанию родителей, поехал в Петербург, в духовную академию. Однако совершенно неожиданно поступил на историко-филологический факультет Главного педагогического института. Но по специальности не работал» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
«Страсть к театру и рисованию проявилась у Леона Бакста (1866-11924) – российский живописец и график, входил в объединение «Мир искусства» – Е.М. – очень рано. Отец, считавший это увлечение помехой делам и будущей карьере, запрещал сыну рисовать, но Лева продолжал свои занятия тайком, по ночам. Побежденные его упорством, родители решили обратиться за авторитетным суждением к известному скульптору Марку Антокольскому. Рисунки мальчика заслужили благосклонный отзыв, и это открыло ему дорогу к художественному образованию. В 1883 году юноша поступил вольнослушателем в Петербургскую Академию художеств…» (из сборника К.Рыжова «100 великих имен Серебряного века», Россия, 2011 г.).
«После окончания земской школы родители определили Сергея Есенина (1895–1925) в церковно-учительскую школу в село Спас-Клепики, в 30 километрах от родного села Константинова. Есенин писал: «…Из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в церковно-учительскую школу, окончив которую, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось»…» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
В начале жизненного пути, когда все «неожиданности биографий» еще впереди, трудно говорить о запрограммированности конфликта. Но все предпосылки его налицо, если раздоры начинаются уже у семейного очага. «Отец страшно недоволен», «сын не может думать ни о чем другом». Надобны немалые усилия, с обеих сторон, чтобы хотя бы на время приглушить незатухающие противоречия и поддержать репутацию «благородного семейства». Соображения о том, что «худой мир лучше доброй ссоры», разумеется, способствуют нахождению компромисса. Но как решить все проблемы в принципе, если сами-то противоречия непреодолимы?
«Джованни Боккаччо (1313–1375), автор «Декамерона» (1353 г.) – незаконный сын флорентийского купца и француженки чуть ли не королевских кровей. О его детстве неизвестно почти ничего. Но вряд ли оно было радостным – характер у отца – «человека строгого и неотесанного», как считал его сын, – был нелегким. Уже в младенчестве Джованни увлекся поэзией, но на 10-м году заботливый отец отдал его в ученье купцу, который провозился с ним целых 6 лет и все-таки принужден был отослать обратно к родителю ввиду неискоренимого отвращения молодого Боккаччо к купеческому занятию. Юный Джованни потихоньку читал посторонние стихи и засыпал над торговыми книгами. Тем не менее ему пришлось еще 8 лет томиться, изучая купеческое дело в Неаполе, куда отец пристроил его в обучение к крупному коммерсанту. Наконец, отец потерял терпение и придумал компромисс – позволил сыну изучать каноническое право: тоже путь к доходной карьере. Но и юриспруденция не привлекла Боккаччо, хотя его наставниками стали видные ученые, нанятые отцом… И снова Боккаччо будто бы выразил покорность, но вскоре забросил право ради древних авторов, особенно ради обожаемого Овидия…» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
«Генрих Гейне (1797–1856) родился в небогатой семье купца… По выходе Гейне из лицея, отец поместил его в одну из франкфуртских банкирских контор для изучения вексельного дела, а затем – приказчиком в бакалейный склад. Понятно, что будущий поэт к этим занятиям отнесся с крайней антипатией и через 2 месяца бежал домой; но отец тотчас же препроводил его с теми же торговыми целями к дяде Генриха, Соломону Гейне, тамошнему финансовому тузу. Благодаря его содействию Генрих завел комиссионную контору, просуществовавшую неделю. Убедившись в отвращении сына к торговой профессии, родители отдали его в университет, по юридическому факультету, и благодаря поддержке дяди Соломона он в 1819 году очутился в Бонне. «Из 7 лет, проводимых мною в немецких университетах, три прекрасных, цветущих года жизни я погубил на изучение римской казуистики, юриспруденции, этой бездушнейшей из наук, – писал Гейне, – Матери моей пришлось отказаться от мечтаний о моей блестящей карьере; учению, имевшему в виду эту цель, наступил конец, и – странное дело! – в сознании моем не осталось ни малейшего следа, до такой степени было оно ему чуждо. Это были всего-навсего механические достижения, отброшенные мною, точно никчемный хлам»… В то же время университетский товарищ Гейне, Жан Батист Руссо, вспоминает: «Со временем Гейне, который слыл тогда в Бонне совершенным чудаком и над которым студенты подсмеивались как над форменным идиотом, стал приносить рукописи…» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
«Оноре де Бальзак (1799–1850) кончил курс Парижского коллежа семнадцати лет (1816 г.), и отец его, находя, что для образованного человека прежде всего необходимо знать законы как своей страны, так и чужих государств, поместил его для занятий сначала у стряпчего, потом в конторе нотариуса. Три года изучал Оноре практическое право, посещая в то же время некоторые лекции в Сорбонне… В 21 год молодой человек, выдержав экзамены, мог считать свое образование законченным и должен был избрать себе какую-нибудь деятельность. Отец с торжеством объявил ему, что ему нечего затруднять себя выбором, что карьера его обеспечена. Один господин, которому во время революции г-н Бальзак оказал помощь, занимал место нотариуса в Париже и в благодарность своему старому покровителю предлагал взять к себе на службу его сына, а через несколько лет обещал передать ему и всю свою контору. Оноре возмутился. Трехлетняя возня с разными юридическими документами достаточно надоела ему, он надеялся, что, окончив курс, получит возможность посвятить себя литературе, к которой давно чувствовал призвание, а ему предлагают снова занять ненавистное место клерка у нотариуса и манят его в далекой перспективе скромным местом нотариуса, – его, который мечтал о славе, о всемирной известности! Он в самых энергичных выражениях отверг предложение отца и напрямик объявил, что ненавидит юриспруденцию и хочет посвятить себя писательской деятельности. Отец, мать и старшие родственники, призванные на семейный совет, пришли в ужас и негодование. Литература представлялась им несерьезным занятием, которым невозможно сделать карьеру. Они знали, что на свете бывают знаменитые писатели, но как мог мечтать о подобной знаменитости их Оноре, с трудом кончивший курс коллежа, ни в чем не проявивший ни особенного ума, ни способностей, беззаботный весельчак, часто дурачившийся вместе с младшими детьми! Мальчик просто ленится, хочет бездельничать! Много неприятных семейных сцен пришлось вынести молодому Бальзаку, но он оставался тверд в своем решении, и в конце концов отец согласился на компромисс: он обещал не навязывать сыну никакого места и давать ему содержание в течение двух лет, с тем чтобы молодой человек испытал в это время свои силы на литературном поприще. Оноре должен был жить в Париже один…» (из очерка А.Анненской «О. де Бальзак, его жизнь и литературная деятельность», Россия, 1895 г.).
Гюставу Флоберу (1821–1880), сыну и брату врачей, была дозволена только одна «вольность» – избрать карьеру юриста. Иное обоснование, по логике развития конфликта, должно было быть «стопроцентно медицинским». И Флобер доказал физиологически, что жить для него означает только писать. Вначале, когда он был сразу отлучен от пера, с ним произошел эпилептический припадок. Когда позднее, в возрасте 23 лет, Флобер возобновил занятия юриспруденцией, припадок тут же повторился. «Приходил в себя он долго: «Сегодня утром я брился правой рукой, – это письмо брату. – Но задницу подтираю все еще левой»: приступы случались еще и еще, и отец принял решение: сын бросил учебу и в итоге зажил тихой жизнью в Круассе (Франция) на содержании семьи. Так исполнилось его намерение, четко осознанное еще в детстве, – десятилетний Флобер писал другу: «Я тебе говорил, что буду сочинять пьесы, так нет же, я буду писать романы»…» (из книги Ю.Безелянского «Знаменитые писатели Запада: 55 портретов», Россия, 2003 г.).
«После окончания гимназии будущий драматург Александр Островский (1823–1886) собирался поступать на историко-филологический факультет. Отец не хотел даже слышать об этом. И 17-летний А.Островский сочиняет бумагу: «Окончивши полный курс гимназического учения, желаю для усовершенствования себя в науках поступить в Императорский Московский университет на юридическое отделение». Вскоре, однако, стало ясно, что юриспруденция – не его муза. Сначала он не явился на весеннюю сессию, потом «срезался» на римском праве; профессор, говорят, вымогал взятку. Недоучившийся 20-летний студент стараниями отца все же определяется в Московский совестный суд на должность просто канцелярского служителя» (из книги В.Черняка «Невыдуманные истории из жизни знаменитых людей: От великого до смешного…», Россия, 2010 г.).
«Николай Рерих (1874–1947) – российский живописец, театральный художник, археолог, путешественник – Е.М. – родился в Петербурге в семье респектабельного нотариуса. Отец надеялся, что Николай, как старший сын, наследует его профессию, станет юристом, но рано определившееся призвание привело Рериха после окончания гимназии Мая в 1893 году в стены Петербургской Академии художеств. По настоянию отца он, тем не менее, вынужден был одновременно поступить на юридический факультет университета…» (из сборника К.Рыжова «100 великих имен Серебряного века», Россия, 2011 г.»).
Настойчивость отцов Александра Островского и Николая Рериха примечательна: в традициях патриархального уклада семьи первым на уступки (соглашается с незрелостью своего ума) идет сын. А если последний не хочет уступать, его упрямство может быть приравнено к поступку святотатственному… Кинорежиссер Сергей Эйзенштейн (1898–1948) в своей автобиографии подчеркивает резко наступившую для него проблему выбора «как следствие агрессивной демонстрации разрыва с отцом, бунта против его жесткого императива» (Н.Хренов, 2005 г.). Но ведь можно понять и отца! Когда, например, американец Гарри Пильсбери (1872–1906) увлекся другой «иллюзией», шахматами и стал отдавать им весь досуг, родительская воля была уже не достаточно сильна, чтобы воспрепятствовать новому увлечению, и в семье, где царил культ деловых людей и поощрялись мечты о респектабельном жизненном поприще, наступил разлад!
Остались тщетными и все попытки Регины Фишер увидеть своего сына, Роберта Фишера (1943–2008), преуспевающим бизнесменом. Всему виной, как у Пильсбери, оказалось «болезненное увлечение шахматами». Обеспокоенная мамаша даже обращалась к детскому психиатру, который, правда, сталкивался с маниями и пострашнее и только посоветовал «найти для сына шахматного партнера и учителя». Еще большие проблемы возникли в школе, когда шахматы, уже определенно, «стали обеднять его жизнь в других отношениях». А сам новоявленный американский чемпион (1958 г.) заявил: «Я стану чемпионом мира, и в этом отношении школа мне ничего не даст!». Однако сила родительского авторитета еще оставалась весомой… После успеха на межзональном турнире в Югославии (1953 г.) новоиспеченный гроссмейстер не слушал уже никого. Он покинул высшую Эвансовскую школу, успев закончить два класса – по две ступени в каждом – и на прощание заявив, что все американские учителя – дураки. Последовали громкие объяснения с матерью, которая (с врожденным фишеровским упрямством) ни в чем не хотела ему уступать. Когда в этот период «бури и натиска» он приехал на турнир в Сантьяго (1959 г.), то сразу же демонстративно заявил организаторам соревнований, которые пригласили в Чили и его мать: «Эта женщина не должна и близко приближаться к отелю, в котором я буду жить!», а затем на карте-схеме города очертил окружность вокруг отеля, за которую, мол, не должна переступать Регина Фишер (свидетельство гроссмейстера Й.Доннера). В результате, мать и сын расстались на долгие годы. Регина Фишер навсегда оставила квартиру в Бруклине (Нью-Йорк) и вскоре переехала в Старый Свет. А Роберт Фишер, все-таки ставший «Моцартом шахматной игры»… он в 16 лет стал шахматным профессионалом и – факт неоспорим – предпочел турне по странам Америки и Европы постижению премудростей в школьном классе. Отныне он жил один, без какой-либо опеки и без чьих-либо советов…
Входя в ненадежный мир иллюзий (поэзия, кинематограф, шахматы), художник-творец, быть может, и обеспечивает себе условия для свободы самовыражения, но едва ли приобщается к кругу деловых людей, – к тому кругу, что только и может дать материальные условия для свободы творчества (та «рука на плуге», главенство которой подвергал сомнению Артюр Рембо). «Поломан путь, заботливо предначертанный отеческой рукой» – признавал С.Эйзенштейн, комментируя вступление на стезю художника-скитальца. Не мог же он, в самом деле, игнорировать положительное влияние семьи, чему свидетельством биографии многих состоявшихся гениев, миновавших в годы своего становления период «бури и натиска»!
Именно на благополучную биографию сына рассчитывала и госпожа Витали Рембо, устраняя, как ей казалось, любые помехи еще на стадии их возникновения. Когда же Артюр Рембо (1854–1891) совершил побег из «родового гнезда» в Шарлевиле (Франция, август 1870 г.), несчастная мать недоумевала: «Чем объяснить нелепую выходку этого мальчика, обычно столь послушного и спокойного? Как такая глупость могла прийти ему в голову?» И тем жесточее оказалось прозрение. Из-под суровой родительской опеки Артюр Рембо вырвался, казалось, мгновенно – настолько решительной оказалась его сила протеста! «О, слепая мать, принявшая лицемерное подчинение за подлинное послушание! – восклицает его биограф Ж.-М.Карре. – Да, он получил в школе целый ворох наград. Но он их продал на следующий день после побега за 20 франков» (из книги «Жизнь и приключения Жана-Артюра Рембо», Франция, 1982 г.).
В Артюре Рембо оказалось слишком много воли, источником коей было своеволие его отроческих и юношеских лет. В его лакированных биографиях можно прочесть о «нетерпении творчества», с которым он (в других биографиях) оживлял «архивную» историю, обращаясь к теням Робеспьера, Сент-Жюста, Кутона («новое поколение ждет вас!») и ставя в тупик школьных преподавателей. Но ведь в тупик он загонял и самого себя, отвергая своим своенравным поведением любые формы наставничества, если только кто-то не заинтересовывал его, главным образом своей способностью думать с ним в унисон.
Гораздо больших успехов можно предполагать от умения думать в унисон с затраченными усилиями, со своей стороны. Здесь, как ни странно, результату может способствовать такой фактор (явление, в общем-то, редкое), как избыточность «специальных» способностей на фоне сравнительно скромных волевых качеств. Можно даже говорить о благоприятно сложившихся обстоятельствах, когда самолюбие и воля не исключают возможности компромисса, а наставничество со стороны близких воспринимается как действенная помощь. И действительно является таковой.
«Бенджамин Франклин (1706–1790) родился 17 января 1706 года в Бостоне, маленьком, очень грязном захолустном городке с населением примерно 5 тысяч человек… Отец, Джозайя Франклин, владел мастерской по изготовлению мыла и сальных свечей. Он был родом из графства Нортгемптон в Северной Англии. В 1683 году вместе с первой женой и тремя детьми он бежал в Америку от религиозных преследований. Родители и другие родственники Бенджамина были людьми незаурядными. Например, один из его дядюшек, будучи красильщиком шерсти, писал стихи. В семье высоко ценили духовную свободу… Надо сказать, Джозайя Франклин не стремился передать младшему сыну свое мыловаренное ремесло. Он видел способности мальчика, его тяготение к интеллектуальным занятиям и мечтал о том, чтобы тот получил хорошее образование. С таким расчетом отец и отправил Бенджамина в относительно престижную для Пенсильвании Грамматическую школу…» (из книги Н.Басовской «Человек в зеркале истории. Честолюбцы. Завоеватели. Подвижники», Россия, 2012 г.).
«О Вольфганге Моцарте (1756–1791), чистейшем образце «божественной» гениальности, – отмечает психотерапевт Владимир Леви, – один из близких друзей писал в воспоминаниях, что, не получи он такого исключительно хорошего воспитания, он мог бы стать «гнусным злодеем», настолько он был впечатлителен и к хорошему, и к дурному. Чисто волевые его качества были, насколько можно судить, посредственными. Работа служила для него исключительно удовольствием, неизбывным и непрерывным. Зато через всю биографию проходит мощное волевые влияние отца. Это был образцовый отец вундеркинда, наделенный в должной мере и любовью, и здравым смыслом, и требовательностью – учитель, воспитатель и импресарио сына» (из книги «Охота за мыслью. Заметки психиатра», СССР, 1971 г).
Разумеется, образцовый отец, наделенный любовью и здравым смыслом, всегда примет правильное решение. Достойна признательности, например, человеческая отзывчивость отца физика Пьера Кюри (1859–1906), быстро понявшего, что его сын «просто не может быть блестящим учеником». Даже для благополучного ученика он не мог бы быстро усвоить ту школьную программу, которая была рассчитана для ума «средне-представленного», без «патологической» мечтательности и постоянной погруженности в себя. Родители же будущего лауреата Нобелевской премии (1903 г.) не стали требовать от него «быть, как все» и не препятствовали его индивидуальному саморазвитию, каким бы заторможенным он не казался со стороны.
Или роль матери, особенно значимая в неполной семье, как это было у Ги де Мопассана (1850–1893): «Госпожа де Мопассан, ревниво оберегавшая честь вскормления самой своего сына, не позволяла ни одному чужому человеку воспитывать его или обучать; она хотела быть первой в пробуждении его фантазии и в формировании его вкуса. Ее рассудительность, интеллект и классическое образование, полученное, благодаря брату, позволили ей направлять и сопровождать полеты молодого ума, с ранних лет наблюдательного, влюбленного в мечту и жадного к жизни сына. Она любила вспоминать, как в ребенке зародилась любовь к литературе и как она помогла ему своими советами. Она всегда думала, что Ги будет писателем… Госпожа де Мопассан боялась помешать тяге к литературному творчеству, которую она открыла у сына. Она, перенявшая уважение к литературе от своих друзей детства – Гюстава Флобера, Луи Буилье, Альфреда Ле-Пуаттевена, бывшая поверенной их первых грез и первых стихотворений, – наоборот, искренне радовалась тому, что находила в своем ребенке волнения и восторги собственной юности. Она поддерживала его, поощряла стремление к трудной борьбе, в которую ему предстояло вступить, избавила от тех протестов семьи, которые нередко истощают энергию и волю молодых писателей; она посвящала его вначале медленно, руководила им с осторожным вниманием, а позже сделалась чуть ли не его сотрудницей» (Эд. Мениаль «Ги де Мопассан», российск. изд. 1999 г.).
После трудных лет борьбы за признание выдающийся американский изобретатель Томас Эдисон (1847–1931) отдал должное усилиям своей матери: «Моя мать сделала меня таким, каков я есть. Она поняла меня. Она дала мне возможность следовать моим склонностям».









































