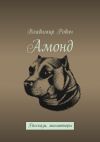Текст книги "На пути к истине (сборник)"

Автор книги: Фаниль Галеев
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Последнее дело
Помните следователя Сомова? Я ещё книгу о нём написал. «Рассказы следователя Сомова» называется.
Со дня нашей последней встречи прошло почти десять лет. И вот случилось мне заехать ненадолго в то село, где он жил, и я решил непременно свидеться с ним. Иван Иванович тогда уже не работал в прокуратуре, был на пенсии, но я хорошо помнил утопающий в зелени домик на берегу тихой речки…
Хозяина застал в саду. Он заметно постарел, не сразу узнал меня, а как узнал, то обрадовался, поставил самовар, принёс варенья, булочек, сметаны, и пошёл у нас, что называется, пир на весь мир.
– Ну вот, и я теперь на пенсии, – говорил, улыбаясь, Иван Иванович. – А ведь давно ли ещё хаживал с пухлыми делами под мышкой. То к прокурору, то в суд, то в милицию… А тут полный покой. Но хорошо, ей-богу, хорошо на отдыхе!
Я слушал его весёлый стариковский говорок, а потом вдруг, сам того не ведая, спросил по старой привычке:
– Ушедшие на пенсию следователи частенько вспоминают своё последнее дело. А ваше, Иван Иванович?.. Отличалось оно чем-нибудь от предшествующих?
– Последнее дело? – призадумался Сомов. – А ты что, слышал что-нибудь? Оно ведь и в самом деле оказалось для меня памятным, даже престижным, можно сказать… Случается иногда такое: знаешь, что перед тобой сидит отпетый преступник, смотрит тебе нахально в глаза, улыбается, а ухватиться за него ни с какого бока не можешь. Нет доказательств! И ничем его не возьмёшь. Разве что терпением или какой хитростью. Ну ладно, слушай, что произошло у меня перед самой пенсией…
Сомов устроился поудобнее на скамейке и не спеша, попивая чай, начал рассказывать:
– Совершено было у нас в селе летней ночью нападение на тётку Пелагею – пожилую, больную женщину, за всю жизнь никому не сделавшую плохого. Жила Пелагея одна в старом, но ещё добротном пятистенке на окраине, жила тихо, редко с кем общалась. А происходила та старушка из некогда знатной купеческой семьи, и сельчане поговаривали, будто имеется у неё изрядный запас деньжат да остались после отца кое-какие золотые и серебряные вещички. Это, видать, и натолкнуло злоумышленника на идею… Тётка Пелагея сидела в ту ночь в своей комнате, смотрела телевизор, а дверь-то, видно, запереть забыла. Преступник прокрался в комнату, ударил чем-то сзади старушку по голове и, пока она лежала без сознания, унёс из дома сорок тысяч рублей, пять золотых и двенадцать серебряных монет царской чеканки, украшения разные, а ещё четыре маленькие старинные иконы, что стояли рядом с большими в углу комнаты. Пелагею нашли и отправили в больницу соседи Игнатьевы. Вот так она и началась, эта история…
Сделав паузу, Иван Иванович встал, добавил углей в самовар и, вернувшись на место, продолжал тихо и ровно, будто и вовсе не прерывал своего рассказа:
– Ну я, значит, как получил сообщение, – тут же в больницу, к тётке Пелагее. Думаю, поговорю с ней, попробую разобраться, что к чему. Целый час бился со старухой, а она всё одно: не помню, мол, и не знаю ничего. Сидела, смотрела телевизор, вдруг – хлоп по голове! – и сразу темно в глазах. Очнулась, поглядела – нет денег, монет, икон. Опять дурно стало, а пришла в себя – соседи уже под руки в больницу ведут…
Думал я, думал и спрашиваю:
– То, что не видела ты, Пелагея Дмитриевна, кто ударил тебя, это понятно. Но прикинь, кто бы мог быть этим человеком, в ком ты хоть немного сомневаешься?
А она и говорит:
– Кто же мог быть таким лиходеем, как не Петька Игнатьев! Он ко мне не однажды приходил и заводил разговоры о золоте да иконах. И деньги сулил, и вещи разные в обмен. Я ему всё отказывала, говорила, что нет у меня никаких монет, а что толку. Он и рядом живёт, и дом мой хорошо знает, и привычки – ему и сподручнее было пойти на это лихо…
Опешил я сначала: ведь Игнатьев-то с женой как раз и пришёл к ней первым на помощь. Но потом подумал про этого Петьку: ведь хитёр, нахален, как обезьяна, да и судим в прошлом за кражу и хулиганство. Надо, решил, и вправду заняться этим субъектом.
Сходил я потом и в дом к тётке Пелагее, осмотрел там всё, прощупал каждую щёлочку, и что ты думаешь? – ни единого следа, ни одного вещдока. Ну прямо филигранная работа!
И всё-таки задержал я этого Петра Игнатьева, вызвал на допрос. Он тогда у нас в колхозе шофёром на старенькой легковушке работал. Ох, и противный был тип! Вот и сейчас, будто всё это вчера происходило, вижу его физиономию опухшую. Сидит, развалившись на стуле, глаза маленькие, вороватые, а губы толстые, как у папуаса, и кривятся в усмешке. То позёвывает эдак лениво, демонстративно, то пальцами в зубах своих прокуренных ковыряется…
Гляжу на всё это, но терплю и говорю ему:
– Ну, давай рассказывай, Игнатьев, где был вчера и чем занимался?
А он смеётся в ответ, смотрит, извините, как кокетка, своими плутовскими глазами и говорит, этак чмокая губами:
– Где же мне быть, Иван Иванович? Я вчера вечерком в соседний колхоз документы на строительство межколхозного пионерлагеря отвозил, для согласования. Задержался там, долго бумаги разбирали, а как освободился, то приехал домой, поставил машину в гараж и, как говорится, на боковую… А в чём дело-то, отчего такой вопрос?
Я уже не хочу ничего скрывать и действую напрямую:
– Зачем же ты вчера тётку Пелагею чуть на тот свет не отправил? На серебреники, что ли, её позарился?
А Игнатьев рожу состроил самую недоумённую.
– Ты, видать, – говорит, – совсем рехнулся на старости лет, Иван Иванович, перестал мыслить как трезвый человек. Ну зачем мне отправлять на тот свет тётку Пелагею? Что бы я стал делать с её серебрениками, музей, что ли, сельский открывать? Я эту старуху полуживую подобрал, в больницу отвёл, жизнь, можно сказать, спас ей, а ты невесть какой поклёп на меня возводишь. Очнись!
Рассказывая, Иван Иванович чуть помрачнел, вздохнул всей своей щупловатой грудью, но голоса и тона не изменил, продолжал с тем же присущим ему деловитым спокойствием:
– Слова его больно вонзались мне в сердце, обидно и досадно было, но я терпел. Подождал чуток и опять ему в лоб всё тем же вопросом: «Зачем же ты, ирод, после своей прежней судимости опять пошёл на такое тяжкое дело?»
Вижу, улыбка совсем сошла с его лица. Осталось выражение злобное, прямо-таки змеиное. И слова он цедит сквозь зубы, будто не говорит, а шипит:
– Ты что, может, уже и обвинение предъявить мне собрался? А на что же ты опираться станешь? Может, у тебя отпечатки моих пальчиков есть или следы от сапог моих? А может, ты орудие какое у меня дома нашёл, на котором кровь тётки Пелагеи имеется, али что украденное из её квартиры? Ты вот что, старик, не мешкай – освобождай меня, пока не поздно, и отпускай на волю!
Вижу я, бесполезно с ним дальше беседовать. «Ладно, – говорю, – не буду тебя больше донимать вопросами. Посиди ещё немного и подумай, а завтра решим, как быть». Вызвал милиционера и отправил его обратно в камеру для задержанных.
Пришёл ко мне после этого оперуполномоченный Ерофеев, взяли мы помощников, понятых и пошли прямо в дом к Игнатьевым. Сделали перво-наперво обыск. Всё осмотрели, излазили: сараи, огороды, чердаки, погреба – ничего не упустили. И тут опять – одно разочарование. Ни вора, как говорится, ни шапки. Подошёл я тогда к жене Игнатьева, Ираиде, не в шутку рассерженный:
– Слушай, Ираида, хоть ты имей совесть, скажи по правде, что делал вечером Пётр, куда уходил и когда домой вернулся?
Она смотрит на меня не то растерянно, не то испуганно и отвечает, заикаясь и путая слова:
– Да куда же… куда же ещё, Иван Иванович? Ездил по заданию правления, документы какие-то в колхоз «Рассвет» отвозил. Приехал в половине одиннадцатого, не стал ни есть, ни пить. «В чулане, – говорит, – коробка железная есть с крышкой, принеси её. И дай два целлофановых пакета. Дефицитные запчасти для машины достал, надо их пристроить. Поеду сейчас, поставлю машину в гараж и вернусь». Ну, словом, взял что надо и ушёл…
– А в гараже он долго пробыл? – спрашиваю.
– Вернулся около двенадцати.
Переглянулись мы с Ерофеевым, но виду не показываем. Продолжаю:
– Ну хорошо, а дальше что было?
– А что было? Приехал домой, поужинал и лёг сразу спать. Всё как обычно. А вот среди ночи будит вдруг меня и говорит: «Слушай, Ираида, проснулся я, показалось, кричал кто-то. Похоже, соседка наша Пелагея. У неё что, гости сегодня?» А я ему: «С чего это ты взял, никаких гостей у неё не было». Тут Пётр поднялся, сел. «Ничего, – говорит, – не возьму тогда в толк. Шёл домой из гаража – у неё свет горел. В такую пору она обычно спит без задних ног…» Забеспокоилась и я сразу. Думаю, дай-ка схожу, проведаю её. Оделась, зашла к ней, а она лежит на полу, стонет и руками за голову держится. Закричала я, заплакала и побежала Петра звать. А потом уже, сами знаете…
Посмотрел я на неё, вижу, ничего путного больше не добьёшься.
– Ладно, – ворчу, – и на том спасибо. Извини, что побеспокоили. Мы потом с тобой в более официальной обстановке побеседуем, всё запишем, а пока прощай…
Вышли мы с Ерофеевым во двор, я и размышляю про себя: «До гаража езды минут десять. Если идти обратно пешком напрямик, ещё минут двадцать понадобится, а всего – полчаса. А Игнатьев отсутствовал почти полтора часа. Значит, он ещё куда-то ездил…»
Ловлю я тут себя на одной любопытной мысли и говорю Ерофееву:
– А ведь, похоже, Игнатьев у тётки Пелагеи ещё до своего первого прихода домой успел побывать. Ограбил её, а уже потом поехал в гараж ставить машину. Но в гараж ли сразу? Давай-ка выйдем, Савельич, за ворота да посмотрим следы. Может, они нам что подскажут…
Вышли мы, пригляделись: свежий след автомашины от центра села идёт. Это Игнатьев, стало быть, подъезжал к дому, когда вернулся из колхоза. И ещё след…
Тяну Ерофеева за рукав:
– Смотри-ка, ведь Игнатьев, если ездил в гараж, должен был развернуться и поехать обратно к центру села. Но след-то сворачивает в проулочек, а там, сам знаешь, поле, лес…
Он тоже призадумался, почесал горбинку носа.
– Да, – говорит, – вижу, мудрил здесь Игнатьев. Что же он, в гараж через лощину, что ли, ехал? Так это ж крюк в два километра надо давать. Что-то тут не так… Давай-ка мы с тобой вот что сделаем: ты иди, как ни в чём не бывало, по следу, а я сверну, пойду низом, и в лощине встретимся. Это чтобы внимания людей не привлекать…
Так и сделали. Встретились с ним в лощине, пошли дальше по следу через поле, углубились в лес – и ты знаешь, куда вышли?
Иван Иванович посмотрел на меня пристально, с загадочной улыбкой, словно измеряя взглядом моё любопытство, и только после этого продолжил:
– Есть там одна поляна, Глухою называется. Пнистая такая, ямистая и кочковатая, даже с небольшим овражком. Говорят, раньше там болото было. Так вот, подошли мы с Ерофеевым к этой поляне, видим – недалеко от неё следы машины обрываются и место её стоянки чуть в стороне определяется. Встали у края, огляделись: велика поляна, только поперёк метров семьдесят будет.
Говорю Ерофееву:
– Понял теперь, зачем коробку железную и пакеты целлофановые брал с собой Игнатьев?
– Понял, – ворчит он, – чего тут не понять-то. Закопал, гад, где-то здесь всё отобранное у Пелагеи. Затем и приезжал. Может, нам народ собрать – активистов, дружинников – и прочесать хорошенько всю поляну?
А я смеюсь, без издёвки, конечно, и отвечаю:
– Ты что, хочешь мне из этих икон и денег сокровища Чингисхана сделать? Ведь это он, говорят, закопал свои золотые припасы и пустил по ним целый табун лошадей. Поди отыщи теперь… Нет, Савельич, спрятанных денежек нам в этом бывшем болоте не найти. Да и коли найдёшь случайно, Игнатьев враз к ним спиной повернётся, скажет: мало ли кто в лес заезжает да вещички разные прячет… Тут надо действовать наверняка. Давай лучше вернёмся в село и сходим к бригадиру. У меня задумка есть…
А дальше вот как всё обернулось.
Вызвал я опять Петра Игнатьева в кабинет на допрос. Сижу, пишу протокол. Здесь же – Ерофеев, и ещё один милиционер сидит возле открытого окна, что выходит прямо на улицу.
– Ну, Пётр, – начинаю, – вспомнил что-нибудь, пока находился в милиции? Или так и думаешь играть с нами в кошки-мышки?
А он ещё наглее, чем утром был. Сидит, приподняв голову, поджав губы, и руки на груди скрестил. Ну прямо Наполеон Бонапарт!
– Чудак ты, однако, Иван Иваныч! – молвит с ленцою, не меняя своей величественной позы. – Ты что думал, упрячу, мол, его на часок-другой за решётку, раскиснет он сразу, как тесто, и начну я из него фигурки разные лепить, какие по нраву? Ну уж нет, старичок! Не трогал я вашу тётку Пелагею и не брал у неё ничего – вот моё последнее слово! И ты тоже не бери грех на душу, выпускай меня поскорей отсюда. А то я на тебя прокурору такую шпаргалку напишу – ни в одной бане потом не отмоешься…
Я опять за своё. Ты, мол, брось страхи на меня нагонять, а говори лучше по существу дела, поскольку никто, кроме тебя, не мог вчера забраться к тётке Пелагее.
И тут слышу с улицы: подъезжает к дому напротив, где живёт тракторист Лёшка Мартынов, мотоцикл, и слышится голос бригадира:
– Эй, Лёшка, ты что здесь прохлаждаешься? День-то рабочий, кажись, ещё не кончился!
Лёшка сначала молчит, а потом кричит из комнаты сердито:
– Не прохлаждаюсь я! Тормоза у трактора барахлят, вот и приехал починить! Инструменты у меня здесь…
А бригадир ему опять:
– Давай, управляйся побыстрее! А то завтра с утра тебе с механизированной бригадой на Глухую поляну ехать!
– А на кой чёрт она сдалась, эта Глухая поляна?
– Расчищать там и разравнивать всё будут. Правление сегодня заседало. Межколхозный пионерлагерь решили там строить. Надо всё очистить и перепахать.
– Ладно! – кричит Лешка. – Управлюсь к утру!
Вижу, побелел весь Игнатьев, крупинки пота на лбу появились. А я словно не замечаю ничего. И Ерофеев сидит себе, чуть позёвывая и поглядывая в окошко. Беру я тут протокол, что начинал писать, рву пополам и бросаю в корзину. Другой заполняю, потом и его скатываю в комочек – и туда же. Словом, делаю вид, что надоело мне всё, не светит удача.
Игнатьев, наблюдая за мной, быстро успел взять себя в руки и сам уже лезет ко мне со своей ехидной улыбкой:
– Что, туговато, Иваныч? И писать нечего, коли нет вины? Сочувствую от всей души. Ты, я слышал, на пенсию собрался? Эх, некстати на тебя это дело свалилось! Чую, придётся тебе на заслуженный отдых без всяких почестей уходить…
Я делаю вид, что окончательно вывел он меня из терпения, бросаю протокол, ручку и говорю ему:
– Ладно, балабол! Не стану я тратить на тебя попусту время. Нет у меня пока оснований содержать тебя под стражей. Но учти: дело моё правое, а истина никогда не растворится в пространстве!
И тут же даю указание Ерофееву и милиционеру:
– Отпустите его. Я чуть попозже сам постановление на его освобождение занесу…
Потом уже, на другой день Ерофеев рассказывал мне:
– Ушли мы из села незаметно, а ночью разделились на группы и потихоньку оцепили поляну с четырёх сторон. Сидим в засаде, ждём. Долго ждали. Только в полночь вышел из-за кустов, озираясь и крадучись, человек с лопатой, пробрался к самому южному краю поляны, где пней было поменьше, и начал копать. А мы ползком всё ближе и ближе. И когда он, бросив лопату, стал вынимать что-то из земли, вскочили все разом – и на него. Он даже пикнуть не успел…
Сомов довольно, как-то по-детски засмеялся, взял пустую чашку из-под чая и, как это делают иногда татары, начаёвничавшись вдоволь, положил её на блюдце вверх донышком. Этот жест означал, что рассказ подошёл к финалу.
– Кто это был? Конечно, Игнатьев! Кто же ещё? И коробка та железная с монетами и украшениями, и пакеты, и иконы, и деньги – всё там оказалось. Не усидел-таки дома после нашего разговора. Испугался, видно, что начнут утром тракторами поляну утюжить и пропадёт всё награбленное. Я потом встретился с ним заново и говорю, не то чтобы с обидой или злорадством, а так, чисто по-мужски, по-человечески: «Проработал я следователем свыше тридцати годков, Игнатьев. Много за это время всяких жуликов, душегубов и дармоедов на чистую воду вывел и заставил ответ перед законом держать. И мне, старому вояке, не пристало уходить на пенсию без почестей. Так что зря ты за меня беспокоился. Каждый из нас получит то, что заслужил…»
На том и распрощались.
Поэмы, стихотворения

Татары
(Поэма)
1
Под солнцем на земле рекой безбрежной жизнь течёт,
на поле благодатном дружно прорастают всходы.
И всходы те – живые люди, им Господь открыл свой счёт,
по счёту этому они – великие и малые народы.
Но знаем мы, каким великим, умным не считался бы
народ
и сколь чиста и благородна ни была бы его порода,
изъяны и пороки в генах долго сохраняет каждый род,
и как ты ни кичись, а всё равно в семье не без урода.
2
Татары… Это мой народ, народ загадочный, отважный.
И будто гунн воинственный был нашим праотцом.
Толкуют разное про мой народ, но столь ли это важно,
коль был он, предок наш, умён, силён, пригож лицом.
По мне хоть и монгол, прошедший через всю Сибирь,
в походах знаменитых покоривший пол-Европы.
Не раз владения чужие обмерявший вглубь и вширь,
и к Золотой Орде своей приладивший их тропы.
Болгарин Волжский? Что ж, он тоже славный воин, хват,
и знаем, не давал врагам, с ним воевавшим, спуску.
Опрятен был, красив, любил рядиться в бархатный халат,
печатал книги и гостям готовил вкусную закуску.
3
Татарин я. Своим происхождением не без причин
горжусь,
люблю язык свой, отчий дом, друзей, обычаи и песни.
Как предки наши, закаляю тело, дух и, не ленясь,
тружусь,
всегда с охотой объезжаю наши земли, города и веси.
Горжусь я прежде тем, что от рождения, испокон веков,
татарин дорожил свободой, ненавидел иго, рабство,
что никогда врагам без боя не сдавался и не надевал оков
и, оставаясь воином, ценил он дружбу, братство.
И как бы ни хулили мой народ политиканы, словоблуды,
он оставался честен, храбр и верен долгу всё равно.
В его среде не приживались каины, иблисы, ироды, иуды.
Он не терпел предательства, лжи, фарисейства. Но…
Но всё же однажды дрогнул мой народ. Пришла година,
лихая, мрачная, година унижений, слёз и крови,
когда земля от этой крови стала вязкой, как трясина,
когда смыкались в скорби тяжкой и печали брови.
4
Иван, Мамаев отпрыск, сев на трон и став царём
московским,
решил расширить земли, не платить татарам дани.
Собрав со всех концов святой Руси бесчисленное войско,
его благословил, отправив в дальний путь, к Казани.
И были заодно с царём, в его войсках, крещёные татары,
и князь касимовский, хан Шахали, шёл с ними тоже.
И был в войсках царя один чужак, минёр, вояка старый,
который заработать деньги царские решил, похоже.
Да, да, тот самый Бутлер, что имел и опыт, и свои
секреты,
знал толк в ведении успешных войн на море и на суше.
Для пущей важности минёр сей прихватил с собой
мушкеты,
полсотни дюжих храбрецов, с десяток разных пушек.
Аллах Всевышний! Что произошло тогда с моим народом,
в дни грозные умевшим встать перед врагом стеною,
привыкшим биться до конца, всем племенем, всем родом,
уничтожать захватчиков и побеждать любой ценою?
А тут разборки ханские, интриги, зависть,
мерзкие потуги.
Там словно подколодный змей, пускал в ход жало.
Не стало братства, загрустили жёны, дети, помрачнели
слуги,
и всякий спор теперь решался силой яда и кинжала.
5
Нет, не спеши ругать и презирать меня, читатель,
за наветы
на свой народ, на воинов, на мудрых наших предков,
Я знаю, трудно дать теперь на все вопросы нужные
ответы.
И упаси Господь нас всех от слов поспешных, едких.
Татары не сдавались, бились рьяно, до последнего
дыхания,
Их мужеству, геройству удивлялись даже сами русы,
Но тщетно. Были безуспешны их попытки, замыслы,
старания.
Ведь оказались среди них лазутчики, предатели и
трусы…
Звучали кличи победителей там громко, разносились
всюду.
Был грозен взгляд и перст царя, больного супостата.
И страшный суд грозил татарским воинам, мирскому
люду.
За всё теперь татар ждала расплата, горькая расплата.
Казань! То было не бессилие твоё, то были вражеские
козни,
из-за которых часто погибают города и льётся кровь.
И ты была взята в день роковой не из-за слабости,
а розни,
рассорившей твоих отцов, лишившей сил твоих сынов.
6
Но мой народ отнюдь не занемог и без следа не канул
в Лету.
С годами он окреп, возвысился и вновь обрёл себя.
И снова заявил татарин твёрдо, во весь голос,
всему свету,
что равен, уважаем он, живёт в своей стране, её любя.
В любой работе он являл умение, старательность,
смекалку
на поле брани, как и прежде, был отважен и силён.
Татарин никогда не покидал своих друзей в бою и
перепалке,
Отчизне верность сохранял и дорожил её свободой он.
Всё хорошо. Однако бремя тех далёких и печальных лет
ещё живёт в сердцах иных моих сородичей и ныне.
В глазах и взгляде их сквозит порой какой-то тусклый
свет,
свет, порождающий в душе тоску и горькое уныние.
И мучает вопрос, откуда эта рабская покорность и
холуйство,
улыбка эта льстивая, смиренность, чинопочитание?
Откуда перед слабыми – хвастливость, необузданное
буйство,
а перед сильными – лишь трепет и тоскливое вздыхание?
7
Сенека-младший, Рима древнего философ, без лукавства
учил людей премудростям и говорил всегда народу,
что человека силой удержать не сможет никакое рабство,
оно лишь людям слабовольным может быть в угоду.
Как тут опять не вспомнить с болью те трагические годы,
Казань поверженную, казни и повальное крещение.
То время, когда мой народ переносил лишения, невзгоды
и всюду властвовали злоба, ненависть, отмщение.
Когда в колодках и цепях, избитые, но преданные своей
вере,
молясь, татары воздавали честь Всевышнему Аллаху.
И представляя в чистом небе рай, его распахнутые двери,
шли гордо, смело с жёнами младыми и детьми на плаху.
Война – она всегда несёт в себе оковы рабства и ярмо
неволи.
Но говорить готов я всем и всюду, повторять стократно,
что нет на белом свете более бесславной и несчастной
доли,
чем доля стать рабом безмозглого чинуши, бюрократа.
8
Меня печалят также накопительство, стяжательство и
скупость,
которые ещё встречаются среди татар, сородичей моих.
Иных же иссушают злоба, зависть чёрная, упрямство,
тупость.
Жизнь – это лишь базар, большая лавка для людей таких.
Один пронырливый татарин, важный пост заняв
в районе,
за счёт казны воздвигнул ханский для себя дворец.
И ждут теперь бездомные сородичи, томясь в душевном
стоне,
когда же шапка на ворюге ярко вспыхнет наконец.
Примеры себялюбия, стяжательства, высокомерия и
чванства
мы наблюдаем в этой многосложной жизни каждый день.
Иные получают наслаждение от лжи и необузданного
хамства,
иные погрузились в безмятежность, заскорузлость, лень.
Мухаммедьяр достопочтенный, просветитель наш, поэт
и гений
татарина такого гневно осуждал и откровенно презирал.
В своей поэме знаменитой он без всякой жалости
и сожалений
его собакой вшивой, злой, кусающей хозяина назвал.
9
Был прав поэт. Татарин истинный, всегда он чист душой
и телом,
чисты его мечты, желания, стремления, чиста его рука.
Татарин истинный, он не болтлив, умение своё докажет
делом
и отличить от неучей, пустых невежд сумеет знатока.
Не выбирает в жизни он уют, удобства,
лёгкие пути-дороги.
Он терпелив, не выставит свои страдания напоказ.
Не любит унижаться он, просить, гнуть спину,
обивать пороги,
и обязательно исполнит данный старшими наказ.
Он бескорыстен, честью дорожит, не станет брать
чужого.
Богатство, роскошь, золото и деньги – не его удел.
Он благороден, скромен, добр, ему не нужно слишком
много.
Лишь друг и брат его бы сыт был, невредим и цел.
Попав в беду, татарин горьких слёз не льёт, не сетует,
не тужит,
причины бед и трудностей он не спешит искать
в других.
И где бы ни был он, Всевышнему Аллаху, вере своей
служит
и с иноверцами поддерживает дружбу, чтя и уважая их.
10
Татарин истинный, он любит мать, отца, тех,
кто им дорог,
на них обиды не таит, не станет строго их судить.
О стариках любых заботится, чтоб век их светел был и
долог,
и помогает своим детям правильно и с пользой жить.
Татарин истинный, силён и смел в бою. Отчизне верно
служит,
и если надо, за неё он без раздумий жизнь отдаст свою.
С народами страны своей он искренне и бескорыстно
дружит.
И помнит о друзьях, будь даже далеко, в чужом краю.
Ну а предатели, смутьяны разные, угодники
и лизоблюды —
для них Отчизна, дружба, совесть – это трын-трава.
Они в любой стране, в народе каждом есть.
Они плодятся всюду.
Но уверяю, это – не татары истинные, это – татарва.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.