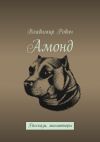Текст книги "На пути к истине (сборник)"

Автор книги: Фаниль Галеев
Жанр: Современные детективы, Детективы
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Целых два дня Вахрамеев не давал о себе никаких известий, и теперь, кажется, собирался сообщить ему что-то важное.
– Я только что звонил в прокуратуру и не застал вас там… – не дав ему даже ответить на приветствие, продолжал молодой следователь. – Мне показалось, что Александр Петрович не в духе сегодня… Уж не случилось ли чего-нибудь?
– Всё в порядке, Серёжа, не беспокойся! – отвёл его подозрения Шамсиев, стараясь придать своему голосу спокойствие и уверенность. – Ты из Кунгура? Рассказывай, что у тебя!
Вахрамеев выждал несколько секунд, прежде чем заговорить снова, собираясь, очевидно, с мыслями.
– Вы помните, у нас были сведения о том, что после смерти жены Борин женился на молодой актрисе? Так вот, я узнал, кто это. Она живёт здесь, в Кунгуре, руководит местным народным театром. Фамилия её Головко. Головко Надежда Викторовна. Ей тридцать пять лет. Говорят, очень красивая…
– Постой, почему говорят, разве ты не допросил её?
– Не сумел, к сожалению.
Волнение молодого следователя словно начало передаваться Шамсиеву.
– Что значит, не сумел? Выражайся ясней, Серёжа!
– Не успел. Она уехала отсюда.
– Куда уехала? Зачем?
– Говорят, уехала три дня назад, а куда, не знает никто. Собралась срочно и уехала. И вот ещё что. Это с ней Борин разговаривал по телефону в те самые дни… Ну, помните, вы говорили…
– Да, да. Теперь, кажется, всё проясняется… – Шамсиев сделал небольшую паузу, чтобы перевести дыхание после столь неожиданной новости. – Сергей, я очень прошу, найди где-нибудь её фотографию, в театре, паспортном столе, жилищно-коммунальной конторе… Ну где угодно! Найди и немедленно возвращайся сюда. Там тебе больше делать нечего…
– Хорошо… Как скажете, Булат Галимович… – произнёс чуть озадаченно Вахрамеев, удивлённый, видимо, столь неожиданным решением своего патрона. – Постараюсь сегодня же найти фотографию, и, возможно, к вечеру прибуду домой.
– Договорились?! Пока. Как приедешь, загляни ко мне.
Закончив разговор, Шамсиев хотел было спуститься вниз, чтобы принять душ, позавтракать быстренько и отправиться в прокуратуру, но последовавший очередной телефонный звонок заставил его остановиться и вновь поднять трубку.
«Наверное, опять Вахрамеев, забыл сказать что-то», – успел подумать следователь, но ошибся.
На этот раз голос, властный и суровый, зазвучавший в трубке, не здороваясь и не называя себя, потребовал повелительно:
– Мне Булата Галимовича!
– Да, я слушаю вас… – отозвался Шамсиев спокойно и холодно, тоже не здороваясь и не называя умышленно по имени и отчеству того, кто обращался к нему, хотя по голосу безошибочно узнал своего шефа, начальника следственного управления прокуратуры федерации Козеватова.
В последнее время между ним и Козеватовым складывались натянутые отношения. Почтенного возраста, крайне самолюбивый, во многом инертный и пассивный, Козеватов вопреки своему положению, положению крупного руководителя, в известном смысле наставника и воспитателя, недолюбливал почему-то молодых энергичных следователей, преуспевающих в работе и успешно строящих себе карьеру. То ли давно и безвозвратно утерянные лавры, то ли тревога за своё незримое будущее не давали покоя старику, но, требуя от своих подчинённых усердия и прилежания, он в то же время болезненно реагировал на их достижения и славу, хотя лучи этой славы не обходили стороной и его, пригревали на старости лет, продлевая пребывание в царственном кресле. И вероятно, это старческое увядание, неуверенность в себе заставляли его как-то заискивать перед аппаратчиками, восседавшими в ещё более солидных учреждениях и креслах, прислушиваться к их мнению.
Месяца два назад, когда Козеватов после чьего-то звонка сверху пытался взять под свою защиту одну видную особу, замешанную в получении крупных взяток, Шамсиев, занимавшийся расследованием дела, воспротивился действиям своего начальника, занял твёрдую и принципиальную позицию, после чего Козеватов вынужден был передать дело другому следователю. С этого всё и началось…
– Уже десять часов, Булат Галимович, а вас нет до сих пор на работе. Вы не находите это странным? – сразу перешёл в наступление начальник управления, явно не скрывая своего раздражения. – Или вы там, в командировке, чувствуете себя как на курорте?
– Мне нездоровится, – всё так же холодно, отчуждённо отвечал ему Шамсиев, не жалея переступать границу сдержанности. – И потом вы же знаете, труд следователя ненормирован. Приходится иногда работать и по ночам…
– Да, да, мне известно, как вы там работаете… по ночам… – с иронией произнёс Козеватов, сделав какое-то особое ударение на последнем слове.
«Кажется, он уже всё знает. Проворные же здесь люди!» – подумал с грустью Шамсиев, поняв, что на него уже успели донести. Однако, внешне не проявив ни малейшей растерянности, он продолжал разговор, спросив чуть вызывающе:
– На что намекаете, Андрей Архипович?
– На что я намекаю? Какое это имеет значение! Разве вам и так не ясно, что мы командировали вас туда не для того, чтобы вы слонялись ночами по кладбищу в поисках каких-то призраков, да к тому же ещё навеселе и в компании какой-то шлюхи!
– Выбирайте выражения, Андрей Архипович! – не сдержался на сей раз следователь, сразу перейдя на резкий тон. – Вы же не с зэком разговариваете где-нибудь в зоне или камере временного содержания!
– Ах вот вы как… – возмущённо выдавил из себя начальник следственного управления, и Шамсиеву показалось, что трубка в руке Козеватова тихо скрипнула. – В таком случае имею честь объявить, что вы отстраняетесь от расследования дела! Считайте, что таково решение прокурора республики! Вы дискредитировали себя как работник прокуратуры, потеряли моральное право вести следствие. Передайте пока дело городскому прокурору и возвращайтесь сюда! Здесь разберёмся!
– Но вы ведь даже не выслушали меня!
– Не надо никаких объяснений! У вас будет время написать в поезде подробный отчёт о своей работе, а уж мы тут решим…
– Хорошо, тогда я к отчёту приложу и заявление!
– Какое ещё заявление? – голос Козеватова звучал глухо, угрожающе.
– Об увольнении! – выпалил следователь.
– Дело ваше! Свято место пусто не бывает! – прозвучало в ответ, и разговор на этом прервался.
Постояв с полминуты у примолкшего телефона, Шамсиев тяжело вздохнул и, махнув рукой, пошёл за полотенцем…
Душ пришёлся весьма кстати. Упругие струи горячей воды сразу успокоили его, привели в состояние, когда человек может мыслить трезво.
Итак, его отстранили от работы. Теперь он свободен, волен, и в то же время связан, что называется, по рукам и ногам, не сможет даже без разрешения не то что допросить Борина, но и войти в его квартиру. А уж об обыске и говорить нечего!
Как же всё это случилось? Злая судьба? Расплата за гордыню, беспечность? А ведь до сих пор ему чертовски везло во всём! А может быть, так всё и должно быть? Ведь не зря же говорят, что нет худа без добра. Может, стоит за всеми этими неприятностями некое чудодейственное спасение от бед более тяжких, которые поджидали его впереди?
И всё же жаль, очень жаль. Ведь он был так близок к успеху. Не хватило каких-то двух дней. А может быть, даже одного. Ведь теперь уже нет сомнений, что женщина, преследовавшая его, напрямую связана с Бориным. Игра, которую она вела против него всё это время, спланирована ими, и она, судя по всему, теперь завершилась. Что же ему остаётся? Встретиться с Бориным, мирно побеседовать, попрощаться? Попрощаться… А что, если Борин, пока он здесь размышляет, уже испускает дух, если всё уже свершилось и его в данный момент вовсе нет на свете? Тогда эта женщина, конечно, спокойненько уедет из города, начнёт новую жизнь, и всё, как и прежде, останется под покровом тайны. Лишь он, следователь, до конца своей жизни будет вынужден носить в себе эту тяжесть, эти ставшие никому не нужными выводы и догадки.
Последняя мысль словно бы подхлестнула Шамсиева. Он отключил душ, стал спешно вытираться.
Нет, нет, надо предпринять что-то, попробовать рискнуть ещё разок! Пойти к Трифонову? А почему бы и нет! Разве не он тогда разжалобил его, уговорил не делать обыска в квартире Борина? И этим затормозил следствие. Теперь его черёд. Теперь пусть он уступит, даст возможность довести дело до конца…
Прокурор на этот раз показался ему чуть сдержанным и холодноватым, хотя любезность по-прежнему ощущалась во всех его словах и жестах.
– Ну что там стряслось с тобой вчера? – спросил он как бы укоряющее и в то же время с некоторой долей сочувствия. – А то тут мне уже с утра все уши прозвонили…
– Да ерунда, ничего особенного, – ответил Шамсиев чуть угрюмо и устало, поправляя пластырь, прикрывавший синяк под глазом. – Произошёл небольшой инцидент, недоразумение, скорее всего… А кто звонил-то?..
Трифонов вздохнул и с каким-то кислым выражением поскрёб в затылке.
– Да из милиции звонили… Потом Козеватов звонил. Спрашивал, где ты, телефон твой попросил…
– Да, мы разговаривали с ним. Можете поздравить. Меня отстранили от расследования, – сказал с грустной улыбкой Шамсиев, доставая из сумки изрядно вспухшую со дня его приезда подшивку уголовного дела и кладя её на стол перед прокурором. – Вот, велено оставить вам. Видно, кто-то из ваших пожаловался на меня…
Трифонов нахмурился, кашлянул несколько раз в кулак и открыто, не мигая, посмотрел на Шамсиева.
– Если ты меня подозреваешь, – произнёс он глухим, обиженным голосом, – то напрасно. Я проработал в прокуратуре почти всю свою жизнь, всякое пришлось перетерпеть. Но знай, до уровня доносчика я никогда не опускался…
– Ну что вы, Александр Петрович! – поспешил успокоить старика Шамсиев. – У меня и мысли такой не было! Тут скорее всего постаралась милиция. Сообщили, наверное, в горком, а оттуда вышли на Москву… Да бог с ними! Скажите лучше, как чувствует себя Илья Ефимович? Вы не интересовались?
– Только утром говорил с профессором Лемехом… – потускнел сразу Трифонов, болезненно сморщив лицо. – Плохи дела у Ильи Ефимовича! Он уже не ест, не пьёт, лежит, говорят, в постели и никакой в нём живинки. Предстанет перед Господом не сегодня так завтра, Лемех так и сказал. Кстати, я звонил тебе недавно, ты почему-то не отвечал.
– Наверное, как раз был в душевой, – сказал Шамсиев. Он уставился задумчивым взглядом на лежавшее на столе уголовное дело. – А вы знаете, Александр Петрович. У меня появилась любопытная информация. Звонил утром Вахрамеев. Оказывается, до приезда в этот город у Борина была молодая красивая жена. Она живёт сейчас в Пермской области, в Кунгуре. За два дня до убийства Аристовой и после моего приезда сюда Илья Ефимович разговаривал с ней по телефону. А на днях она внезапно уехала из Кунгура. Не исключено, что она находится здесь…
Трифонов слушал его, вскинув брови и недоумевающее поджав губы.
– Ну и что? – произнёс он так, словно разговаривал с самим собой. – Раз она его жена, она должна быть здесь. Какое имеет это отношение к убийству Аристовой?
– Видите ли, все эти дни меня назойливо преследовала одна женщина, пыталась помешать мне в следствии, и мне кажется…
– Всё равно ничего не понимаю, – пробормотал прокурор, теряя, видимо, всякий интерес к разговору и начав рассеянно шарить по столу руками. Так и не найдя ничего и посчитав, видимо, неэтичным просто так прерывать начатую беседу, он, в конце концов, выпрямился и вымолвил, умоляюще посмотрев на следователя:
– Скажи, Булат Галимович, только откровенно, чего ты хочешь от меня?
– Надо пойти к Борину, обыскать или, по крайней мере, осмотреть его квартиру. Я уверен, там скрывается нужный нам человек, возможно, сообщник или просто важный свидетель.
– Обыск? Сейчас, когда человек уже смотрит смерти в глаза? Ну, знаешь… – Трифонов встал и взволнованно заходил по комнате. От душевного неравновесия у него, видимо, стало сухо во рту, и он то и дело сглатывал слюну, усиленно двигая своим острым кадыком.
– Меня отстранили от следствия, вы знаете, – продолжал Шамсиев, пытаясь изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию. – И вы можете наплевать на мои слова, пропустить их мимо ушей, выпроводить меня из кабинета, в конце концов. Но говорю вам со всей ответственностью. Борин – убийца! Это он убил Аристову! Вольно или невольно он это сделал, не берусь пока судить, но, повторяю, убийство Аристовой – дело его рук, и рано или поздно, вы сами убедитесь в этом!
– Перестань, прошу тебя! Как ты можешь! Ты же следователь по особо важным делам! – почти со стоном проговорил Трифонов, буквально заметавшись по кабинету, но в это время зазвенел телефон, и он, видимо, увидев в этом звонке своё единственное спасение от грозящего эмоционального срыва, кинулся к столу и судорожным движением поднял трубку.
– Да, да! – прокричал он возбуждённо, но уже в следующую секунду сник, застыв весь в ожидании, или в каком-то странном испуге, трудно было понять. Лицо его словно покрылось бледностью. – Да, да, Илья Ефимович, здравствуйте… Да, он здесь…
На какое-то время он застыл, побледнев ещё больше. Потом проговорил растерянно: «Хорошо… Хорошо…» – и медленно положил трубку.
Он сел, облокотился скулами на руки и сказал тихо, не поднимая глаз:
– Звонил Борин. Бери машину и поезжай к нему. Он сам просит…
Дверь Шамсиеву на этот раз открыла миловидная девушка в белом халате, с саквояжем в руке, собиравшаяся, видимо, покинуть квартиру.
Следователя охватила тревога. Неужели случилось что-нибудь с Бориным?
– Вы, наверное, следователь? Проходите, пожалуйста! Илья Ефимович ждёт вас! – сказала любезно девушка, указывая свободной рукой вглубь квартиры и уступая ему дорогу.
У Шамсиева сразу отлегло от сердца. Он вошёл в прихожую. Уходя, девушка доверительным жестом попросила его наклониться и шепнула на ухо:
– Я только что сделала укол Илье Ефимовичу. Сейчас его состояние улучшилось, но вы уж, пожалуйста, не утомляйте его. Он очень слаб…
– Хорошо, я постараюсь, – успокоил её Шамсиев.
– Илья Ефимович! Тут к вам пришли! – предупредила она и, шепнув следователю: «Ну, я пошла!» – прошмыгнула за дверь.
С улыбкой посмотрев ей вслед, Шамсиев тихими, бесшумными шагами прошёл в комнату, где три дня назад ему в первый раз пришлось беседовать с хозяином квартиры.
Борин находился в той же комнате, но не сидел в кресле, как в тот раз, а лежал на кровати, накрытый большим тёплым одеялом.
Подойдя к нему, Шамсиев тихо и учтиво поздоровался.
Несколько секунд Борин как бы не реагировал на его приветствие, затем медленно повернул голову и, посмотрев на него мутными, воспалёнными глазами, произнёс глухим и безжизненным голосом:
– Присаживайтесь. Хорошо, что вы пришли…
Взяв стул, следователь поставил его поближе к кровати и сел так, чтобы удобно было общаться с больным.
Взгляд его невольно упал сначала на тонкие, словно ставшие прозрачными руки старика, покоившиеся на поверхности одеяла, скользнул по худым угловатым плечам и остановился на лице, выглядевшем теперь чуть опухшим, пожелтевшим, словно налитым воском, – и следователь понял, что смерть подошла к этому человеку так близко, что уйти от неё уже было невозможно. И ему почему-то стало жаль старого режиссёра.
Словно угадав его мысли, Борин ухитрился каким-то способом выжать из себя улыбку и промолвил тихо:
– Красив я стал, правда? Да, маска смерти никого ещё не украшала. Недолго, недолго уже осталось…
Шамсиеву хотелось успокоить старика, одобрить словами утешения, но язык словно отказывался повиноваться ему в эту минуту – уж слишком явственной была печать смерти, лежавшая на всём облике несчастного. И он решил лучше помолчать в надежде, что Борин сам снова заговорит и ещё многое ему скажет – ведь не случайно он пригласил его к себе в столь тяжкий для себя час.
И, действительно, Борин после короткой передышки беспокойно заворочался в постели, словно хотел подняться, затем, бессильно опустив голову и отведя в сторону взгляд, проговорил медленно, чуть дрожащим голосом:
– Вот что я хотел вам сказать… Это я убил Аристову!
Следователю показалось сначала, что после этих слов старый режиссёр вот-вот заплачет. Лицо его как-то болезненно сморщилось, задрожало. Но произошло другое.
В глазах режиссёра вдруг вслыхнул неяркий свет пробуждающейся жизни. Он сразу расслабился, задышал ровно и спокойно – должно быть, на него стало действовать введённое медсестрой лекарство.
– Да, это я убил Аристову, – повторил он, посмотрев чуть искоса на следователя. – Я убийца, но, клянусь, не тот убийца, которого следует ненавидеть и предавать анафеме. До сих пор я не могу понять, что тогда случилось со мной. Дикость какая-то, фантасмагория… Но вы, наверное, всё поймёте. А сначала… Сначала возьмите конверт, что лежит у меня под подушкой. Это моё письмо к прокурору, там всё сказано. Я написал его ещё месяц назад, но всё не решался отправить, думал, выживу, сам отнесу. А тут приехали вы, совсем меня напугали… Возьмите, я должен быть уверен…
Встав, Шамсиев подошёл к изголовью больного и, засунув под подушку руку, вытащил почтовый конверт, на лицевой стороне которого была выведено аккуратным почерком: «Прокурору района Трифонову Александру Петровичу от Борина Ильи Ефимовича. Чистосердечное признание».
Конверт был заклеен, и внутри его прощупывалось довольно объёмное письмо.
– А теперь садитесь, пожалуйста, – Борин с мольбой посмотрел на него. – Садитесь и выслушайте, пока у меня ещё есть силы. Вы видите, я ожил немножко. Перед вашим приходом медсестра сделала мне укол морфия. Но не подумайте ничего плохого, я в своём уме и ручаюсь за каждое сказанное слово. Без укола я просто бы не выдержал…
– Рассказывайте, Илья Ефимович! Я долго ждал этой встречи… – сочувственным, спокойным тоном проговорил следователь, садясь на своё место и пряча письмо в карман пиджака.
– Я знал, что вы меня подозреваете, – вздохнул Борин, обращая взгляд лихорадочно блестевших глаз в нависший над ним белый потолок. – Я слышал о вас, читал в газетах. Вы и впрямь талантливый следователь, если сумели и на этот раз так быстро нащупать нужную ниточку. Вероятно, я доставил вам немало хлопот. Но надеюсь, вы поймёте меня и не станете обижаться. Итак, вы готовы? Слушайте теперь, и клянусь, в моём рассказе не будет ни слова лжи…
И Борин начал рассказывать, рассказывать тихо, самозабвенно, словно для него уже не существовало больше в мире ничего, кроме этой замкнутой с четырёх сторон комнаты, кроме следователя, задумчиво сидящего возле его постели, и кроме этой холодной белизны потолка, на который он, вероятно, уже смотрел не один день в ожидании близкой смерти.
– Вы помните, во время нашей первой встречи я рассказывал о своей жене, о её смерти. Да… это было тяжёлое для меня время, – говорил он, глубоко вздыхая. – Жену мою величали Верой Иосифовной. Она тоже работала в театре и, знаете, была неплохой актрисой. Но уж так, видно, было суждено, что театр соединил нас и театр разлучил, разлучил навсегда… Жили мы тогда в Москве, и я никак не хотел отпускать её в ту гастрольную поездку по волжско-камским городам. Сам я работал в то время над режиссурой нового спектакля и мне было не до поездок. А она всё-таки настояла, поехала. Гастроли уже близились к концу, когда их теплоход столкнулся ночью с каким-то грузовым судном. Это произошло недалеко от Перми. На теплоходе возник пожар, все стали прыгать в воду. Тело Веры нашли лишь через неделю у берега, возле какой-то деревушки… Сами понимаете, пришлось хоронить её в Перми. Когда я вернулся в Москву, то просто умирал от тоски и одиночества. Я любил свою жену, это была добрая, на редкость красивая женщина. Меня всё время влекло к её могиле. Вскоре я бросил Москву и переехал в Пермь. В это время я был уже довольно известен, имел награды, звания, но северяне, знаете, народ сдержанный, холодный, встретили меня не очень радушно. Пришлось даже в первое время подрабатывать мелкими ролями. Зато я был рядом с ней, с моей Верой, мог в любое время пойти к её могиле, положить цветы. Со временем мои театральные дела наладились, через год я стал ведущим актёром, а ещё через полгода главным режиссёром театра. Долгое время я был одинок, никак не мог забыть свою Веру. Но, видно, правду говорят, что от женщины, как и от смерти, никуда не уйдёшь.
В год моего пятидесятилетия приехала к нам в театр одна молодая особа, окончившая театральную студию, красивая, с роскошными светлыми волосами и такими большими голубыми глазами. Звали её Наденькой, а если полностью, Надеждой Викторовной. Было ей тогда двадцать лет и, несмотря на молодость, чувствовались в ней ростки большого таланта. Впрочем, первые два-три спектакля не принесли ей особого успеха, зато когда она сыграла Элен из «Соломенной шляпы» Лабиша, зал просто рукоплескал ей. И потом были удачные роли…
Прервав свой рассказ, Борин опять попытался встать, но ему не удалось это сделать.
– Простите, – сказал он, посмотрев с бессильной улыбкой на следователя. – Не могли бы вы положить подушки чуть выше, поближе к спинке кровати. Это лекарство… Оно будто прибавило мне сил, и я, пожалуй, мог бы чуть присесть.
Подойдя к больному, Шамсиев осторожно обхватил его рукой и, передвинув подушки, помог режиссёру принять желаемую позу. Теперь Борин мог говорить с ним полусидя, полностью повернувшись к собеседнику и имея возможность наблюдать на ним.
И выглядел он теперь уже вполне сносно, на его щеках даже зардел чуть заметный румянец.
– Благодарю вас, – слегка склонил он в поклоне голову, вероятно, вновь почувствовав себя артистом. – Уж извините за хлопоты. Сиделка ушла пообедать, а у врача, сами понимаете, таких больных дюжина…
Шамсиев ничего не сказал в ответ. Насчёт сиделки, врача и всего прочего у него уже было своё мнение. Та лёгкость, с какой врач покидала квартиру, где оставался тяжелобольной, по существу умирающий человек, наводила на размышление с самого начала. Ведь в подобной ситуации её присутствие при допросе представлялось скорее желательным, нежели недозволительным. Да и вообще трудно было допустить, что в таком состоянии Борина хотя бы на минуту могли оставить дома одного, без присмотра. Как и во время первого визита, Шамсиев не мог избавиться от мысли и ощущения, что, кроме него и Борина, в квартире находится ещё кто-то. Непроницаемая тишина комнаты, зашторенные среди белого дня окна, наглухо затворённая дверь соседней комнаты лишь усугубляли его подозрения. Но следователь не спешил приоткрывать крышку тайного ларца. Его сейчас больше занимал рассказ больного режиссёра, который он хотел непременно дослушать до конца. Всё остальное как бы отодвинулось на задний план, и время потеряло для него всякое значение.
Борин между тем, памятуя, зачем пригласил к себе следователя, продолжал рассказывать, время от времени находя в себе силы улыбаться и даже жестикулировать руками.
– Что и говорить, она была прекрасна и на сцене, и в жизни, – вспоминал он с грустью. – Пусть простит меня Всевышний, но я влюбился в неё с первого взгляда и не мог уже больше разлюбить, как бы потом ни испытывала меня судьба! Не берусь судить о её чувствах, скажу одно, относилась она ко мне с вниманием, была со мной искренна и откровенна. Вероятно, это и толкнуло меня на рискованный шаг. Я женился на ней, женился, несмотря на свой почтенный возраст. Три года спокойной счастливой жизни залечили мои раны, я чувствовал себя словно заново рождённым. Она стала моим ангелом, моей путеводной звездой. У нас не было детей, и это, возможно, сыграло роковую роль в наших дальнейших отношениях…
Горькая улыбка застыла на какое-то время на губах режиссёра.
– Он был из Кунгура, красавец, боксёр, кумир публики. Приметил он Наденьку во время соревнований. Наденька любила спорт и часто ходила смотреть состязания. Боксёр ей тоже понравился, и сколь бы пикантной ни была ситуация, она не стала от меня ничего скрывать, призналась во всём и сказала, что хочет покинуть меня. Что я мог ответить ей на это? Я любил её, любил, можно сказать, страстно, безумно, но пытаться удержать возле себя юную красавицу, очарованную появлением нового бога, настоящего Адониса… Разве это было в моих силах?
И я решил уступить дорогу этому новому богу. Мы с Наденькой развелись, и она уехала к нему в Кунгур. Но новоявленный Адонис оказался слишком любвеобильным.
Они расстались буквально через несколько месяцев, но что-то случилось после этого с Наденькой, она стала всячески избегать меня. Несколько раз я ездил к ней в Кунгур, уговаривал вернуться, но она была непреклонна.
В конце концов мы договорились поддерживать нормальные дружеские отношения, не вторгаясь в личную жизнь друг друга, но это оказалось не так-то просто. Я слишком любил её и всё ещё не оставлял надежды и лишь позднее, убедившись окончательно, что наши встречи не доставляют мне ничего, кроме страданий, покорился судьбе и навсегда уехал из Перми…
Борин опять прервал свой рассказ, как-то рассеянно посмотрел по сторонам, словно желая убедиться, что всё происходящее сейчас не сон, не видение, и лишь ощутив на себе пристальный и внимательный взгляд сидящего рядом следователя, снова углубился в свои воспоминания:
– Для Москвы я уже чувствовал себя утерянным, поэтому приехал сюда, в этот город. Я поступил в местный театр, отдался весь работе. Это помогло мне на время забыться. Но однажды она позвонила мне, справилась о моих делах и здоровье, и снова возгорелось в душе угасшее было пламя. Я стал вновь писать ей письма, уговаривать приехать, но она словно дала обет невозвращения. Так прошло ещё пять лет. Я сошёлся с другой женщиной, пытался наладить жизнь, но ничего из этого не вышло. Потом я ушёл на пенсию, стал затворником, и потекли скучные старческие дни. Конечно, я встречался с друзьями, сослуживцами, по-прежнему переписывался с Наденькой, звонил ей, но увы, жизнь моя уже текла по иному руслу. Не было в ней, как говаривал когда-то мой отец, цыган, гитар и троек с бубенцами… И теперь я перехожу к самому главному. Надеюсь, вы ещё не устали слушать меня…
Старик опять тяжело задышал, беспокойно заёрзал лопатками по подушке.
– Рассказывайте, рассказывайте, Илья Ефимович! Может быть, вам дать что-нибудь: воды или лекарства? – приподнялся со стула следователь.
– Нет, нет, – вялым движением руки остановил его режиссёр. – Это всё морфий. Не обращайте внимания… Так вот. В начале нынешнего года я вдруг почувствовал себя плохо, появились боли в сердце, кружилась голова. Сначала я не придавал этому значения, думал, обычные возрастные явления. Да и врачи не находили сначала ничего страшного, успокаивали, советовали, лечили. Но однажды, после очень тяжёлой бессонной ночи я сказал себе: «Ты, дружок, серьёзно болен, тебе пора знать правду и начать приводить свои дела в порядок».
И первое, что я сделал, это обратился к профессору Лемеху, сдал кровь и всё, что требовалось для анализов, позвонил затем Наде, сказал ей о своей болезни и просил как можно быстрее приехать. У меня была квартира, имелись кое-какие сбережения, ценности и следовало ими распорядиться… Наденька обещала приехать, но наутро я получил от неё телеграмму, где она сообщала, что заболела воспалением лёгких и приехать не сможет. Происходило всё это как раз накануне того трагического события…
На следующий день я пришёл к профессору, чтобы узнать о результатах анализов. Профессор не стал ничего скрывать, сказал всё как есть, и я узнал, что неизлечимо болен и что мне остаётся жить немного…
До позднего вечера я блуждал в тот день по городу, словно лунатик, временами приходя в себя и осознавая весь трагизм, всю нелепость своего положения. Это, наверное, трудно представить. Ты как будто бы ещё и жив, продолжаешь мыслить, чувствовать, но что-то в тебе уже умерло, что-то не подчиняется твоим желаниям. Как будто бы ещё и светлый день вокруг тебя, солнце светит, и люди рядом, разговаривают, смеются, и ты видишь их и слышишь, но знаешь, что всё это уже в прошлом, в каком-то другом, совершенно отдалённом мире, и ты здесь чужой, уже лишний и никому не нужный. Просто гость какой-то. И от этой мысли такие временами находят горесть и отчаяние…
Помню, уже темнело, а я всё бродил по городским окраинам, пытаясь хоть в чём-то найти успокоение.
Кажется, я уже возвращался домой. На одной из улиц, где были какие-то траншеи, остановилась машина, и из неё вышли двое: высокий элегантно одетый мужчина и рядом с ним…
Вы знаете, я не поверил своим глазам, будто небо покачнулось надо мной. Да, элегантный мужчина и рядом с ним была моя Наденька, красивая, светловолосая, с букетом ярких цветов в руке.
Мужчина нежно обнял её, поцеловал и направился в сторону ресторана, а она, обойдя траншеи, пошла к расположенным поблизости жилым домам.
Какое-то время я стоял как вкопанный, не в силах даже сдвинуться с места, но потом опомнился и, сам не знаю для чего, зашагал за ней. И с каждым шагом сердце наполнялось обидой и злостью. «Значит, она всё-таки приехала! – думал я, задыхаясь от возмущения. – Приехала и тут же нашла себе ухажёра! Плюнула на все мои просьбы и ожидания!»
Обида, боль, гнев, отчаяние – всё собралось в кучу, сплотившись в какое-то тупое и безмозглое орудие мести. И я уже не шёл, а, можно сказать, гнался за ней, пока оба мы не оказались на дворовой площадке. Там росло много деревьев и, вероятно, нас никто не видел или просто не обратил внимания. Я подобрал что-то вроде камня или булыжника и, сам ещё не зная зачем, продолжал преследовать её.
Когда она зашла в подъезд и стала подниматься по лестнице, я подбежал к ней сзади и ударил камнем по голове.
Что было дальше, я уже помню плохо. Камень, кажется, выскользнул у меня из рук, упал, и я, выбежав из подъезда, опрометью помчался домой. Я бежал, петляя между домами и стараясь выбирать места, наиболее тёмные и безлюдные. К счастью, никто не попался мне навстречу, лишь потом в подъезде какая-то женщина, испугавшись, отпрянула и уступила мне дорогу. Вероятно, она подумала, что я пьян…
Только дома я окончательно пришёл в себя, принял холодный душ, наглотался каких-то пилюль и, свалившись на кровать, уснул мертвецким сном…
Борин передохнул чуток и продолжал:
– Утром я позвонил в театр, заместителю директора Шейнину – он всегда слыл у нас источником самой свежей и последней информации – поинтересовался у него, что слышно в городе. И узнал невероятное: в подъезде дома какой-то неизвестный маньяк, ударив камнем, убил племянницу первого секретаря горкома.
И я сразу понял всё, понял, какую непоправимую ошибку совершил. С этого момента меня охватил жуткий страх, и я уже не спал спокойно ни одной ночи.
Позднее я узнал, что прокуратура начала по этому случаю расследование.
О чём я думал в те первые и последующие дни? Нет, не об ожидавшем меня возмездии. Я знал, оно неотвратимо и должно настигнуть меня рано или поздно. Любое наказание, даже смерть, я готов был принять безропотно. Но я боялся, жутко боялся больше всего знаете чего? Когда-то один знакомый юрист рассказывал мне, что арестовывая человека за то или иное злодеяние, арестовывают прежде всего его тело. Как только его заключают под стражу, тело как бы перестаёт принадлежать ему. И даже если потом он умирает в неволе или подвергается расстрелу, тело его, как казённое имущество, никому уже не возвращается, даже родственникам. Его хоронят без имени и без могильных знаков, как невостребованное имущество, распоряжаться которым может только государство. Жестокое правило, конечно, но, должно быть, так положено.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.