Читать книгу "В Зырянском крае. Охотничьи рассказы"
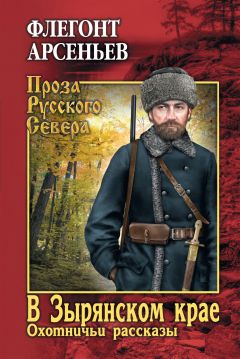
Автор книги: Флегонт Арсеньев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
IV. Ляйкодж
Наступил серый, сырой, скучный месяц сентябрь. Подкрался он в этот год как-то незаметно: все было тепло и ясно, во весь август шли чудные летние дни, как вдруг вместе с сентябрем круто свернуло на осень, и загудел неумолкаемо северный ветер; загудел – и гудит себе не перемежаясь, крутит, перевивает пожелтелые, обвалившиеся листья и хлещет в окна голыми ветвями рябины, обивая кисти спелых ее ягод. Хвойный лес, зеленевший по ту сторону Вычегды, как-то почернел вдруг и притуманился, и даже луговая пожня, раскинувшаяся таким широким привольем за рекою Сысолой, зарябела какими-то грязно-желтыми цветами. Все завяло, засохло, опустилось, охохлилось. Вон едет зырянин на двухколеске с возом ячменных снопов. Лениво, понурив голову, выступает его тощая лошаденка. Лениво шагает за нею и зырянин, принарядившийся по осеннему времени в теплую шапку-ушанку, сшитую из молодых оленят, известных под именем пыжиков, и в зипун из толстого домашнего сукна коричневого цвета с искрой. За возом бежит клокастая исхудалая собака с опущенным хвостом, а за собакой какой-то вертлявый мальчуган в дырявых сапогах, из-за голенищей которых трепещутся полосатые клочья зырянских чулков. У повалившегося забора стоит корова что-то не в духе, смотрит пристально на почерневшую ботву картофеля в огороде да пожевывает. Надь всем этим пасмурное, сердитое небо, с изорвавшимися точно после драки облаками, которые несутся скоро-прескоро куда-то без оглядки. Мелкий, ненастный дождик однообразно падает на влажную землю и, брызгая в окна, пускает по стеклам извилистые дорожки. Грустное, невыносимо тяжелое, гнетущее время! Куда ни посмотришь, везде все скучно, неприглядно, неопрятно.
Чу! Скрипнула дверь: кто-то идет. Непременно разговор начнется о погоде, вот утешение! Или это Абрам? Пришел и остановился у косяка, заложивши руки за спину, верно, на уме есть какая-нибудь затея.
– Что, Абрам, скажешь хорошенького?
– Да что сказать-то? Ничего не скажу, все хорошо.
– Уж будто ничего не скажешь! Видишь, погода какая мерзейшая: дождь моросит, ветер свищет…
– Погода бы нешто! Что нам погода? Пускай дождит! Не сахарные…
– Не растаем! – добавил я. – Знаю, брат, я твою пословицу: уж ты наверно что-нибудь затеял! На охоту, чай?
– Да пожалуй, из-за погоды и все сиди дома да точи веретена, а время-то что ни на есть лучшее и пройдет.
– Какое же это такое лучшее время?
– А хоть бы пролет гусей. Они теперя валом валят. Такие ли стада летить гуся, что уму невообразимо!
– Ну так что же?
– Ничего, на печь не прилетят, ехать надо на охоту.
– Вот как! А дождик-то, а ветер-то, а холод-то?
– Это што… Это все пустое, потеплее оденемся…
– Не знаю, Абрам, тяжело как-то подыматься в этакую погоду, да и будет ли удача?
– Не знаю; как хотите, а задача быть должна, потому погода этакая сумрачная, гусь летит низко и отдыхает часто.
– Так ехать, что ли?
– Да пойдемте! Что тут долго думать-то?
– Куда же? В Парчег, что ли?
– Зачем нам в Парчег? Пойдемте в Ляйкодж: там места не в пример притоманнее и подборы лучше.
– Да там ведь, говорят, охотника много?
– Што охотника! Зырянские-то мешалки нам не помеха. Из ихних дудок немного напиливаешь.
– А дождь-то?
– Опять дождь! Эк вас дождь-то пугает, точно впервые!
– А лень-то?
– А лень-то оставьте на стуле. Без нее обойдемся.
– Так ехать?
– Ехать! – отвечал утвердительно Абрам и выразительно тряхнул при этом головою.
– Ну, уж быть так, излаживай же лодку.
– Коли ехать, так в ночевку!
– Конечно в ночевку, так и готовь, да проворнее!
– Живо будет готово. Излаживайтесь сами, а за мной дело не станет. – Абрам торопливо скрылся хлопотать об отъезде.
Лениво поднялся я с кресел, на которых так покойно и хорошо меня пригрело, и отправился начинять патроны. Все они были перебиты и разрознены. Надо было привести в порядок, заряды увеличить, потому что стрельба предстояла дальняя, и набить несколько патронов картечами для гусей. Пока я это все излаживал, входит Александр Иванович В., мой прошлогодний спутник в охоте на черных уток.
– Что вы, на охоту?
– Да вот, все Абрам: говорит, гусей много набьем…
– А меня возьмете?
– С удовольствием. Да вам можно ли? Мы ведь будем ночевать.
– Отчего же нельзя? Завтра праздник, можно.
– Ну, так едем вместе, веселее будет.
– Так подождите меня: я сбегаю за ружьем да за запасом, живой рукой ворочусь…
– Бегите, бегите! Подождем.
Александр Иванович убежал. Работа моя подвигалась понемногу вперед. А дождь все гвоздит себе да гвоздит в окна, ветер все свищет да свищет, наводя на душу какое-то уныние. Лучше бы в такую погоду быть дома, в мягком кресле да в теплом халате, перед тлеющим камином! – скажет иной зажиревший сидень: а то поди, дрожи там под дождем и холодом! Но ведь недаром сказано, что «охота пуще неволи». Хороша и покойна халатная жизнь, но в груди охотника есть сила, которая неудержимо влечет его на открытую природу, несмотря ни на слякоть, ни на дождь, ни на злую вьюгу.
Скоро возвратился Александр Иванович, еще скорее изладился Абрам; позамешкался только я один, но при пособии В. и мое дело кончено было в несколько минут. Мы сели перекусить на дорогу. К столу явилась Диана, моя охотничья сука, от кровных маркловских собак.
– Все любуюсь на вашу собаку: что за стати! – сказал Александр Иванович, с трудом прожевывая бифштекс, на который, помахивая хвостом, умильно поглядывала Дианка.
– Да, хороша. У стола только канючит, это несносно.
– Ну, это пустяки, это ничего! Что, Дианушка? На охоту, на охоту пойдем, каналья! Вишь, как пересеменивает, работу чует! Можно ей кусочек хлеба?
– Отчего же нет? Можно.
– Абрам, чай, с своим Султаном поедет?
– Не знаю, возьмет ли он своего Султана; я думаю, возьмет. Абрам! Ты возьмешь Султаншу? – спросил я своего ретивого охотника, зашнуровывающего чемодан, в который взято было теплое платье для ночлега.
– Беспременно возьму. Без Султанши никаким способом не обойтись в теперешнее время: утку убьешь – не самому же лезть…
– А как мешать станет?
– Султашка-то, что вы! Да он даром что оболтус толстоголовый, а только что не говорит: что прикажешь, то и делает.
– Уж будто что прикажешь, то и делает?
– А вот ужо сами увидите, недаром я его шпиговал.
– Что ваша собака, Александр Иванович? – обратился я к В., у которого был тоже пес одного гнезда с Султаном.
– Что моя собака! Горе, а не собака: не послухмянна, блудня, и в поле нет никакого иска.
– А какой знатный щенок был! Изо всех! Подите вот, угадайте!
– Да у меня ее избаловали домашние, а то, может быть, и порядочная бы вышла.
– Какие вы охотники! – вмешался Абрам. – Собаки не сумели выходить. Вот у меня какой Микитка головастик, а ведь приучил же к делу. Старанье, батюшка, надо иметь, да присмотр, без этого никакая собака не будет путной.
– Да, тебе хорошо рассуждать: у тебя только и дела-то, что охота, а тут уйдешь на службу – братишки маленькие и поднимут возню с собакой, всю перепортили, пострелы!
– Конечно, да все же своей заботливости мало: не на руки попала! – стоял на своем Абрам, всегда любивший подтрунить над неопытными охотниками и вплести в свою речь хвастливое слово.
Вышли. Сырой ветер таково неприятно пахнул нам в лицо. Дождь перестал, только серые облака низко тянулись над нашими головами, да вся даль как-то туманилась, будто задернута была дымкой, чрез которую мутно сквозили окрестности с полями, лугами и темнеющим лесом. На востоке, на самом краю горизонта, просвечивалась голубая полоска неба. Абрам пристально посмотрел на нее и решил, что оттуда непременно к вечеру разнесет и завтрашний день будет ясный.
Сдернули лодку с берегу, уложились, сели: я на корму, Абрам в весла, а Александр Иванович посередине, на чемодан; собаки улеглись ему в ноги.
– Через Копанец? – спросил Абрам.
– Конечно через Копанец: ближе. Придется лодку тащить, да не беда! – отвечали мы.
Поехали вниз по Сысоле. Быстрое течение воды, значительно поднявшейся от осенних паводков, скоро повлекло нашу лодку, подгоняемую дружными веслами. Вот миновали мы гарнизонные амбары с полосатою будкою и мерно шагающим часовым; вот промелькнули мимо нас жалкие, искривившиеся два овинишка, срубленные на берегу Сысолы в какие-то давние времена ленивою рукою зырянина; вот и деревня Кулига, разбросанная затейливым беспорядком по подгорью; вот и Вычегда… а там, дальше, на высоко и круто приподнятом берегу ее мелькнула нижнеконская часовня! Пристально взглянул я в эту мглу, в которой едва заметно белелись стены часовни, а в густом сером тумане тускло светился ее крест, и предо мной начали проходить живою толпою воспоминания о недавно прожитом, прожитом всею силою молодости, с полным захватом жизни, и далеко-далеко увели меня мои мысли…
– Что это, батюшка, куда вы правите? Ведь надо вверх теперь подниматься! – прервал мои разбродившиеся мечты Абрам, сильно загребая правым веслом и поворотив таким образом лодку против течения Вычегды, в которую мы успели уже въехать. Я спохватился, поставил лодку по направлению нашего пути, и место приятных воспоминаний осталось за спиною.
– О чем это вы так замечтались? – спросил меня Александр Иванович.
– О былом и суете мира сего, – отвечал я ему, невольно, но тяжело вздохнувши.
– Стоит! Что прошло, того не воротишь, а что идет, того не изменишь.
– Правда. Об этом-то именно я и думал, что прошедшего не воротишь, а идущего не изменишь.
– Так не для чего попусту и голову ломать, а вот поболтаемте-ка лучше об охоте: хоть время как-нибудь скоротаем.
– А пожалуй, поболтаем и об охоте! Вот Абрам может что-нибудь нам расскажет. Ну-ка, Абрам, разводи бобы!..
– Развел бы, да не о чем: все переговорил.
– Уж и не о чем! Покопайся в памяти, авось что-нибудь и найдешь, – сказал Александр Иванович.
– Оно, конечно, как не найти. Рассказать разве о лисице, что прошлой зимой из-под дула у меня улизнула?..
– Какая такая лисица? – с любопытством спросил В.
– Хорошая лисица, черно-бурая, из рук просто ушла; вспомнить не могу без болести сердечной… да ведь вы слышали?
– Нет, не слыхал, – сказал В., – ну-ка расскажи.
– А вот слушайте, как дело было. Весь Великий пост бродил я прошлый год за волками. Много их было тогда: по городу шатались, собак с крылец таскали. В двух местах положены были у меня пропадины, на сторожку ходил, да хитры оченно: точно кто им скажет, – ни за что не придут в ту ночь, когда сидишь, а после придут беспременно и пропадину сожрут всю и кости растаскают. Ставил я около притравы капканы, но и тут никакого толку не выходило, чуют железо, что ли, или постановка нечиста, только каждый раз обойдут то место, где стоит капкан, и подойдут к пропадине с другой стороны, или вовсе не подходят, побродят только около, да и уйдут в уйму. Опять раздирательные уды весил с кусками говядины, и то вздорным делом выходило: утренник так заморозит говядину, что все уды наплотно свяжутся и вовсе не действуют. Таким-то манером я и провозился дармя до пятой недели, не добывши ни на грош. Время подходило к весне, теплее сделалось, ночи стали такие звездные, светлые, зори такие длинные, ясные.
Как теперь помню, в воскресенье вечером были у нас гости, просидели за картами часов до двух. Вышел я их провожать, слышу – воймя воет волк на Сысоле, прямехонько против собора. Такие тоны заунывные выводит, будто с него, проклятого, черт лыки дерет. Я скорее за ружье (картечами давно приготовлено было) – и побежал на голос. Добежал я до спуску, где дорога на Сысолу через реку идет, спустился до половины взвоза и стал под навес сарая, который под горой-то стоит. Ночь была тихая, звездная. Видеть можно было далеко, только против меня густая тень падала на дорогу от сарая и застилала ее. Это-то мне всю статью и испортило. Вот, стою я этак под навесом-то и слышу – волк гоняет что-то по Сысоле: вниз угонку сделал, да заворотил, назад погнал, потом опять вниз, а тут опять вверх, и все чуть мне как взвизгивает он и рвется. Я с места не двинулся, не шевелюсь, жду, что будет дальше. Вдруг вижу – по дороге-то, прямо с этой стороны как клуб катится, несется ко мне что-то небольшое. А, думаю, собака! Видно, ее и гонял волк; вот и он вслед за ней пожалует. Поднял ружье, взвел курки, дожидаюсь. Только эта собака как метель поднялась по взвозу, пробежала мимо меня саженях в двух и села неподалеку – так шагах в двадцати, но в тени никак не можно было рассмотреть хорошенько; видно только было, что мордочка такая тоненькая, ушки востренькие, посматривает туда под гору. Что за чудо, думаю: на собаку как будто непохоже; дай-ка я ее тяпну! Приложился, совсем хотел курок спустить, да опять раздумал; что же, мол, убью я собаку, а волк сейчас должен быть следом за ней: только вспугаю его, вернется. Опустил ружье, да и мызгнул я этой собаке. Как она услыхала мое мызганье, – повернула назад да мимо меня опять под гору-то шмыг, а волк-то ей навстречу прямехонько и выкатил. Она видит, что дело не минучее, как кинется с дороги налево через бугор снегу, хвост-то и развился, пушистый такой, толстый. Тут-то я и догадался, что это была лисица. Волк за ней прыжок, да так наддал, что вот чуть-чуть не сел ей на шивороток, в это самое время я приложился по волку – бац! Откачнулся он в сторону, пал и начал кататься. Я из другого ствола – осечка. Справился волк и утянул через реку. Вот я скорей бежать домой (близко тут), ног под собой не слышу, луплю да сам себя ругаю за просак: лисица в шести саженях сидела, сама в руки давалась, и не сумел я дела обделать! Какой я есть охотник!.. Можжухой такого охотника провенчать. Прибежал домой, зарядил ружье, засветил фонарь – и опять на то место, где стрелял волка. Осветил, вижу – кровь, и таково много, видно, сильно поранил. Отлегло немного от сердца: хоть волка-то удорожил, и то добыча. Пошел я по следу – везде кровь, и не то, чтобы каплями, а так, дорожкой: видно, струей била из раны. Версты я две этак прошел. Во многих местах волк катался, где и лежал, и все кровь. Перестал я его следить, оставил до утра, потому свечка в фонаре догорела, темно стало следы разбирать. Воротился домой, лег, но не спал, с ума не сходила лисица, все так и мечется в глаза, как она бежала мимо меня, как сидела передо мной, как тень эта проклятая от сарая помешала мне рассмотреть ее, как она побежала назад, прыгнула через бугор, только хвостом пушистым подразнила, точно медом по губами помазала. Всю ноченьку пролежал в думе, с боку на бок ворочаясь и себя ругаючи. Лишь начало брезжиться, пошел я волка искать. Лыж хороших в тот год у меня не было: дело, вишь, вскоре по поезде сюда случилось, не успел запастись, просто ходил на лямпах[25]25
Лямпами в зырянской стороне называются простые лыжи, необитые оленьей шкурой.
[Закрыть], а на них, сами знаете, какая ходьба – чуть горка маленькая, сугроб ли, скидавай с ног, да и ползи на четвереньках, потому нисколько не держат, не то что заправние лыжи, подбитые оленьими кисами: на тех хоть на какую огромнейшую гору полезай, вершка не сдадут назад. Вот на этих-то самых лямпах пустился я следить волка. Верст шесть или семь прошел я с того места, где вчера оставил его след, и все кровь урезная хлестала из него не перемежаючись, а в коих местах лежал, так снег до самой земли протаял от крови. Диву дался я, как он не подох, окаянный, от потери столько руды!.. И где он только не шел: и косогорами-то, и в буераки-то спускался, в надуви залезал, сквозь чащи продирался. Тошно, видно, было сердечному: везде облегченья искал. Вижу, впереди два зарода (стога) сена стоят, следы прямехонько к ним. Думаю, не залег ли он тут, дай брошу обходную лыжницу[26]26
Обойти кругом на лыжах.
[Закрыть]! Только хотел я сделать круг, а он и выскочил из огородов-то. Таких прыжков десять отмахал, что как будто никогда ранен не был, а потом таково легонько и покойно похромал, оборачивая свою толстую голову на меня. Какой волчина был здоровенный! Хвостище как помело волочится, лапищи, грудь! Стрелять было далеко, я приударил за ним вдогонку, да нет, ничего не мог поделать, утек. Так я следил его допоздна, с наволоку сбил в лес и оставил опять до утра. На другой день нашел я его на лежке в чаще под выворотью: уже окоченел. Верст пятнадцать отошел он от того места, где я его вчера оставил, и протянул ноги. Тут я его, голубчика, оснимал и на радостях возвратился домой с добычей. Но пока я за волком-то тратил время, другую добычу-то, дорогую-то, потерял: не мне досталась. Не хватило у меня догадки последить хотя немного лисьим следом с того места, где я стрелял по волку, а штука-то такая вышла, что не отошла лиса пятидесяти сажен, как дала кровь. На след ее, день спустя, попал Никита из Тентюкова, охотник. Сдогадался он и давай следить. Дошел только до первых кустов, что за Сысолой, и нашел ее под елью подохшею. Конечно, другой бы честный человек не воспользовался, но, говорят, честь-то прежде почитали здесь, а теперь она не в ходу: вишь, честь не спесь, поклоном ее не чествуют и держаться, значит, ее незачем, накладисто. А лисица-то вышла черно-бурая, за тридцать целковых продал: нашему брату не шутка такие денежки. Досадно было, что добычей не попользовался. Одним выстрелом двум зверям отходную пропел, а на руки попал только один и то дешевый: за волка взял только три с половиною целковых. Вот как иной раз, батюшка, можно проштыкнуться и променять кукушку на ястреба!
– Да, это ты уж маху дал! Что бы тебе было хоть немного пройти лисьим следом, тем более если оба зверя при выстреле были на одну мишень: не весть какая хитрость догадаться, что и лисицу мог ранить! Жалко, брат Абрам! – с участием сказал Александр Иванович.
– Чего не жалко, батюшка! Уж так ли жалко, что и сказать нельзя, да делать-то нечего: близок локоть, да не укусишь; черно-бурая была…
– Ну хоть не черно-бурая, сиводушка[27]27
С рыжеватостью и проседью.
[Закрыть], может. Черно-бурая стоит рублей шестьдесят, и сто и полтораста бывает. Нынче об ярмарке видел я, пару черно-бурых лисиц продавали… что за лисицы! Шерсть как шелковая, густая!
– Видал, да это выкормыши; выкормыши стоят дешевле; выкормыши дрянь против гульной! – отвечал Абрам с заметным пренебрежением к искусственному откармливанию зверей.
– Что бы ты, Абрам, – заговорил я, – попробовал лисенят поискать, да сам бы занялся выкормкой? Ведь прибыльно!
– Прибыльно, батюшка, да несвычно, возни с ними много, а пуще отыскивать очень трудно: не наших рук дело.
– Да ведь не боги же горшки делают! – возразил Александр Иванович. – Как-нибудь отыскивают.
– Знаю я, как отыскивают-то, да та статья, что мест здешних не знаю. Кто их ведает, где они здесь гнездятся. Хитреющий зверь, – добавил Абрам.
– Да ты когда-нибудь вынимывал ли лисят-то? – спросил Александр Иванович.
– Вынимать-то не вынимал, а как делают это, знаю, – штука не то чтобы больно замысловатая. Зверь сам скажет, где у него гнездо, нора значит: лисицы все в норах щенятся. Искать их надо по последним настам, после Благовещеньего дня. В нашей Ярославской губернии в густом лесу лисьей норы не ищи, а где-нибудь на всполье, в кустерьках, в заврагах, или там на берегу ручья, в старой угольной яме. Здесь другое дело: иди в самую трущобу, в лом, где старые деревья спустили корни и отпали, большие выбило в берегах весенней водой. Здесь в таком месте ищи лисью нору. Версты полторы и две не доходя, уже ты заметишь, что лиса гнездится где-нибудь тут. Следы ее это обозначают. Как она вылезет из норы и отправится на добычу, для деток или там для себя пропитанье искать, песок-то с ног на снегу и останется: сейчас и видно, что гнездовка ходит, потому что самец никогда не живет по зимам в норах, и холостая тоже не живет. Как найдешь такие следы, и иди к норе. Отнорки[28]28
Побочные выходы.
[Закрыть] все забей наплотно, да и раскапывай. Лисята в то время бывают у нее самые маленькие; иной раз вынут таких, что молочком с рожка приходится кормить, ну а потом запрут в сарай и бросают разную живность: тут уж дело нетрудное. Только надо, чтобы сарай с полом был, а то непременно подкопаются под стену и дадут тягу. Когда выкунеют и вычистятся совсем по-зимнему (около Рождества это бывает), убивают и тащат на продажу; но уж выкормыши – выкормыши и есть, сейчас им различие найдешь: шерсть не мягкая и не ровная, подбрюшье жидковато, хвост законелистый. То ли дело словленная лисица! Не в тесноте какой-нибудь выросла! Вишь, у Бога сарай-то какой: глазом не окинешь!
– Оно конечно бы так, Абрам, – сказал В., – но ведь ловить-то их, окаянных, бедовое дело: хитрый зверь!
– Зверь хитреющий, и говорить нечего, но и между зырянами есть такие истошники, что найдут только след лисы – уж и ихняя. Ловли тут никакой не надо устраивать: капканы, петли, клипсы или там западни какие, хлопушки, ямы ни к чему на лису не пригодны; она в них не пойдет ни за какие сдобники. Надо действовать отравой, но и тут все со сноровкой, а не то чтобы так, спроста, напихал мышьяку или сулемы в кусок говядины, да и бросил, – нет, она эдак не возьмет ни за что, этим ее не подденешь, – воровата. А, вишь, как надо: нашел лишь след и делай лыжницу[29]29
Сделать лыжницу – пройти на лыжах по прямой линии до известного пункта.
[Закрыть]. Все уж после и ходи по ней, следов не клади много, а то сейчас зверя отвадишь, сдается от этого места прочь. По обеим сторонам лыжницы накидай кусочков говядины, да подальше отбрасывай, и кусочки чтобы были маленькие, в орех грецкий – не больше. Можно, пожалуй, бросить и пропадину, только небольшую. Иной вворотит целую лошадь и кормит зверя до отвалу. Плохая тут задача бывает. Зверь-то привадится, об этом и говорить нечего, да взять-то его не возьмешь: на отраву он не кинется, и без нее много говядины, в капкан не попадет, хоть начасто наставь их около пропадины, так знатно обойдет, что только руками разведешь, будто при нем было ставлено или, там, кто сказал ему, что вот, мол, тут капкан стоит. Особо мастерица на это росомаха: той хоть на тропу[30]30
Постоянная дорога зверя от логовища к корму.
[Закрыть] ставь – отвернет от капкана в сторону – такое чутье сильное! Один раз у меня что росомаха сделала: шла по тропе таково смело (пороша была в ночи, видно было по следам), дошла до капкана и остановилась, поприсела, да как махнет через – и прямо к пропадине; нажралась – и опять так же. А уж как чисто было поставлено! И лапки были выделаны на снегу, и около лапушечкой сровняно и подметено – самому трудно узнать, где стоит капкан. Вдругорядь росомаха не дошла аршина два, начала выгребать снег и так подрылась под капкан, проклятая, что он весь на весу очутился и сдал. Так поди вот и лови их!
– Железо чует! – заметил Александр Иванович.
– Как ей чуять-то, диковина! Каждый день обтираешь капканы пихтой и ставишь не голыми руками. Уж такой смысленый зверь! Ничем другим его не возьмешь, как отравой. Лиса тоже. Накидал кусочков около лыжницы и посматривай этак через день, берет ли? Сперва лиса будет ходить около лыжницы несмело, потом начнет выгребать куски из снегу и есть. Опять ей новых подбрось, да кусочка два вместе с другими отравы. И брось их так, чтоб пали на пустое место, а не около куста или дерева. Случись веточка или былиночка тоненькая, где падет кусок, конечно, лисица уж не возьмет. Но и в том есть хитина, как отраву приготовить. Не всякому это известно, а промеж зырянами есть такие дошлые люди, что сумеют статью эту обделать на издивленье. Берут сулему что ни на есть самую лучшую и в воск или серу завертывают – не знаю наверное, а потом как-то заливают в масло. Шаричек будет величиною с каленый орех. Так и бросай его вместе с кусками говядины от лыжницы эдак сажен на пять. Уж лисица там найдет по духу беспременно, и коли съела – верная добыча: иди и ищи по следу. Сажен сто отойдет, начнет кровь из себя выбрасывать: забрало значит, скоро ляжет. Но бывает и так, что уйдет верст на двадцать и на тридцать, особенно если отрава попала в сытый желудок, и потом уж издохнет. Росомаха еще дальше уходит, та выносливее.
Пока длились рассказы Абрама, мы огибали песчаный мыс левого берега Вычегды. Мыс этот прибавлял нам речного пути версты на четыре и состоял из наносного крупного хряща, положенного грядами, обросшими тощими кустиками северной ивы, молодые, голые побеги которой сквозили на сайгу как тонкая растянутая сеть. Такие мысы, или правильнее сказать отмели, не прерываются по Вычегде. Переходя то на ту, то на другую сторону, они с каждыми годом нарастают все более и более, заставляя реку менять свой фарватер, а в некоторых местах образовывать и целые острова. Замечание Абрама о погоде оказалось справедливым: день в самом деле начал разгуливаться. Весь восточный бок неба совершенно очистился от облаков, туманная мгла разорялась и явственно выступила окрестная даль с темною, непрерывною массою леса. По левому берегу реки расстилались пожни, прорезанные во многих местах глубокими логами, идущими параллельно реке. Судя по форме этих логов, по их развалистому ложу, нетрудно догадаться, что они обязаны своим существованием своенравному течению Вычегды.
Не богата красами здешняя северная природа: широкая извилистая река в плоских берегах, направо лес, налево тоже лес без конца. Кой-где разбросаны луга, по ним разбросаны кустарники, вдали виден нагорный берег Вычегды, а на нем снова тот же темный лес. Изредка встретятся две-три березы, стоящие где-нибудь особняком на берегу небольшого озера, затянутого водорослями, две-три плакучие ивы в полулежачем положении с раскидистыми вершинами, да несколько тощих рябинок с красными кистями ягод. Вот и вся картина.
Показался Копанецкий перешеек, через который мы должны были тащить лодку. Мы перевалили на другую сторону Вычегды и поехали подле самого берега. Здесь течение реки беспрестанно прерывалось маленькими водоворотами и заводями от неровностей крутого берега, острыми углами вдавшегося в реку. Лодка наша, вплывши в заводи, пошла свободнее и скорее; только по временам набегала она на струю, бившую с какого-нибудь острого мыса, и ее отбрасывало быстриною назад, но от трех, четырех дружных ударов весел она снова попадала на спокойную воду и легко летела вверх. Так добрались мы до волока, проехали несколько десятков сажен небольшим заливом и подняли лодку на берег. Тащить приводилось сажен сто. Мы перетянули это пространство в три приема, подкладывая под лодку палки и тонкие обрубки кряжей, по которым она катилась довольно легко и скоро. С другой стороны волока был тоже залив, несколько глубже первого – в него и спустили мы лодку. От залива до залива чрез волок шла извилистая рытвина, промытая, как видно, перевалом воды во время весенних разливов. Нет сомнения, что чрез несколько десятков лет Вычегда пробьет себе этою рытвиною целый рукав, сократив свой путь верст на двадцать. Таких сокращений в своем течении эта прихотливая река уже сделала много, отсекая мысы и образуя из них острова. Так произошел остров, находящийся против города Усть-Сысольска и имеющий в окружности около двадцати пяти верст. Здесь Вычегда прорыла рукав в Сысолу, соединившись с последнею выше ее устья шестью верстами.
– Вот и Ляйкодж! – сказал Абрам, указывая на противоположную сторону реки, когда мы выбрались из залива и выехали на Вычегду. – По реке было бы верст около тридцати, а чрез Копанец близехонько. Вот и баня: видите на пригорке стоит, под сосной? Тут ночевать будем.
– Что за баня? Да и к чему она здесь? – спросил я Абрама.
– Баня не баня, а просто избенка с каменкой, для ночлега зырянами сделана, а только так она прозывается баней, – вот увидите.
Мы спустились вниз по течению сажен сто, и передо мною открылся весь разрез местности, которая слывет здесь под названием Ляйкоджа. Это широкий плоский мыс, обращенный под пожню и изрезанный на части продольными логами, берега которых то круто приподняты, то развалисты, как у блюда. Местами по пожне прошли полоски елового леса, со смесью рябины и осины; последние ярко краснели осеннею листвою на черном фоне хвои. Прямо через мыс, между прогалинами леса, сквозило верхнее плесо Вычегды, делавшей в этом месте крутой полукруг. Основанием своим мыс Ляйкоджа упирался в крутой увал, поросший большим сосновым лесом. Такой же увал виднелся на другом берегу реки. Между ними образовалась лощина, по середине которой изгибом текла Вычегда. Взглянув попристальнее на такую местность, нетрудно догадаться, что увалы были первоначальными окраинами берегов Вычегды, а долина – дном ее, выступившим на степень суши в позднейшие времена. Таковы прибрежья почти всех ceверных рек. Двина, Мезень, Печора имеют и подобные же параллельные гряды возвышенностей: ныне они отстоят на несколько верст друг от друга, но, без сомнения, прежде омывались струями этих рек, которыми они служили берегами в эпоху высокого стояния вод.
Скоро перемахнули мы чрез реку, спустились по противоположному берегу около четверти версты, заехали в небольшой заливец и пристали к тому пригорку, на котором под раскидистою густою сосною приютилась крошечная избенка, срубленная на скорую руку. Собаки весело выскочили на сушу и начали строить козлы, радуясь, что наконец кончили долгий искус неподвижного сиденья в лодке. Абрам сбросил весла, бережно, с признаками особенного уважения вытащил свое ружье из чехла, отер его полою, хотя оно этого не требовало, потому что было совершенно чисто, пощупал в выходе дула пальцем, промолвив: «ружьецо, смертодавчик, догоняло сердечный, не выдай!», поставил его к сосне и предложил нам помочь ему вытащить находящуюся в лодке поклажу, что сейчас же и было исполнено.
Во время нашего переезда до Ляйкоджа мы видели не одно стадо летящих гусей. Пока день были пасмурен, вереницы их тянулись низко, пробираясь между вершинами дерев, как будто выплывая из глубины леса. Но по мере того, как погода прояснялась, как начало проглядывать и пригревать солнышко, стаи гусей поднимались все выше, летали быстрее и стройнее, звонко оглашая воздух своим металлическим говором. Каждую стаю Абрам далеко провожал глазами и заранее определял ей место ночлега.
– Вот эти, – говорил он, – на Сидор-Вич опустятся, а эти на Белом-Бору жировать будут. Посмотрите, эка стая-то! На версту растянулась, в Систы-Бож летит, там ночевать нарохтится!
– Да почему ты знаешь, где какая стая сядет? – спрашивал Александр Иванович.
– По полету видно.
– Как же можно по полету видеть?
– Да уж видно! – отвечал на подобные вопросы обыкновенно уклончиво и коротко Абрам.
Но предрекания Абрама чаще всего не сбывались, и гуси садились вовсе не на те места, который он им указывал. Впрочем, он этим нисколько не смущался: «Не сели на Сидор-Вич, ну так значит полетели дальше, в Нидзес, там отдых делать будут», – обыкновенно решал он дальнейший вопрос о будущем притоне летящей стаи.
Я полюбопытствовал заглянуть в хату: маленькие дверцы, сколоченные щитком и укрепленные на деревянных петлях, визгливо заскрипели, и на меня пахнуло каким-то вонючим, затхлым воздухом и запахом копоти, которою покрыты были стены и потолок ночлежной зырянской бани. Согнувшись в три погибели, я пролез в дыру дверец и очутился в тесной клетушке, с отдушиной вместо окна и с грудою мелкого булыжника, сложенного в беспорядке в угол, вместо печи. Против дверей устроены были нары, аршина в полтора шириною; на них валялось сено, тощая подстилка ночлежников, перетертая от долгого употребления в труху. Вот и все внутреннее содержание и удобство дырявой и грязной хаты, скорее похожей на хлев, чем на баню.









































