Читать книгу "В Зырянском крае. Охотничьи рассказы"
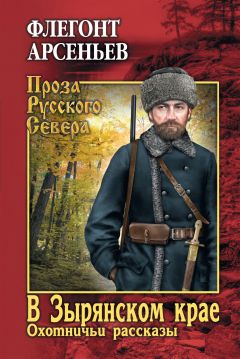
Автор книги: Флегонт Арсеньев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Барин же тем временем на Анну тоню стал закидывать: смущал ее подарками, подсылал Микитиху (старуха такая на селе жила, семьдесят уж ей было, а еще козырем смотрела, старая ведьма, и всеми этими делами мастерица была заправлять). Девка не поддавалась, не шла ни на какие приманки, потому, значит, на чести хотелось ей жить и худой славы про себя не прокладывать. Барина это сильно занозило, давай он делом вертеть круто. Семена отослал в другую усадьбу на жительство, а дедушке Михею объявил, что берет он его и с дочкою во двор. Так бы это дело и было, если б не старуха Н. Пришел к ней дедушка Михей и стал просить милости: «Чем я, сударыня, прогневал барина? Какой я работник во дворе, коли кости от старости в теле совсем порасхлябались и скрипеть начали? Помилуйте, матушка, заставьте за себя Бога молить»… – ну и так упросил старуху. Она сказала: «Хорошо»! – А уж коли сказала это, значит и будет так. Ушел Михей. Старуха призвала сына и так на него зыкнула, что тот сразу осел; бледный от нее вышел, точно в холодной воде выкупался, однако ж сам решил своего насчет Анны не оставлять, только другим манером дело повел. Прикинулся мелким бесом и давай за девкою ухаживать: пойдет ли на охоту или в поле, старается с ней встретиться, и как будто это невзначай; при встрече ласковое слово ей скажет, пошутит весело, и та ничего, остановится с ним, пошутит и посмеется: девка была бой, развеселая девка, нисколько не застенчивая.
Пораз поехали мы с дедушкой Михеем переметы кидать, и Анна была с нами. Дедушка сидел на корме, я подсаживал червяков на крючья, Анна была в веслах. Только это мы уставились на реке, а дедушка Михей спустил первый камень, – из-за мыса показалась шлюпочка. Лодочка была такая раскрашенная, маленькая, в ней все разваляевский барин и ездил. На корме правит приказчик его Давид Инатыч (тоже кровопийца был покойник, не тем будь помянут, царство ему небесное!), в веслах гребет молодой лакей Андрюха, а сам сидит посереди лодки, точно гагара длинную-то шею свою вытянул. Поравнялся он с нами и закричал Михею: «Бог помощь, лов на рыбу!» Михей снял шляпу и поклонился, Анна тоже поклонилась. В это самое время из бичевника с берегу вдруг поднялась тетерька: барские собаки, должно быть, ее сполохнули, по берегу бежали – поднялась и потянула на ту сторону прямо через наши головы. Н. вскинул ружье и выстрелил, тетерька кубарем скатилась в нашу лодку, в ноги дедушке Михею: «Возьми себе на кашицу! – закричал барин, – и ешь за мое здоровье». Анна удивилась такому ловкому выстрелу и посмотрела на Н. таково открыто, во все глаза, потом как будто что-то хотела сказать ему, заикнулась, покраснела и ничего не сказала. Проехал Н., а мы долго еще болтались на реке кидавши переметы, и все дедушка Михей подсмеивался над Анной – девка вдруг такая странная сделалась, как будто кто ее ошпарил кипятком: беспрестанно задумывается, гребет не тем веслом, каким нужно, перемет спутала, поднаплавницу не сбросила с лодки, так что под конец дедушка Михей закричал на нее: «Что ты, о чем думаешь-то?» Ну, она после этих слов как бы и очнулась ненадолго, а потом опять в душу впала…
– Послушай, Абрам, неужели ты думаешь, что Анна полюбила Н. именно с той минуты, как тетерька свалилась в лодку к Михею? – спросил я.
– А то как же? Знамо дело, с той самой минуты. Благо народу, батюшка, много на белом свете. Иные сухоту пущают на платно: кто найдет платно, у того и сухота на сердце заведется; иные на цветок, на веточку черемуховую; есть такие, которые наговор делают на рыбу, на хлеб, на воду, а всего действительнее на птицу. По всему видно, неспроста свалилась эта тетерька в Михееву лодку…
– Если неспроста, Абрам, – прервал Александр Иванович, – то всего вероятнее приключиться сухоте у дедушки Михея, потому что тетерька упала к нему в ноги, а не к Анне?
– Да уж вы там как ни рассуждайте, а притча в том, что с той самой минуты девка сильно начала отыскать сердцем по Н. И вскоре стали говорить в народе, что она к нему по вечерам похаживает, что у них уж завелись шуры-муры, и что дедушку Михея обо всем этом скорбь берет непроходимая. Прошло лето, и осень прошла. По зиме еще виднее всем стало, как Анна ходит к барину и целые ночи с ним проводит. И как же она изменилась! Узнать ее трудно было супротив прежнего, так спала она с лица! Худая стала, бледная, речи все такие печальные, а иной раз и совсем от нее никаких речей не добьешься. В церковь перестала ходить, нигде в народе не показывалась, на посиделках во всю зиму не видали ее ни разу – совсем отлученной какой-то сделалась. С весной заметно стало, что Анне в теле спорынью Бог дает, забеременела, значит. Как только узнал это Н., начал ее от себя отваживать; говорят, гонял даже, и один раз Еруслана своего науськнул на нее: тот укусил ее в ногу. Черствый был человек! Чай, на том свете сидит теперь у черта в сибирке. Анна же, на погибель свою, привязалась к нему всем своим помышлением, души своей не чаяла, простаивала напролет ночи у его крыльца да под окном.
Как теперь помню, около Ильина дни было дело. Встретил я Анну – идет утром рано от барина. Поздоровался я с ней, окликал было ее, хотел спросить что-то о дедушке Михее: старика давно почему-то не видать было, но она ничего мне не сказала, не поклонилась даже, только посмотрела на меня, и посмотрела-то таково нехорошо, таково дико. После слышно было, что в это самое утро Н. Анну сильно чем-то обидел, потаскушкой назвал, прогнал и настрого запретил людям пускать к себе; сказал, чтоб ни под каким видом нога ее на дворе барском не была, чтоб она и на глаза ему нигде не смела показываться.
Дня три спустя после этого бегут мальчишки с реки и кричат благим матом, вслед за мальчишками бабы что-то защебетали – смотрю, и много народу взбузыкалось, и все бросились что было мочи к Шексне; побежал и я. Прибежал к перевозу, вижу – большая толпа народу собралась под горой: шумят, иные бегают около берега, да в трех лодках разъезжают по реке, и Петре, Пятелин сын (удалой такой был детина на Развадяеве, отлично плавал и нырял), спускается около плота в воду. Спрашиваю, что такое случилось, утонул что ли кто? «Говорят, Анна Михеевна утопилась!» – «Как так утопилась?» – «А так, бросилась с плота, да и утопилась: ребята видели». – «Что за оказия! А дедушка Михей где?» – «А дедушка Михей, говорят, вон там на плоту». Прибежал я туда: дедушка Михей стоит на плоту, а против него бесперечь ныряет в воду Петро. Дедушка Михей просит его, чтоб он все силы свои употребил, сыскал Анну, просит и тут же указывает, как по струе тело надо искать, а у самого голос такой ровный, такой твердый и покойный голос, не воет и не стонет, только лицо побледнело очень, белое сделалось, как писчая бумага, да на реснице крупная-крупная слеза дрожит.
Долго искали Анну, и невода закидывали, но никаким способом не могли попасть на тело. Один раз тащили было в неводе что-то тяжелое, думали, что это она; подтащили к берегу – пусто; одна только светленькая-пресветленькая сорожечка запуталась было в чуче, да пробилась сквозь ячею и нырнула в воду. Бабы плели, что это ее душенька была, простилась со светом и обратилась опять в реку, где судил ей Господь пробыть до тех пор, пока грехи ее тяжкие не омоются.
Уже вечером поздно разошелся народ по домам, один только дедушка Михей остался на реке. Сел, сердечный, на плоту, опустил голову свою седую на локотки и все смотрел на воду, на то самое место, где утонула Анна. Так просидел он всю ночь и весь другой день, и опять всю ночь, и просидел бы, может, еще долго, глаз не спускаючи с воды, если б его не увели домой…
– А что же, Абрам, Н.-то? Неужели его совесть не мучила? – спросил Александр Иванович.
– Захотели! Нашли у человека совесть. Когда ему сказали, Анна утопилась, нисколько злое его сердце нескрянулось, только промычал: «Утопилась? А! Ну, ладно, туда ей и дорога», – взял ружье, мызгнул Еруслану и пошел на охоту – вот вам и вся совесть.
– А после-то, Абрам, неужели он никогда об ней не вспомянул? – допытывался В.
– А вот слушайте, до чего дойдет. Неделю спустя после этого поехал Н. в город. Дорога туда шла через Веригино: большое такое село в сорока верстах от Разваляева, ниже по Шексне стоит. День был дождливый и холодный. Проезжает Н. селом Веригиным и видит у старостина крыльца два тарантаса стоят. Спрашивает: «Кто здесь такой?» Говорят, исправник, становой, стряпчий, лекарь, – временное отделение, значит. Все это люди свои Н., приятели закадычные, приворотил. Входит в избу, а там пир горой: все уж под порядочным хмельком, особо исправник да становой молодцы были выпить, как, бывало, съедутся, так уж каждый раз как стельки и накатятся. Исправник был такой высокий, тучный, обрюзглый, плешь у него была, как солнце, говорил он обыкновенно громко и слюнями при этом брызгал и носом присвистывал. А становой низенький, рыженький, волосы у него были коротко выстрижены и стояли на голове щетинкой; глаза такие большие, cырые и всегда гноились; в речи был частоплет и заика, пятого слова уж у него, бывало, никогда не поймешь: заикается, губу нижнюю вытянет, глазами поведет, хлебнет водки и уж тогда только справится, будет говорить порядком, а потом опять на пятом слове заикнется, опять за водку – все так и пробавляется, бывало. Исправник со становым, когда выпимши, превеселые люди делались и большой руки проказники. Помню я, как-то были они в Разваляеве на следствии, порубку, кажется, свидетельствовали.
Иду я, знаете, полем, вижу: на одной лошади два человека едут верхом. Лошаденка такая тощая, одер-одром, едва двигает ноги, а они-то ее хлещут по чем ни попало. Кто бы это, думаю? Кажется, не из сельских, по-барски одеты? А это пьяные исправник со становым! И как же их угораздило усесться: один, исправник-то, как и следует быть, лицом вперед, к голове, а становой-то лицом к хвосту, держится за него одной рукой, а другой клячу-то так и наяривает, так и наяривает. Повстречался я с ними, не мог утерпеть, покатился со смеху, а исправник кричит: «Что ты, дурак, смеешься?» Ну и зело же они оба тогда были! – Вот хорошо. Входит Н. в избу. На столе самовар бурлит, исправник со стряпчим пунш распивают. Становой с своим письмоводителем да с лекарем в карты задуваются. Лекарь этот был из немцев. Я и его хорошо помню: на низеньких ножках, такой пузатенькой человечек, в белых панталонах все ходил, зеленые большие очки носил, и еще до простокваши с сахаром да с корицей был большой охотник. Все встретили Н. с радостью, как дорогого гостя, с обниманьем да целованьем, и сейчас же пуншу крепкого ему закатили. Вот и пошли у них лясы да балясы, тары да бары, да дешевые товары. Спрашивают разваляевскаго барина:
– Куда ты едешь?
– В город, а вы зачем здесь?
– Да вот по делу: утопленницу с подозрительными признаками прибило на песок к Веригину, так следство производить приехали.
– Утопленницу? – спрашивает Н. – Да не моя ли это девка? Прераспутная была, с неделю тому назад утопилась в Разваляеве, дайте взглянуть.
– А вот сейчас Карл Адамыч будет натомить ее, увидите.
– Как время-то стояло дождливое, то тело с берегу перенесено было в избу, – через сени от той избы, где временное отделение помещалось: все и взошли в нее. Н. вошел со стаканом пуншу и с цыгаркой. Труп лежал на рогожке, посинелый; вздуло его страшным манером, и смрадом несло непомерно. На лбу была глубокая-преглубокая рана: видно, она, сердечная, бросимшись в воду, ударилась с размаху головой об тычку. Н. заглянул трупу в лицо и сразу же признал Анну: «Она, говорит, и есть; эк ее вспучило!» Отошел к стороне и как ни в чем не бывало стал себе прихлебывать из стакана да покуривать цыгарку, хоть бы бровью шевельнул, хоть бы отворотился!.. Только и было, говорят, что судорога губы свела на одну минуточку, а то все стоял покойно, поглядывал себе таково равнодушно, прихлебывал из стакана пунш да цыгарку курил… Так вот, батюшка, какой он был человек, а вы еще спрашиваете, мучила ли его совесть за Анну, да вспомянул ли он ее когда-нибудь!..
– Что же случилось после с дедушкой Михеем?
– А что? Ничего, умер с горя.
– Куда же Н. девался? Живо еще это сокровище? – продолжал спрашивать В.
– Вот про Н.-то, батюшка, что с ним после этого случилось, я подробно рассказать и не умею. Знаю только, что года через два после всех этих дел с Анною умерла горбоносая старуха, мать его, а потом погорел дом на Разваляеве. Приказчик донес – от божьяго милосердия. Бабы же на селе плели другие басни: говорили, будто бы, что грешная душенька Анны странствовала по ночам около дома, что плачь и стон слыхали против кабинета, где, бывало, Анна простаивала целые ночи. И в самых покоях-то будто бы огни видали в неуказное время, вереск ребенка слышали, старую барыню на коленях в образной на молитве замечали. В доме-то после никто не жил: пустой стоял, и окна были заколочены, так и плели, что в нем чудится. А в ту ночь, как ему погореть, – случилось же это как раз в годину по Анне, – видели седого старика, украдкой к дому пробирался; все подумали на дедушку Михея. Потом будто бы и Анну видели – так и положили, что мертвецы дом сожгли. Старая Ульяна, такая дошлая женщина жила на Разваляеве, у Невских чудотворцев семь раз была, к соловецким ходила, – она при всех рассказывала, что собственными глазами видела, как душеньки дедушки Михея и Анны во время пожара поднялись в полыме к небу… И мало ли чего не болтали, всех речей не переслушаешь! А иным делом дом-то и в самом деле сгорел от божья милосердия, потому гроза в ту ночь была большая. Может, и то, что подожгли сами крестьяне из своих расчетов. Н. как только услыхал, что дом сгорел, сейчас же прикатил на Разваляево, выпустил всех барщинских крестьян на оброк, усадьбу порешил и опять возвратился на житье в Питер. Был потом слух, что он поступил на службу, где наша земля сходится с неметчиной, в какие-то чиновники… Ну, вот и был слух, что он там служил, и служил-то сначала хорошо, а потом замечен в чем-то нехорошем начальством. Нарядили суд, а Н. возьми да и сбеги, да и свяжись с какими-то жуликами, и долго с ними жил он, говорят, заодно, вместе мошенничали; так и сгиб. Так про него рассказывали.
– Достойный конец такому человеку! – глубокомысленно заметил В.
Пора было на ночлег. Дрова на нашем пожке уже все погорели, и едва тлеющие головешки густо подернулись пеленою беловатого пепла. Месяц склонялся к закату: одна рогатая половина его уже спряталась за лес, другая же выставлялась из-за темных елей острым клином, как сошник Зырянской косули. Издалека доносилось однообразное трещание козодоя и заунывное вабенье зайца в лапу, первые звуки, нарушившие тишину глухой осенней ночи.
– Ишь его косого забирает, какие тоны выводит! – сказал Абрам, прислушиваясь к заячьему вабенью. – С полуночи своротило, пойдемте-ка на боковую.
– Ты почему знаешь, что с полуночи своротило? – спросил В.
– А, вишь, заяц надоланивает в лапу: это он утреннюю зорю бьет.
– Будто это заяц? Непохоже что-то. Не ошибаешься ли ты, Абрам? Птица, может, какая-нибудь? – возразил опять В.
– Я вам говорю – заяц. Уж это я доподлинно знаю, потому сам видел, как он это выделывает. А вот как и видел-то: случилось мне быть на тяге валюшней в Даниловском уезде – в березовых полосках. Только запоздал я, знаете. Уж штуки три было у меня убито, пора бы домой, да еще один валюшень летал, так вздумалось его подождать с полчасика; стою у густой такой ели да слушаю, как соловушко распевает. Вдруг около самого меня: «ва-ва-ва, – ва-ва!» – и смолкло. Я оглянулся – ничего нет. Потом погодя немного опять заголосило; опять осматриваюсь – опять ничего. А уж темненько было, заря потухала, и звездочки на небе реденько светились. Минуточку спустя зашабостило что-то в кусте, заяц выскочил, матерой такой, присел подле самого меня, поднял переднюю лапу и давай себя колотить по морде, а сам «ва-ва-ва-ва-ва!» Э, думаю, штукарь, так это ты запускаешь такие тоны! Прежде, знаете, я слыхивал часто по зорям этот голос, и, как ваше же теперь дело, недоумевал, чей бы это был? А вышло вот чей, – заявит. Ну, вот стою я, не шевелюсь, дожидаюсь, что будет дальше. Долго косой вабил в лапу – и после каждого раза в промежутки станет на задние лапы и прислушивается. Вдруг другой заяц, самка должно быть, выскочила из полоски к этому и давай с ним козлы строить. Бегали, бегали и легли друг против дружки, как щенки, когда разыграются. В это самое время откуда ни возьмись лисица, и крадется к ним, и крадется, как кошка под воробьев, а у самой глаза-то так и сверкают, как две огненные искорки. Один косой увидал и шмыгнул в кусты. Другой только приподнялся на задние лапы, должно быть, послушать хотел, как она и села ему на шивороток да тут же в одну минуту и свернула его…
– Что же ты не стрелял по лисе-то, Абрам, коли все это перед тобою происходило? – спросил Александр Иванович.
– Эх, батюшка, да ведь я же говорю вам, что это случилось на тяге валюшней, значит, ружье было заряжено бекасинником, а бекасинником-то ей ни рожна не поделаешь. Да если и не бекасинником, не стал бы стрелять: что занапрасно зверя губить! Весной лиса клокастая: отеребок-отеребком, никуда не годная, не по что, значит, и бить ее.
Забравшись в баньку и изладив на нарах постель, мы улеглись на нее все трое вповалку. Александр Иваныч заснул скоро, потом захрапел Абрам, затем и я впал в какое-то полузабытье, в полусон. Мне было отчего-то тяжело и душно, голова горела, в висках стучало, и все тело как-то болезненно ныло. Такого состояния я никогда на себе не испытывал: меня клонило ко сну, но лишь только я засыпал, как непомерною тяжестью начинало давить грудь, дыхание становилось трудным и, при странном замирании сердца, всего меня невольно прохватывал какой-то ужас. Я чувствовал, что это во сне, и хотел пробудиться, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ни языком. Лишь только удавалось мне сбросить с себя сон, снова томительная дремота, снова страшно тяжелое состояние сна, спирание дыхания, невыносимо мучительное страдание на сердце и боль во веем теле.
После нескольких напрасных попыток уснуть здоровым крепким сном я вышел из баньки на свежий воздух, который сейчас же оживил меня, и я почувствовал себя хорошо.
Ночь все еще была очень темна, звезды заволокло облаками, только едва заметный свет утренней зари, предвестника наступающая дня, протянулся на востоке узенькой красноватой ленточкой. По Вычегде на разных направлениях путешествовали огни, отражаясь на воде длинными мерцающими полосами; их медленное движение без звука, без малейшего шума, среди черной тихой ночи, представляло из себя какое-то чудесное, таинственное явление из сверхъестественного мира. Вот целый сноп яркого пламени тихо ползет около того берега реки. Свет его переливами дрожит и играет на воде, длинным столбом бежит на другую сторону и острыми, раскаленными иглами вонзается на берег. Вдруг крутой поворот, часть огня заслонена, против него обрисовался черный силуэт человеческой фигуры, на одно мгновение, и снова яркий пылающий сноп, сыплющий миллионы искр на черную тьму.
То разъезжали рыбаки за лучом: способ ловли рыбы самый добычливый, общеупотребительный и распространенный между всеми зырянами.
Но диво-дивное творилось на воздухе. Волны неисчислимых звуков неслись на землю, будто шли над головою невидимый дороги, по которым путешествовали с неимоверною быстротою несметные полки воздушных странников. Говор гусей, свист и звон крыльев несущихся стай уток, заунывное курлыканье журавлей, разнородный писк куликов мешался с пронзительными переливами трубного лебединого голоса.
В невольном изумлении стоял я перед этим дивным явлением птичьего отлета. Никогда не случалось мне быть его свидетелем. Я вперил глаза вверх, но, за темнотою ночи, ничего не мог разглядеть. Между тем звуки раздавались все громче и громче; все плыли и плыли стаи, все гуще становилось их в воздухе, так что чувствовалось веяние звенящих от быстрого полета крыльев, как будто над головою вились и парили духи.
Вдруг я заметил в темноте, почти около самого меня, неподвижно стоящую человеческую фигуру. Подхожу – Абрам.
– Абрам, это ты? Что ты тут делаешь?
– Слушаю и не могу наслушаться, что это такое делается там! – шепотом отвечал он, ткнувши в воздух указательным пальцем.
– Да давно ли ты здесь?
– Да уж давно, еще до вас. Птицы-то, птицы-то сколько! Господи! Сродясь такого чуда не видывал.
А свист, говор, шум, – как будто на разные голоса пел сам воздух, – всего оглушительнее и разнороднее становился в вышине.
В этом общем птичьем хоре голосов слышны были звуки, о которых трудно было сказать, к какой породе дичи они относятся: певчие ли то птицы, водяная ли дичь, или кулики, обитатели болот и прибрежных лесков.
Я побежал в баньку и начал толкать разоспавшегося В.
– Александр Иванович! Александр Иванович!
– Что вам? Дайте поспать.
– Полноте спать, вставайте!
– Зачем?
– Вставайте, вставайте скорей. Пойдемте чудо слушать.
– Какое еще там чудо? Спать хочется.
– Да отстаньте вы с вашим сном! Говорить пойдемте! До сна ли?
В. поднялся, зевнул протяжно и громко и наконец полез из баньки.
– Эка темень! Как рано разбудили! Где же чудо-то? – спросил он недовольным голосом, все еще не приходя совершенно в себя.
– А вот слушайте, что на небесах творится. Это совершенно особый мир жизни. Слышите ли, слышите ли там голоса?
– Э-э! Вот что! Ну, это валовой отлет. Здесь в это время всегда так бывает.
– Эк варит! Эк там варит, точно в котле! – проговорил Абрам.
– Да и ты здесь, Абрам! А я тебя и не заметил. Видал ли ты такой пролет? – спросил его В., уже совершенно отрезвившийся от сна.
– Где, батюшка, видать. И не слыхивал даже. Что это, гон что ли?
– Какой нагон? Просто дичь с поморья летит в теплые страны, холод чует.
– Да уж что-то ее без числа много?
– Да потому и много, что птица разная. Вот, слышишь ли, точно серебряные позвонки бряцают? Это ржанки летят, такие маленькие красивенькие курицы, весною встречаешь иногда их на полях, по озимям.
– Знаю, знаю! Семеннухи по-нашему, – сказал Абрам.
– Ну да, по-вашему семеннухи, а здесь зовут их еще ячменниками. Летят они всегда большим стадом на ужасной высоте и постоянно при этом пищат своими серебряными голосками. А чу – и черная утка отправилась с северных рек. Слышишь ли свист, похожий на то, как ребятишки в глиняные дудки наигрывают? Это их голоса.
– Ну, дичи! ну, дичи! И во сне про столько не снилось. Эк какая пропасть помещается ее на матушке земле русской! – сказал в изумлении Абрам, и может быть, сказал великую истину…
– Дичи много. Места на поморье удивительные: много тинистых и чистых озер, болот, трясин, разных потных мест, мшерин непроходимых и всякого приволья, а на отмелях чудные жиры, потому разная птица и любит держаться около тех мест, – продолжал Александр Иванович. – Вот опять вслушайся-ка, какие звуки: точь-в-точь как на водоносе ведра поскрипывают: это петрули летят, маленькие морские чайки, сущие, говорят, разбойники по своему быстрому полету и ловкости. Их иначе называют буревестниками, потому что поморы всегда по ним предузнают бурю.
– Да где же это такое поморье есть, Александр Иванович? – спросил Абрам.
– А поморьем называется вся сторона, которая идет по морю от Архангельска и дальше туда по Ледовитому океану. Вот бы где, брат Абрам, поохотиться-то! Рассказывали мне бывалые люди, чтó это там за охота. Два раза в сутки делается в море прилив и отлив. Во время отлива образуются огромнейшие отмели, покрытым где илом, где песком, со множеством луж и разных ложбинок, по которым сбираются на кормежку утки, гуси, лебеди и разных куликов и морских птиц видимо-невидимо. Особо привольно птице по илам, потому море во время отлива оставляет на иловой отмели морских червячков и разную питательную шмару. Чтобы попасть на отмели, нужно с берега переезжать на них через глубину в лодке. Худо знающему время морских приливов и местность отмелей пущаться на эту охоту, опасно, – можно поплатиться жизнью: заберешься глубоко в отмели, застанет прилив, сорвет с песку лодку, море начнет хлестать убегающего охотника по пятам и наконец снесет в глубину. Так погибло много из горяченьких. Но между поморами есть много опытных и сметливых охотников, в случае надо им поручить себя, уж они знают, как поступать, потому целую жизнь обходятся с морем, понимают все его причуды и не выдадут товарища. Обыкновенно в вечерний отлив, перед зарей, отправляются на отмели. Выберут удобные места, самые становища дичи, выкопают ямы и позасядут в них. Птицы по заре налетает несметное количество, особо много наплекой утки морянки, гусей и разного вида куликов. Стрельба проводится все влет больше. У помор ружья харчистые, по горсти пороху засыпают в заряд. Как из этакой фузеи дохнет по летящему стаду, так и вырвет в нем окошко. Убитую птицу не сбирают до самого окончания охоты, до тех пор, пока поморец не подаст сигнала, что пора уже с отмелей убираться на берег. Тогда зажигай фонарь, если тихо – лучину, и уж с огнем сбирай свою добычу, а ее в удачный лет набивают иногда на одно ружье так много, что не под силу человеку стащить. Чего не перечувствует в этой охоте новичок-охотник: и радость, когда разноголосая дичь близится целым облаком, и страх, когда море стонет и ревет! Помору же дела нет до моря. Чудный народ эти поморы!..
И затем Александр Иванович начал Абраму длинный рассказ о неустрашимости приморских жителей, о их смелых поездках по промышленным делам на далекие острова, о зимовках на Новой земле и охоте там на моржей и тюленей, о посещении промышленниками Калгуева и Вайгача и истреблении на этих островах гусей, лебедей, гаг и уток. Много интересных подробностей передал в своем рассказе В., много и красных словцов для эффекта было им ввернуто. Он, видимо, подбирал свое повествование в том содержании, чтоб поразить чудесами охотничью любознательность Абрама и не остаться у него в долгу по россказням. А тот слушал и удивлялся, ахал и хлопал руками…
Между тем рассвело набело. Красно и широко разлилась заря по небу, заходил туман по реке и озерам, а пожни убелились инеем первого крепкого осеннего утренника. Мелкая птица провалила, только небольшие станички курохтанов и зуек, то свиваясь клубком, то рассыпаясь сетью, мчались в южные страны с неимоверною быстротою, как будто торопились они изо всех сил догнать своих улетевших товарищей. Огромные же отдельные вереницы гусей и лебедей видны были во всех направлениях. Они летели на страшной высоте стройными треугольниками, громко перекликаясь между собою.
– Не ехать ли домой, Абрам? Утреннее поле сего дня не может быть удачно: вся дичь в отлете, – сказал я.
– То же и я мекаю, да немного-то походите.
– Походить, пожалуй, походим, да ведь понапрасну будет.
– А кто знает! «На трех и курица чихнет»; может, и убьем что-нибудь.
Разошлись. Я отправился на вчерашние места, прошел насквозь все болото, где так удачно охотился на бекасов и курохтанов, обошел несколько озер тинистых и чистых, но не видал, что называется, ни пера. Около полдня Абрам подал голос к домам. Он также не убил ничего; один только Александр Иванович, бродивши по лесу, заполевал пару рябчиков.
На возвратном пути разговорились о зырянских преданиях. Александр Иванович, как местный урожденец, хорошо знающий зырян, был на этот раз нашим главным рассказчиком.
– Преданиями зырянская жизнь бедна, – повествовал он. – Одно из самых древних – это предание о Яг-Морте[32]32
См. «В. Г. В.» и сороковых годов ст. г. Мельникова. В изложении предания мы следуем порядку этой статьи, исключая из нее поэтические вольности и исправляя ошибочно переданные места. Мы имели случай проверить сказание об Яг-Морте в разных углах зырянского населения и теперь передаем его с самой точной верностью.
[Закрыть].
– Яг-Морт значит «лесной человек». Рассказывают об нем так: в самые отдаленные времена, когда еще зыряне были язычниками, появился на берегах реки Кучи, впадающей в Ижму, страшный человек, такой человек, который если по лесу шел – руками сосны разводил, голосом говорил – буйный ветер заглушал. Ужасную образину имел Яг-Морт: обросшее черными волосами лицо, кровяные глаза и медвежья шкура, из которой сшита была его верхняя одежда, делали великана похожим скорей на зверя, чем на человека. Никто не знал, откуда пришло на берега Кучи это чудовище. Обыкновенно говорили, что Яг-Морт вырос вместе с дремучими лесами Запечорья и ему было столько же лет, сколько и этим лесам. Жил он одиноко, в неприступных местах, за непроходимыми болотами, и появлялся между зырянскими селениями только для разбоя и убийств.
Для нападений своих Яг-Морт выбирал темные ночи, причем поджигал деревни и в общей суматохе пожара бесчинствовал, сколько того кровожадная душа его хотела. Он уводил жен и детей, угонял скот или просто резал его на месте. Ненависть Яг-Морта ко всему живущему доходила до того, что он часто без всякой надобности убивал встречного и поперечного. Зыряне, выведенные из терпения злодействами разбойника, старались всеми способами извести его. Они начинали ловить его, как дикого зверя, т. е. строили засады, выкапывали громадные ямы, – но ничто не помогало. На хитрость Яг-Морт был сам хитер, открытая же схватка с ним была не по плечу робким, мешковатым зырянам, во всем Запечорье не находилось молодца, который бы осмелился помериться с ним силами. К тому же Яг-Морт слыл в народе великим колдуном. Оспу, болезни всякие, скотский падеж, бездождие, безветрие, летние пожары, – вообще разные физические бедствия и необыкновенные явления природы суеверные зыряне приписывали мрачным волхвованиям Яг-Морта. Он повелевал стужами, помрачал солнце, луну и звезды, и, по понятиям народа, не было предела темному могуществу чародея-разбойника, и потому он чудесил себя на полной свободе в мрачных лесах Запечорья.
Раз у старшины одного из зырянских селений пропала без вести единственная дочь, красавица Райда. Это была такая девка, какой еще не видывали между зырянами. Проходит день, два, проходят целые недели – Райды нет как нет! Мать ее выплакала глаза от слез, отец с женихом своей дочки выходили все ближние селения, все леса окрестные, но не нашли нигде Райды. Вот кликнули клич, созвали народ на совет, объявили свое горе – и все, от старого до малого, решили общим голосом, что Райде самой негде потеряться, а что это, должно быть, дело Яг-Морта: вероятно, он похитил зырянскую красавицу и увлек ее в свою звериную берлогу. А на Яг-Морта кого просить будешь? Где на него суд найдешь? Погибла Райда! Так потолковали, пошумели и разошлись по домам, не сделав ничего путного. Но не удовольствовался этим решением удалой жених Райды. Он с прочею молодежью, своими товарищами, снова кликнул клич, взволновал все Запечорье, собрал несколько десятков удальцов, и в общем совете положили во что бы то ни стало отыскать жилище Яг-Морта, схватить его живого или мертвого, известного окаянного колдуна или самим погибнуть! Составилось ополчение: ратники вооружились стрелами, копьями, пешнями, вилами, кто чем мог, и двинулись в поход сто против одного. Хоть их и много было, но не без страха ожидали они встречи с Яг-Мортом, с силачом разбойником и колдуном. Несколько суток прошло в напрасных поисках злодея; нигде он не попадался зырянам, но они и не думали отступать от своего намерения; о возвращении домой не было и слова. Пошли они на тропу Яг-Морта, по направлению к реке Ижме. Долго искали они ее и наконец в темном дремучем лесу напали на торную дорогу, пробитую чудовищными ножищами колдуна. Зыряне решили, что он часто должен ходить по этой дороге, и засели близ нее, в густую трущобу леса, на угоре реки Ижмы. Долго ли, коротко ли таились они в засаде, но вот однажды видят – Яг-Морт переходит вброд реку Ижму, прямехонько против того места, где спрятались товарищи. Тут, верно, не одно зырянское сердце ушло в пятки и замерло там от страха, но отступать было уже поздно. Зыряне, волей или неволей, а должны были сделаться храбрыми, и лишь только Яг-Морт ступил на сухой берег – копья, стрелы, каменья градом посыпались из чащи леса в его мохнатую шкуру. Озадаченный первыми ударами, разбойник на минуту остановился, но не отступил ни шагу… Он грозным, кровавым своим взглядом искал врагов в чаще леса и измерил пространство, отделявшее его от них, – а удары непрерывно сыпались на его грудь и голову, стрелы вонзались в бока и даже в лицо… Наконец взревел Яг-Морт, взмахнул тяжелой палицей, ворвался в средину нападающих и пошел косить направо и налево. А зыряне не отступали, окружили его со всех сторон, разили разбойника кто как мог – и началось страшное побоище! Яг-Морт долго с необычайным ожесточением и силою отбивался от многочисленной толпы своих противников, палица его размозжила много голов, многих изуродовала насмерть, но изнемог же он и сам; усталость и раны до того его обессилили, что он грохнулся на землю. Тогда товарищи схватили Яг-Морта, отсекли ему руки, грозили снести и голову, если он не откроет им своего жилища. И вот обезоруженный и изуродованный силач-колдун должен был покориться воле своих победителей. Он повел их далее в самую чащу леса, где в высоком отвесном берегу реки Кучи выкопана была просторная пещера, убежище великана Яг-Морта. Неподалеку от входа в пещеру, на большой груде разного хлама и костей лежал полуистлевший труп человеческий… Это были обезображенные останки некогда прекрасной Райды. Во внутренности пещеры Зыряне нашли множество разной добычи, сложили ее в кучу и сожгли, а страшный притон Яг-Морта засыпали землей, забросали каменьями и заклали бревнами. Затем привели обратно своего пленника на то место, где с ним бились, отрубили ему голову, в спину забили осиновый кол, чтобы еретик, по зырянскому поверью, не мог встать из мертвых, и закопали труп разбойника в глубокую могилу. Так рассказывают о Яг-Морте между ижемскими зырянами, – заключил Александр Иванович, – и до сих пор показывают там, близ светлой реки Кучи, на один курган, называя его могилою Яг-Морта. Всякий проходящий мимо этого кургана должен бросить на него камень, хворостину или что-нибудь, и плюнуть. Это обыкновение ведется у ижменцев с незапамятных времен и обратилось у них в привычку. Если кто пренебрежет этим обыкновением, то тутошные старики как раз осудят. «Не видать ему добра, – говорят они о таком человеке, – он даже не плюет на могилу Яг-Морта». Об этом кургане, – продолжал В., – много басен ходит в народе, и все они основаны на чертовщине. Старики уверяют, что в прежнее время в темные осенние ночи запоздалые промышленники встречали там каких-то ужасных страшилищ, видали синеватый огонь, исходящий из кургана, и часто слыхали страшные вопли и завывания. Бабы особенно верят этим россказням и боятся подходить близко к проклятой могиле Яг-Морта.









































