Читать книгу "В Зырянском крае. Охотничьи рассказы"
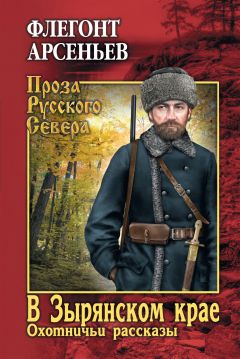
Автор книги: Флегонт Арсеньев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Почему же это названо баней, Абрам? – допытывался я после осмотра ночлежной клетушки, находя название бани вовсе для него неуместным.
– Да потому и названо, что каменка в углу есть, видели? Зырянские бани, где парятся, точнехонько такие же крошеваточные подгузки: десяток на одной плеши уместится. Полок под потолком, а в углу груда камней, сожгут три-четыре полена на них, накалят, бросят на пар, запрутся и жарятся пихтовыми вениками. Часа через два тепло все выйдет, сделается поморозня; ну, тогда опять калить каменку – так и пробавляются. Такое же дело и здесь: зимой или там по глухой осени застигнет зырянина нужда ночевать, – придет он в ночлежную баню, накалит каменья, сам задыхается от дыму, когда топится избенка, ничком в это время на нарах лежит или дожидается за дверьми, пока протопится и дым повытянет, а потом закупорит окна, затворит двери наплотно, и на боковую. Сначала теплота сделается такая, что хоть в нагом теле спи, но к утру беспременно выстынет, и случается так, что цыганский пот до костей проберет. Вот ведь лесная сторона здесь считается, строевого не оберешься, дa банишки сделать лень, овинишки сколочены на скорую руку и кое-как теньзят, да и жилые-то избы построены так, что смех в люди сказать. Тунеядливый народец эти зыряне, нерачив больно, аккуратности в жизни никакой нет и окромя того, что бестолков…
– Коли приехали, Абрам, так надо за дело приниматься, лясы-то точить здесь нечего, пора уж, вечер скоро! – прервал Александр Иванович словоохотливость нашего неистощимого рассказчика.
– А вот сейчас сложим поклажу, да и марш в разные стороны. Давайте-ка сюда чемодан-то!..
Абрам залез в баню; мы с трудом протискали к нему чемодан сквозь узкое отверстие дверец и подали туда же самовар и корзину с припасами. Он все это запихал под нары и прикрыл сеном.
– Вот и совсем. Вы куда пойдете?
– Мы здешних мест не знаем, ты нам растолкуешь, – отвечал я.
– А по моему разуменью вот как: я пойду на ту сторону, особняком от вас, чтоб не мешать. Вам идти в мыс к Вычегде: там много озер найдете, утки есть, да и гуси местами пристают. Александру Ивановичу идти к лесу; тут около опушки лощина идет, по ней тоже озера, уток много. Дальше по лощине пойдете, лесок к Вычегде будет, гуси каждый раз тут стануют, в лесу водятся рябчики. Дудка с вами есть?
– Как же, есть, только сиповато что-то пищит, – отвечал Александр Иванович.
– Вот, возьмите мою, хорошая. Да коли найдете выводок рябчиков, не разганивайте их очень, хорошенько разглядывайте: они с подъему садятся низехонько – всех перебить можно, а как будете с дерева на дерево перегонять, в вершину забьете, ничего не поделаете. Гусей опять найдете, осторожнее подбирайтесь. Этот народец вороватый, мигом оглядит. Ну, теперь с богом, да рано не возвращайтесь: по заре-то самая лучшая охота и будет, допоздна надо быть в поле. Ономеднись, совсем уж темно было, мишени не видать, я убил гуся.
Изладившись, мы пошли по указаниям Абрама, который, отчалив лодку и усадив в нее своего Султашку, начал торопливо переправляться на другую сторону Вычегды.
– Александр Иванович! – закричал я своему товарищу, отошедшему от меня уже шагов на сто: – Ведь Абрам-то нас надул!
– Как надул? – спросил тот, остановившись.
– Да ведь он, плут, поехал на ту сторону потому, что гуси, должно быть, здесь не садятся, а все там.
– Не может быть, садятся и здесь: посмотрите, какое место!
– А вот увидите, что надул; впрочем, пойдемте.
– Эй, Александр Иванович! Александр Иванович! – раздался голос Абрама, подъезжавшего уже к другому берегу Вычегды. – Держитесь все так, чтоб солнце-то в правое ухо било! Чтоб все в правое ухо! А вы, – закричал он мне, – чтоб все в затылок, в затылок бы солнце-то!
– Ладно! – отвечали мы и разошлись.
Параллельно с Вычегдой на моем пути тянулся глубокий лог, наполненный водой. Правый берег лога был крут и оканчивался хребтом или валом, за которым была лощина, настолько низкая, что могла скрывать свободно идущего по ней человека. Я направился по этой лощине, по временам выходя на хребет и высматривая на логу уток, но, к моей досаде, ничего не мог оглядеть на узкой ленте мутной воды, тянувшейся от меня вдаль версты на полторы и пропадавшей там в каком-то кочковатом болоте. Собака моя шла по лощине и искала, но лениво: она, видимо, скучала отсутствием дичи. Так прошел я около версты. Выглянувши из-за хребта в последний раз на лог, я увидал в самом конце его несколько черных точек. Сначала я принял их за кочки, но потом, после внимательного разглядыванья, убедился, что это были утки. Подойти к ним из-за вала было удобно и ловко; я подкрался на самую близкую дистанцию и, держа ружье наготове, поднял голову. Штук шесть или семь кряковней рылись на берегу, в грязи, и с десяток плавало их на воде, беспрестанно в нее кувыркаясь. Оглядевши меня, утки всполошились и вытянулись. Я выстрелил в тех, которые сидели погруднее. Две остались на месте, все остальные поднялись и полетели врассыпную, так что, сделавши второй выстрел в угон, на лету, я убил только одного кряковня. Удачное начало охоты меня потешило: осенняя утка, когда и самец и самка, совершенно перелинявши, успели одеться в крепкое перо, очень жирна и может считаться всегда за хорошую добычу, которою не побрезгает никакой егерь.
Подобравши уток, я пошел далее уже по низменности самого лога, перешедшего в ржавое болото, или, лучше сказать, паточину, с мелким кочкарником и мочевинами, поросшими тонкой осокой. Именно такого места давно я искал в здешних окрестностях. Подобное болото – истинное наслаждение для охотника на красную дичь, так редкую на здешнем далеком севере. Бекас, дупель, гаршнеп, курохтан при своих перелетах в теплые страны большими высыпками опускаются на ржавые мочевины на роздых, и живы в моей памяти те счастливые поля, когда, бывало, в Ярославской губернии, попавши на подобный высыпок, по пятидесяти выстрелов выпускал я в несколько часов, наполняя ягдташ голенастиками. Зырянская же сторона не дала мне подобного удовольствия ни разу.
Я рад был встретить хоть местность с теми признаками, которые указывают на присутствие красной дичи. Дианка, вступивши в болото, тоже как будто ожила и переменила иск. Вот она начала делать крутые вольты, вот потянула и картинно остановилась. Сорвался бекас и, приветствуемый двумя выстрелами, переместился на другой конец лощины. Опять стойка – гаршнеп – убиты три, четыре вольта – снова стойка, тоже гаршнеп – и этот убит. Из густого хохолка осоки поднялись вдруг два курохтана: один спущен наповал, другой повалился с перешибленным крылом. Далее – еще бекас, еще курохтаны, гаршнепы, и я, не пройдя и половины болота, выстрелял весь мой запас мелкой дроби. Принялся за крупную, но тут начались беспрестанные промахи, дичь полетала, собака стала горячиться, надо было кончить бесполезное пуханье. Я вышел из лощины на высокий, крутой горб, которым оканчивалась здесь окраина левого берега Вычегды и сел отдохнуть.
Предо мною открылся удивительно знакомый вид. Широкая река величаво и спокойно катила свои воды. Круто поворачивая за острый мыс, обросший густым еловым лесом, она вдруг пропадала на довольно значительное пространство и потом, выбежавши снова на первое свое направление, светилась своею глянцевитою поверхностью уже вдали, несколькими верстами ниже. На другой стороне реки возвышался пригорок, обросший курчавыми кустиками; с одной стороны он постепенно понижался и переходил в ровную, гладкую пожню со множеством зырянских зародов, с другой – обрезывался крутым оврагом, который резко упирался в Вычегду, образовывая по обеим сторонам остроконечные холмы. Под головою правого холма, под высокою курчавою березою, притаилась маленькая бревенчатая лачужка, с крышею на один скат. Все это было чрезвычайно мне знакомо, точно такую же местность я видел, но где и когда – никак не мог припомнить. Вот ясно, отчетливо рисуется в моей памяти такая же широкая река, тот же темный лес, из которого она выходит, тот же холм, тот же овраг, даже береза, даже старая хижина и закат солнца, сквозь редкую занавесь тонких облаков бледно освещавший своими последними лучами бедную, но мягкую в очертаниях, скромную в красках северную картину.
Но где же, когда же я видел эту картину? Как ни силился я допытать свою память, как ни ломал я голову, решительно не мог вспомнить. Должно быть, подобная местность удержалась во мне из давно прошедшего, из далекого, но всегда живого и впечатлительного детства. Иначе я помнил бы по той очень естественной и простой причине, которая кроется в зрелом возрасте, когда на все окружающее смотришь сознательнее.
Наступили сумерки, пасмурные, сырые осенние сумерки. И даль, и лес, и пожни начали мешаться между собою, сливаясь во что-то одно целое, тусклое и безразличное.
В небольшом отъемце хвойного леса трещали дрозды, перелетая с одного дерева на другое; где-то далеко слышен был стук топора да скрип весел плывущей по Вычегде лодки.
Вот несется стая мелких куличков, со свистом рассекая воздух; за ними как стрела мчится ястреб, вот он ударил в самую стаю, но прошибся, взвился на воздух, остановился на нем и однообразно замахал крыльями, держась в одной точке. А кулички полетели все далее и далее и наконец пропали из виду.
Раздался выстрел, эхо глухо на него откликнулось. Послышался говор гусей, ему вторило карканье целого стада ворон да сиплый голос всполохнувшейся кряковой утки.
Вот над лесом показался какой-то черный движущийся клин. Гуси летят низко, плавно. Я сбежал с холма и спрятался за высокую дуплистую ветлу. Стая тянула прямо на меня. Я приготовил ружье и дожидался с замирающим сердцем, с тем поглощающим волнением, которое так понятно в этом случае охотнику.
Но передовой гусь взял вправо, и вся стая пошла в сторону. Досадно. Однако ж они как будто спускаются. Вот залетели за куст, промелькнули между деревьями, поднялись, сделали круг и сели тихо, молча.
Я переждал несколько минут, чтобы дать гусям обсидеться, перерядил один ствол картечами, другой дробью безымянкой и пошел подбираться. Дианка шла сзади.
Между тем вечерело, темнота сгустилась, наступила ночь, звездочка засверкала в небе, филин заухал на лесу.
Впереди длинная узенькая полоска леса. Казалось, гуси спустились за него. Тихо подошел я к полоске, осторожно пробрался в частый осинник, которым она заросла, и начал всматриваться.
Широкая равнина пожни тонула в темноте. Несколько отдельных кустов ивняка, да три высоких березы, да два светлые пятна от озер – только и видны были на всем пространстве, открывшемся передо мною.
Стараясь оглядеть гусей, я взлезал на дерево, припадал к земле, прислушивался к малейшему шороху, но ничего не мог ни увидеть, ни услышать: темнота поглощала все, и глубокая тишина только и нарушалась однообразно диким голосом филина, доносившимся издалека. Я пошел наудачу к одному из ивовых кустов. Вдруг собака моя причуяла, круто повернула вправо и повела. В это самое время месяц, пробившись сквозь облака, бросил на пожню бледную полосу света. Я лег на землю, и в том направлении, которое указывала Дианка, оглядел огромнейшее стадо гусей, бродивших по лугу саженях в семидесяти от меня.
Тихо-тихо пополз я к ним. Вот встретилась рытвина, вот маленький лог, далее пригорок; вот мышь шмыгнула из-под клочка завалявшегося сена, лягушка вскочила в сторону, полуночник пролетел над головой, всхлопывая крыльями; я все подаюсь вперед, осторожно, без малейшего шума, сам не слыша своих движений. Еще далеко, а уж сторожевой гусь зыкнул – опасность замечена; я не выдержал и начал торопиться. Еще подан голос, затем еще звучнее и как-то решительнее – и вот все стадо заговорило. Пора стрелять, иначе гуси снимутся и полетят. Вставши на одно колено, я выпалил наудачу картечами в средину движущегося черного пятна. С громким криком и шумом поднялись испуганные гуси и скрылись в темноте.
Прибежавши на место, где сидело стадо, я нашел уже там мою Дианку. Она возилась с гусем, который в последних предсмертных усилиях ползал по земле. Я отозвал ее и послал поискать еще, она сделала круг, потом другой и снова воротилась к прежнему гусю, лежавшему уже без движения. Убедившись, что в добычу достался только один, я прицепил его в торока моей ягдташки и отправился обратно к баньке. На охоте я пробыл в полном смысле допоздна.
Во время возни моей с гусями я таки достаточно позакружился и не попал на обратный путь; чтобы выйти, оставалось одно средство: выбраться на Вычегду и, огибая по ее течению большой песчаный мыс, добраться таким образом до баньки. Но и на Вычегду попасть было нелегко. Утвердительно я не знал, в которой она стороне, однако ж, наполовину по соображениям, наполовину наудачу, пошел вправо. Сделавши около полуверсты, я увидел в темноте небольшую ночлежную баньку, и вскоре до меня дошли довольно громкие голоса разговаривающих в ней.
Обрадовавшись, что встретился случай порасспросить о пути, я подошел к баньке и постучался.
– Кто там такой? – спросил меня дряблый старческий голос.
– Отвори, голубчик, пожалуйста! Мне нужно поговорить с тобой, – отвечал я.
– Да ты кто такой?
– Да вот выйдешь сюда, так увидишь.
Слышно было, что заскрипели нары от встающего с них человека, потом заунывно заголосила дверь, и передо мной явился высокого роста плечистый старик, с длинною окладистою бородою и широкой лысиной.
– Что те, родимый, надо? – спросил он меня, почесывая колонку.
– Да вот, голубчик, скажи, как мне попасть в баньку, что на этом мысу, на самом берегу Вычегды выстроена – под кужлявой такой сосной? Там мои товарищи.
– Это, значит, в Цивилевскую баню! А вот иди все прямо, так в нее и упрешься, да вон никак огонек там мелькает.
Я посмотрел по указанному направленно и в самом деле увидел очень слабый огонек, чуть-чуть мерцающий в кромешной тьме осенней ночи.
– Так это огонек-то у нее и есть?
– У нее, родимый, у самой у нее, так все и ступай прямо.
– Хорошо, дойду теперь, спасибо, голубчик.
– Да ты сам-то отколь? Из Устьсысолы[31]31
Так зовется в простонародье между зырянами здешний город Усть-Сысольск.
[Закрыть], что ли? – спросил меня старик.
– Да, я оттуда, дедушка; а вы зачем здесь? Прохожие, что ли?
– Нет, кормилец, мы рыбу со внучком лучить пpиехали; да, вишь, еще раненько, так соснуть с вечера-то часок на другой прилегли, – отвечал старик.
– Прощай, дедушка!
– С богом, родимый.
* * *
– Ну ты, что ершишься? Куш! – закричал Абрам на своего Султана, который, почуяв мои шаги, сердито смотрел в темноту и ворчал.
– Гоп! гоп! – окликнул меня Александр Иванович.
– Гоп! – отвечал я, подходя к огню.
На толстом сосновом обрубке Абрам чистил леща; Александр Иванович рубил дрова и подбрасывал их на огонь, отчего пламя на несколько секунд заглушалось, потом ярко вспыхивало и поднималось кверху языком.
– Наипочтительнейше поздравляю вас с богатым полем! – приветствовал меня В. с веселой усмешкой, из чего я заключила, что и его охота была недурна.
– С полем, батюшка, с полем, с удачной охотой, значит! – воскликнул в свою очередь Абрам.
– Спасибо, спасибо! Ну а как ваши делишки? – спросил я, сбрасывая с себя егерские доспехи и усаживаясь к огню.
– А наши дела по пути шли, – отвечал Абрам.
– Рыбу-то где достал?
– Рыбу у знакомого рыбака на утку выменял, вот теперь знатную уху себе скострячим.
– Уху – это хорошо, что ты догадался, ушки поесть на чистом воздухе, после трудов тяжких – дело вельми приятное…
– Я знаю, что вы любите, вот и добыл. Знатный лещ, свияш. При мне из мережи вынут.
– Ну, рассказывайте же мне, как вы охотились? Александр Иванович, начинайте свое повествование.
– Да моя добыча скромная, но ничего, приятная. Я охотился нынче хорошо.
– Что же убили?
– А убил я тетерьку, да пару рябчиков, да валюшня…
– Это хорошо! Как вам удалось вальдшнепа-то подцепить?
– Ведь я по лесу ходил, из-под ног сорвался, я его и хлобыснул, как тряпка!.. – И В. сделал выразительный жест рукою, досказывающий, как повалился вальдшнеп.
– Вы спросите-ка Александра-то Ивановича, как он проудил глухаря! Вот вы об этом-то его спросите! – сказал Абрам.
– А глухаря проудил, и таить нечего. Досада была страшная! Видите, походивши, я значительно проголодался и вздумал закусить. Середка пирога была в ягдташе. Я закинул ружье на плечи и начал преаппетитно ее убирать, а сам иду. Сосенки, знаете, этакие, мошок, болотник. Только вдруг откуда ни возьмись передо мной огромнейший глухарина!.. Выбежал из-за кочки и остановился шагах в пятнадцати. Я так и ошалел: в руках кусок пирога, ружье за плечами, не знаю, что делать! А он посидел себе довольно долгонько, да и полетел; я схватился было за ружье, да уж поздно было: улетел, проклятый.
– И поделом, батюшка! Помните мою пословицу: что на охоте за успехи, когда собака ищет мышей, а охотник щелкает орехи! – подтрунил Абрам.
– Ну а как твои успехи?
– Мои? А мои вот смотрите! – Абрам вытащил из баньки связку дичи, состоящую из трех гусей и нескольких пар уток.
– Э! Да это целый воз дичи. Ну, Абрам, знатное поле! Ты лучше всех нас поохотился.
– Охулки на руку не положил, хорошо-то хорошо, а все бы лучше надо…
– Помилуй! Да чего же тебе еще больше?
– Эх, батюшка! Если б вы видели, что гуся-то было – тучи! Я только переехал от вас на ту сторону, так сразу и наткнулся на стадо: ходят по лощине, подбор чудный, давай ползти! Уж я полз-полз, корячился-корячился, добрался до куста, – гуси от меня саженях в тридцати, точно овцы бродят и траву пощипывают. Дерябнул картечами – ни одного! На подъеме еще раз – тоже ни одного. Полетело стадо ничем невредимо…
– Что же так? Тридцать сажен картечами недалеко, трудно пропуделять по стаду, – заметил я.
– Незадача. Об этом-то я и толкую, что больше бы убить следовало!.. Опять, как вы мне досадили, что и сказать нельзя.
– Я? Вот это мило! Как я мог тебе помешать, если был совсем на другой стороне?
– А вот как. Увидел я – большущее стадо гусей село за куст. Подобрался близко, смотрю сквозь ветви: ходят кучно, положить можно не одного. Стал просовывать ружье, только вдруг вы как раз против меня на здешней стороне – бац, бац! Гуси и поднялись, влет из кустов было нельзя – так и улетали. Экая досада была! Не поверите, – слезы проступили!
– Чем же я, Абрам, виноват? Я стрелял по бекасам и вовсе не знал, что ты под гусями.
– Конечно не знали, грех уж такой – невзначай досадили: ну, да и я же двум здешним охотникам насолил.
– Как насолил?
– Иду, знаете, лощиной такой. Уж гусь да пара уток были убиты у меня. Иду да посматриваю на отпесок (мысом таким вдался в Вычегду): нет ли, думаю, гусей? Пристают они на этаких местах. Впереди меня горб. Вдруг откуда ни возьмись тройка шилохвостов – прямехонько на меня так и дерут; я впоперечь – бац по одному – скатился, бац по другому – лежит, а из-за горба-то саженях в сорока от меня, как оболоко, гуси и поднялись. Вижу – и два охотника встают: Пашка да Ванька Коданев. Рожи вытянулись длинный татя, постные. Ну, говорят, Абрам, как же ты нас обидел: с полден, говорят, под гусями лежим, а ты, нако-поди, спугнул. – Да черта ли же вы тут делали? Отчего не стреляли? – спрашиваю. – Мы, говорит, все ждали, чтобы погруднее сошлись, а тут вдруг тебя и выдернуло! – Коли ждали, мол, так сами виноваты; стреляли бы, благо подобрались так близко. А они к гусям-то были сажень в десять. Уж бранили меня, бранили…
– Еще бы не бранить! Ведь ты досадовал же на меня…
– Дело понятное. Я много с ними и разговаривать не стал, скорее прочь, еще в задор войдут, пожалуй, по загривку наудят. А гуси-то перелетели с версту и опустились на лесок. Место я заприметил и подобрался к ним ловко: пару положил. Одного по сидячим, да на подъеме одного.
– Отчего же охотники не подбирались к переместившемуся стаду? По всем правам это им следовало бы? – спросил Александр Иванович Абрама.
– Да они, как ругались со мной, так и не заметили, что гуси сели. А я что бы за дурак, чтобы сказать им?.. Сам, батюшка, охотник.
– И то дело. Теперь ваша очередь рассказывать нам о своих подвигах в сегодняшнее поле, – обратился ко мне В.
Я передал последовательно все, что уже известно читателю из предыдущих страниц.
Между тем уха поспела. Мы уселись кругом котелка и начали ужинать.
– А водочки по чапоруке ведь следует? – спросил Александр Иванович.
– Подобает – для возбуждения аппетита и подкрепления сил! – отвечал я.
Добыли из погребца флягу и, пропустивши по стаканчику, передали Абраму.
– Пошла душа в рай! – проговорил он, выпивая свою порцию.
Принялись за ужин. Уха показалась для всех удивительно вкусною. Молча углубились мы в опоражнивание котелка.
А над нами и кругом стояла глухая, темная, тихая ночь. Ни звука, ни движения, ни малейшего шороха ни на земле, ни на воде, ни на лесу, ни в воздухе.
Много ночей на разных широтах Poccии проводил я под открытым небом, но не запомню я такой страшной мертвенности, такого полного отсутствия жизни, какое было на этот раз. В самых диких местах, в глухую полночь, когда погружается в сон вся природа, хоть какой-нибудь неясный, неопределенный звук, откуда-то доносившийся, – жужжание ночной бабочки или жука, глухой гул в лесу от крика далекого полуночника, треск лопнувшей коры на дереве, шорох мыши в кусте или тихий всплеск рыбы, – что-нибудь да обличало живые силы, а здесь все было мертво, как в могиле; казалось, вся природа перешла в непробудное оцепенение.
– Здесь встретилась мне удивительно знакомая местность, Абрам, – сказал я, развалясь перед тлеющими угольками после совершенного удовлетворения аппетита ухою.
– Кое место? – спросил тот, старательно обчищая голову леща.
– Да вот, там, за логом, на выходе к Вычегде, с горба: за рекою ров, на крутояре этого рва береза, а под ней избушка маленькая…
– А, знаю, знаю! Этакое место, как из репки вырезанное – похожее есть на Шексне близ села Разваляева, где вы жили маленький, годов шести – вот оно вам и памятно.
– А избушка под березой? И она что-то мне мерещится.
– А избушка под березой такая же была и там у рыбака дедушки Михея. Помните – такой старик высокий, седоволосый, с большой плешью, еще рыбу к вам на дом нашивал. Дедушку Михея я знавал хорошо! И – и какой старик был умный, царство ему небесное!
– Постой, Абрам: с ним случилась какая-то история, дочь погибла… что-то такое страшное было?
– Да, батюшка, страшное с ним было. Историю эту я знаю всю до ноготка.
– Расскажи, Абрам, пожалуйста: мне помнится что-то неясно.
– А вот слушайте. Дедушка Михей был крепостной помещика Н. Старик он был суровый, умный, уважаемый старик, при разваляевском приходе старостой церковным двенадцать годов служил. Остался он бобылем, выстроил поблизости села хату, поселился в ней с дочкой и начал рыбачить. Дочка его, Анна Михеевна, волга была девка: полная, высокая, белая, статная, идет, точно лебедь плывет, изо всего села девка! Этаких хороших девок я ни допреж, ни после не видывал, да кажись, и не увидишь никогда. На речах умница, в хозяйстве рачивая, старательная – знатная была девка! Женихов куча сватались, и с воли было много, да за вольных выходить и думать было нечего: барин не позволил бы, ну а за своих не хотелось ей, что ли, или по сердцу не приходился ни один, не знаю уж, только не торопилась она замуж. Так старик с дочкой и жили, ни о чем не тужили, хорошо и покойно. Он ездил на реку ловить рыбу переметами, самоловами и канатами; она мастерица была мережи вязать, плиски сучить, во всем была правой рукой отцу, подмогой доброй.
У Н. лакей был Семен, детина ражий, с лоском. Грубое слово сказал он своему барину что ли, или там проступок какой сделал, только сослал его Н. на Разваляево за какую-то провинность. Семен поселился у своих сродственников, начал себе жить да поживать, да к дедушке Михею частенько похаживать. Вить, Анна крепко пришла ему по сердцу, он и стал увиваться около девушки, как хмель около тычинки. А про Анну опять же ничего нельзя сказать было такого, чтоб в чем видно было ее согласье с Семеном; держала она себя поодаль и особой ласки к нему не оказывала. Не то чтоб он ей претил очень, да и люб, видно, особенно не был, а так, что называется, «и мил, да не по сердцу, и хорош, да неполюбе». Прошло у них многонько времени ни в том, ни в сем. Семен сильно врезался в девку и исхудал. Пошло сватовство. Дедушка Михей не прочь, а Анна сказала: «Как хочет батюшка». Написали к барину. Н. в те поры в Питере был, кружился там, говорят, в мотовстве, ответа никакого не дал; написали вдругорядь – опять никакого ответа нет. Староста поехал в Питер с оброком к барину – с ним приказали. Возвратился; говорит, сам будет в разваляевскую усадьбу. Вы усадьбу-то помните? Домина ужастенный был, двухэтажный, со столбами и с балхоном.
– Чуть-чуть припомню; она после сгорела, кажется.
– Сгорела. Ну, вот приехал барин. Время было Великим постом, поостань пути. Приехал – да сразу же и закутил. Ухо был человек!.. Клич подал сельским бабам и девкам, целую вотчину их созвал, и пошла изба по горнице – песни, скач, пляс, гам, крик, дым коромыслом в доме. В это время к нему и приступу не было; знали уж, и дедушка Михей знал тоже, не смел просить, пока не устоится, в разум свой, значит, не войдет. Чрез неделю времени оправился – и пошел по селу шляться каждый вечерь, ради здоровья. В те поры и мне не однажды доводилось его встречать, годов четырнадцати уж я был, помню его хорошо: попадется во тьме – перекрестишься; такой был красавец писаный помелом из лохани! Высокий, черный, рябой, нос горбатый и вострый, как у волжской расшивы. И озорноватый же он был человек, большой обидчик и придира. Как теперь помню, как он медвежатников проучил. Видите ли, два нижегородца на Разваляево пришли с ручными медведями. Село сбежалось смотреть; особо бабы и мальчишки по глупости своей большое удовольствие находить позевать на медведя, тащат вожакам печеного и вареного, масла и яиц всячины. Так было и о ту пору: бабья и ребятишек куча набралось около медведей. Началось преставленье: стали показывать, как малые ребята горох воруют, как красные девицы перед зеркалом сидят одеваются, чистою водицею умываются, алыми румянами натираются; как старые старухи и белолицы молодухи на барщину идут хромаючи, а с барщины – припеваючи, а медведь все это выделывает: на барщину идет – подпирается палкой, ногу волочит, прихрамывает, а с барщины бегом, вприпрыжку… Вдруг откуда ни возьмись на это самое место Н. Вы, говорит вожакам, что за народ такой? Вы, говорит, как смеете крестьян моих смущать да вместе с ними над барщиною потешаться? Я, говорит, покажу вам, как ходить на барщину! Эй, берите, говорит, их, да в хлев, да сейчас дать знать становому и исправнику – надо проучить хорошенько этих негодяев. Те в ноги. Батюшка, говорят, помилуй! Мы твоей чести обижать не хотели, отпусти ты нас Христа-ради! Сейчас уйдем из села вон. – Э, нет, говорит, други любезные! Я вам дам себя знать, вы у меня дешево не разделаетесь! В хлев, говорит, их, да медведей отобрать, да сейчас к становому. Взвыли бедняги мужики: возьми, говорит, с нас что хочешь, только отпусти! Ну, он их и облупил же: какие деньжонки были, полотнишки, даже масло-то, яйца-то, все обобрал, бездушник, и чистехоньких из села вон прогнал. А дело-то их бедное, промысел этот самый горький: хоть и с медведями, а все равно, что инде, по миру же ходить, по копейкам да по грошам сбирают, во всю зиму-то каких-нибудь по полусотне рублишков наколотят – и те для оброка. Он этим не сжалился: выпотрошил у бедных карманы и прогнал. Вот каков был сахар медович!
– Помилуй, Абрам, да ведь это черт знает что такое! Ну, пусть посылает за становым – противозаконного тут нет ничего, – заметил Александр Иванович.
– Эх, батюшка! Вы это по-нынешнему говорите, а в те годы было не то: приехал бы становой, стали бы орать два голоса вместо одного и еще больше бы вожаков настращали, так лучше отступиться от греха.
– Опять весной с мужиками охотниками какие штуки выкидывал. Места около Разваляева привольные: утки в водополицу тьма-тьмущая, а все держатся около полей. Вот, крестьяне, у кого ружьишки есть немудрые, и позалягут с вечера в межи, особо перед праздником, когда дичинки-то и для кашицы, и для жарковца хочется. На ночь вся утка сплывается к берегам на старую жниву кормиться; охотники и дожидаются, пока вплоть до дула налезут утки по десятку, чтоб одним выстрелом положить несколько пар. Как только проведает Н., что мужички по межам разлеглись на сторожку уток, и отправится в поле с собакой. Пес у него был легавый страшной величины, Ерусланом кликали. Выйдет барин на самую середину поля, схватит своего Еруслана за шиворот и давай вздувать нагайкой, а горло-то у того было как кадка, и заорет, а он его нагайкой-то еще больше, а тот еще пуще; утки взлетать со всех мест, вслед за ними и охотники начнут подниматься с длинными рожами, а Н. покатывается со смеху: весело, что начудесил.
Пошел дедушка Mихей поговорить с барином насчет своего дела. Тот ничего, выслушал и, как быть следует, расспросил обстоятельно обо всем, потом пожелал повидать невесту, Анну Михеевну, значит. Привел старик дочку, барин взглянул на нее, и глаза у него замаслились, как у голодного волка на лакомый кусок: «Хорошо, Михей, я подумаю, еще время не ушло, все устроим; ступайте с богом».
– Постой, Абрам! Ты не сказал, женатый был барин-то или холостой? – спросил Александр Иванович.
– Был женат, да жену в могилу свел; милостивая, говорят, и добрая была барыня, в чахотке сгинула; двое деток остались, по пансионам распихал; мать старуха была, барыня такая высокая, горбоносая, сухая, точно вяленый судак, между своими была строгая, на суседстве уважаемая: ту почитал и побаивался ее. Пристрастье к церкви старуха имела, стращала имения лишить, так он у нее был постоянно на притужальнике, при ней и остерегался… Да дома-то она мало живала: по монастырям больше да у дочери, – замуж была выдана в Тверскую губернию за богатого барина, так все больше там проживала, а когда наезжала на Разваляево – шелковый при ней делался. Хитер, бес!
Пашня наступила. Весна в тот год была – благодать Божия: теплая, ясная, тихая. Старуха Н. приехала в усадьбу к сыну с какой-то богомолкой трясучкой да с блаженным странником. Любила, покойница, всех этих божьих людей. Приехала – и появилась в доме неугасимая лампадка, а сам к хозяйству усердный такой сделался: с утра до вечера в поле. Дедушка Михей к старухе опять насчет своей просьбы. Та наотрез сказала: не мое дело, сын всем у меня заведывает, к нему ступай; я, говорит, ни во что сама не вступаюсь. Так старик ни при чем опять и остался. А Семен все больше и больше любит девку, все худал и сох. Анна же, как пташечка, распевала себе песенки и по праздникам весело водила хоровод, ни о чем не горюючи, да и горевать-то, правда, было не о чем: насчет замужества отец больше хотел, а ей до Семена, кажись, и дела никакого не было; значит, все шло по пути, и девка жила во всем своем желании.









































