Читать книгу "В Зырянском крае. Охотничьи рассказы"
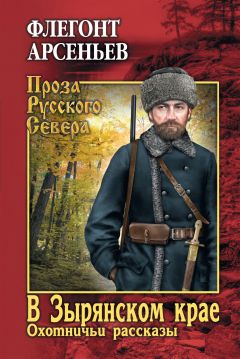
Автор книги: Флегонт Арсеньев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
В Усть-Сысольск приехали мы ночью. Возок подкатил к большому довольно красивому дому.
– Куда ты нас привез? – спросил я ямщика.
– К Назар Иван.
– К какому Назар Иван?
– К Назар Иван Сбоев.
– Кто такой Назар Иван Сбоев?
– Хозяин станции.
Вероятно, колокольчик наш был услышан, потому что в доме зашевелились, послышался скрип шагов, стук запора, наконец отворились ворота и кто-то прокричал «въезжайте»!
Я выбрался из возка и взошел в чистые, опрятные комнаты, чересчур роскошные для станции. Едва я успел пообогреться и спросить самовар, как явился Назар Иванович Забоев, хозяин дома и содержатель станции. Это был мужчина среднего роста, лет сорока пяти, плотно сложенный, чернобородый, с правильными резкими чертами, подходящими более к жидовскому типу, нежели зырянскому. Он пощелкивал кедровые орешки, скорлупу от которых чрезвычайно ловко выплевывал в кулак.
– Купец Забоев, здешний, просим познакомиться, – проговорил он частоговоркой и откашливаясь, как будто у него першило в горле.
– Очень рад, Назар Иванович, прошу не оставить вашим вниманием. Не стеснил ли я вас своим приездом: это, кажется, ваши домашние комнаты.
– Да, мы здесь живем, и приезжающие останавливаются, потому – станция… содержу, а вы писали… для вас квартира нанята.
Действительно, недели за две до отъезда моего в Усть-Сысольск я писал к господину, под начальством которого обрекла меня судьба служить, о приискании квартиры, и потому очень обрадовался, услышавши от Забоева, что просьба моя была исполнена.
Подали самовар.
– Не угодно ли чайку напиться вместе? – предложил я Забоеву.
– Нет, былое дело, благодарим, да и поздненько, на боковую пора. Спокойной ночи-с!
Забоев откланялся, я принялся за самовар. Явился Абрам.
– Что, Абрам?
– Ничего, все выносили. Вы слышали, квартира нанята?
– Забоев сказывал, а ты как узнал?
– Да работник его сказывал: здесь приезжие-то надиво, так все про него знают.
– Не расспрашивал – хороша ли?
– Хорошая, говорят, только внизу. Хозяйка Дьяковой прозывается; такая, сказывают, хлоп баба, что на поди!
На другой день отправились мы с Абрамом осматривать квартиру.
Город погружен был в сугробы снега, но чистенькие домики, правильные и широкие улицы, высокая местность произвели на меня приятное впечатление. Пройдя вдоль главной улицы, мы повернули к собору и вышли на берег. Здесь нам указали дом чиновника Дьякова, серенькое двухэтажное здание. Мы поднялись наверх и взошли в прихожую; звонка не было, двери не заперты: в Усть-Сысольске жили по простоте, нараспашку.
Нас встретила хозяйка, женщина лет под пятьдесят, но чрезвычайно свежо сохранившаяся; заметно было, что в свою молодость она принадлежала к весьма красивым особам.
После я узнал, что Николай Иваныч Надеждин, когда-то сосланный в Усть-Сысольск, вывел ее в своем рассказе, напечатанном в «Утренней Заре». Там он называл ее хорошенькой, бойкой Зыряночкой; но в настоящее время бойкая Зыряночка представляла очень увесистую фигуру.
– Слышала, батюшка, что вы приехали, – заговорила хозяйка, усадивши меня в гостиную, – от Забоева прибегали сказать ранехонько: шилец, говорят, ваш приехал, чтоб квартира была готова. Сами ведь в комнатах-то живут, для станции особого помещения нет, ну и стесняются чужим человеком. Пожалуйте посмотреть.
Спустились вниз. Комнаты оказались низенькие, но чистенькие, кухня особо – через сени, мебели довольно. На первых порах, принимая в соображение дешевизну: четыре рубля в месяц с дровами, – жить можно.
– Вот с богом и переезжайте: комнаты натоплены и вымыты, только уговор лучше денег: у вас собачка, говорят, есть, чтоб курок моих не гоняла – этого я не люблю; да человек у вас есть, чтоб в огород ко мне не ходил – морковь да брюкву таскать, да чтоб он неприличных слов вслух не произносил, дочка у меня, нехорошо для девушки.
– Будьте покойны, сударыня: собака моя ходит только за лесными курками, а домашних не трогает, да и курки ваши теперь еще не гуляют, и морковь ваша и брюква, полагаю, еще не растут, потому что в огороде вашем на сажень снегу; что же касается до неприличных слов, то мы их никогда не говорим, да и у девушки ушки золотом завешены.
– Да ведь это я, батюшка, на всякий случай, так для переду сказала, потому в прошедшем годе был у меня постоялец, тоже с своей прислугой жили, наказанье!.. Лакеишка его все повытаскал из огорода, и такой ли мерзавец: что ни ступит, то скверное слово во все горло, а тут Оленька у окошка, нехорошо.
В тот же день мы совсем перебрались на квартиру и устроились хозяйством как следует.
Дня через три Абрам подозвал меня к окну.
– Посмотрите-ка, батюшка, сюда, поправке вот этой избенки, что стоить на берегу, видите на той стороне ельник – это место островом прозывается, потому – реки его окружают со всей стороны отсюда – Сысола, левее – Вычегда, а там, за островом, Потеряй. Все это пространство по веснам заливается водою. Смотрите потом дальше, прямо, видите – черная такая полоса, это темные, растемные леса, и конца, говорят, этим лесам неть, и живут в этих лесах всякое зверье и всякая птица лесная. Теперь смотрите-ка налево, видите – кусточки-то ракитовые – это Вычегда около них течет, большая, говорят, река и дюже рыбистая; а в ракитовых кусточках этих белая куропать по зимам держится, думаю, туда с ружьишком накатить.
– Откуда ты всю эту географию узнал, Абрам?
– Здешние сказывали, расспросил. Здесь народ важнеющий, простой и словоохотный. Меня уж приглашали лесовать: все, говорят, тебе покажем, всем здешним охотам научим, по хорошим местам выводим. На первой неделе Великого поста партия собирается дней на пять, я бы с ними пошел, берут, и лыжи обещали.
– Что же, с богом, только вынесешь ли ты эту охоту? С непривычки будет тебе трудненько тянуться с зырянами.
– Ничего не трудно: на лыжах я хожу уж верно не хуже их, ночевки-то лесные знаю: приваживалось под небом ночевать, а у них для этого, говорят, избушки понаделаны. Котелок с собой возьму, компас, чтоб не заблудиться. Непременно пойду: надо же научиться здешним охотничьим порядкам.
Решено было на первой неделе поста, до которого оставалось еще дней двенадцать, отправиться Абраму с зырянскими охотниками в лесовье.
II. Белый Бор
Абрам скоро успел ознакомиться со всеми ближайшими к городу промышленниками охотниками. Он много раз ходил и с ними лесовать, отлучаясь на целые недели в леса, охотился за белкой и рябком, ставив капканы на росомаху, силки на горностая, пасти и слопы на тетеревей и зайцев, подстерегал на извилистых, крутоберегих лесных речках выдру, отравлял лисицу, преследовал гоньбой на лыжах оленя и таким образом узнал до тонкости охотничьи промыслы зырян.
Но не так занимала нас зимняя охота на лыжах, трудная и изнурительная для новичков; в этой охоте приходилось преодолевать несвычные препятствия, начиная с огромных пространств до ночлегов в курных зырянских зимовках, среди густых лесов, часто во время сильных снежных ураганов. Мы с нетерпением ожидали весны. Воображение наше, разогретое местными рассказами, рисовало целый ряд добычливых полей в вешнюю, летнюю и осеннюю пору и самую разнообразную егерскую охоту на здешних истинно прекрасных местах, представляющих такую дикую ширь, такой неограниченный простор.
1.
Апрельские дни и ночи теплы и ясны. Реки Сысола и Вычегда очистились ото льда и от постоянной прибыли воды, увеличиваясь и расширяясь, быстро катили свои воды. По нагорному, овражистому берегу Вычегды бурили только что обтаявшие пашни, а противоположная луговая сторона вся захлебнулась весенним разливом.
По временам тянули вереницами гуси, лебеди, утки; изредка с грязных полей слышен был свист кроншнепа и курлыканье журавлей. Чирки по зарям сновали туда и сюда, быстро рассекая воздух при своих перелетах; фомка-разбойник писком пищал, ловя маленькую рыбешку, и далеко разносились в прозрачном воздухе, по тихой поверхности широкого разлива, громкие, однообразные крики чаек.
Не усидеть дома в такое время охотнику. Так и тащит его к ружью, а от ружья к созерцанию природы, обновленной жизнью прилетных птиц. Душа так и рвется на широкий простор, на гладкую, зеркальную поверхность воды, в которую, опрокинувшись, смотрится обновляющаяся природа. С нетерпением ожидал я свободного времени от моих занятий, чтобы отправиться по разливу в легкой лодочке куда-нибудь на остров, в ночевку.
– На охоту бы, Абрам, надо?
– Давно пора, батюшка, вся дичь прилетала.
– Куда же ехать-то? Места здесь все незнакомые.
– Да пойдемте в Озела; места там привольные, утки много, тетеревей с подъезду найдем.
– Ну тебя с утками! Мне бы хотелось пострелять тетеревей на току, где бы большой был слет, чтобы было над чем потешиться.
– Так зачем же дело стало… Поедемте на Белый Бор.
– Хорошее место?
– Уж такое ли место, что и во сне не приснится такого!
– А ток велик?
– По насту много тетеревей слеталось. Если зыряне не передавили петлями – побухаем!
– Нам бы кого-нибудь взять для гребли в распашные весла.
– Алешку возьмем, парень здоровый, к тому же здешний охотник – все места знает.
– Ну, так Алешку; сходи за ним. А лодка готова?
– Совсем готова: пробита и просмолена, и весла и беседки сделаны, – садись да поезжай.
– Хорошо, непременно едем в ночевку. Приготовь с собою взять котелок, крупы для кашицы, молока, масла, самовар, погребец, постельники и все прочее, чтоб было не холодно и удобно ночевать.
Когда было все изготовлено и уложено в маленькую, легонькую лодочку, явился Алексей, плечистый молодой зырянин, готовый от искреннего сердца на всевозможные послуги. Сели и поехали.
Вскоре между Алексеем и Абрамом завязался разговор.
– Много ли надавил тетеревей-то? – спросил Абрам.
– Нынче мало, почитай что ничего не поймал, – отвечал Алексей.
– Ну уж и заведенье ваше проклятое, нечего сказать – все петлями давят: утку в петлю, куропатку в петлю, тетерева в петлю, глухаря в петлю, рябчика в петлю, оленя – и того в петлю ловят. Хитреющий народец, истошники, даром что увальнями смотрят.
– Зырянину заряд дорог, а это и дешево и прибыльно.
– Прибыльно! Что в вашей прибыли-то: самому потехи нет, а дичи перевод. Здесь тетеревиных токов совсем не стало: на слуху-то один, много два. По заре выйдешь, не услышишь голоса тетеревиного. У нас места не против ваших: урема, болота, в подметки не годятся к вашим; а выйди-ко по заре, так только станова стоит, во всех сторонах токуют, все оттого, что нет заведения давить петлями.
– Да тетерев петель-то меньше боится, нежели ружья, – возразил Алексей.
– Ох ты, толстоголовый! Меньше боится… Как же не меньше. Вот, батюшка, рассудите вы наше дело, – обратился Абрам ко мне, – наставят они на тетеревином току петель не одну тысячу, все в крючки, в разных местах, так, что где ни сядь тетерев, и попал; а как попал, заголосит сердечный каким-то особенным криком и начнет биться, да бьется с час времени, так что все стадо с току поднимется: как сумасшедшие полетят. Хоть и дураки тетеревье-то, да ведь слышат и видят, что недаровуха случилась с товарищем!..
– Тетереву-то все равно умирать-то, что от ружья, что от петли, – снова возразил Алексей.
– Вот, поди, толкуй с ним! Да вы, головы, то подумайте, кого вы давите на току-то? Токовиков ведь да тетерь давите! Токовик на ток летит всех раньше, садится без всякой опаски, прямо на землю, больше всех бегает – первый и попал. А как на току-то поймают штук десять токовиков, весь ток и пошел вразброд. Ведь токовики главители: без них току не может быть. Опять тетерьки-то, сердечный, чем виноваты. Как прилетели на ток, начали роститься да бегать – и в петле, и в петле. Только тетерь да токовиков и ловят. Знамо дело – перевод дичи: без токовика току нет; тетера, если и спасется какая от петли, не с кем поняться. Наше же дело совсем не то: я сделал на току шалаш, выставил чучела, залег с вечера и дожидаюсь утренней зари. Прилетит токовик, я его не бью. Еще иной, проказитель, на шалаш усядется да воркотню подымет, а мне и горя мало, хоть в шалаш забейся – не трону. Прилетит тетеря – не бью. А вот пожалует приватный, сядет на присяд – мой! Да я на хорошем-то току пять-десять штук приватных убью, а тока не порушу. У меня и токовики целы, и тетери целы. И смерть-то от ружья минутная: выстрелил, свалился тетерев, встрепенулся раза три – и капут. Остальные даже и не слетят. А то, помнишь, при нас попал токовик в петлю. Сердце ведь разрывалось, глядя на его мученья: захлопотал, закеркал, и брюхом-то кверху повернется, и крыльями-то бьет – перья летят, как из подушки. С час времени, сердечный, мучился, потом захрипел и подох. А остальное тетеревье, как дождь, в разные стороны разлетались. Так вот ваша навадка-то какова. Строгое бы запрещенье сделать вам – не давить дичи петлями весной.
– Правда, Алексей: ловля петлями – ужасный перевод дичи; вы ее бессовестно губите, – сказал я.
– О чем же я и толкую-то, – заговорил Абрам, – перевод дичи такой, какого хуже и не выдумаешь.
– У нас уж заведенье такое, – промолвил Алексей, – все ловят петлями – от старого до малого.
– Вот, нашел чем хвастать. Это еще хуже, что все ловят. У вас, зырян, где только можно, уж беспременно петля висит. Недели две тому один охотник из ваших позвал меня на речку в Озела стрелять уток. С прилету утки, говорит, всегда пристают на этой речке. Со светом пришли мы на места. Речка ото льда очистилась; вижу по всем приметам, что первые утки тут должны становать. Но, поверите ли, батюшка, – обратился ко мне Абрам, – по всей речке вплоть висят петли, несколько тысяч их тут. Как села утка, так и попала; а ведь петля не разбирает, селезень ли, утка ли – все ловит. Вот оно каково!
– И много налавливают они по этой речке? – спросил я.
– Уж не знаю, много ли, – отвечал с досадой Абрам, – не вся давленная дичь у них и впрок-то идет.
– Как не вся идет впрок? – спросил Алексей.
– А так: петель-то, хоть бы на току, зырянин наставит, тетеревей напопадает, а он придет через день, бывает – через два, и найдет в петлях одни кости, перья да папоротки – гарга уж все успела расклевать. На любом току, посмотри, сколько костей валяется. Скажешь, этого не бывает?
– Бывать-то бывает, да ведь и из ружей-то иной раз ранишь, отлетит да умрет – тоже в пользу не достанется.
– Нет, Алешинька, дудки! Я на присяду-то хвачу тетерева – у меня как клубок свалится, перышком не пошевелить, не то что улетать.
– Куда ты воротишь? – спросил я Абрама, который вдруг круто повернул лодку направо, в куст затопленного разливною водою ельника.
– А вот тетерев сидит на березе. Видите, как насупился? Близехонько подпустит.
– Вот, говорил, тетеревей-то нет? – подхватил Алексей.
– Это шальной какой-то залетел, – возразил Абрам. – Смотри, один-одинешенек; от зырянской, видно, петли, голубчик, спасся, и дружки подле него нет. Тише греби. Убери весла. Вот так. Теперь я один на кормовом поеду. Изгошайтесь, уж недалеко.
Я взял на руки ружье и ждал, пока лодка подойдет к тетереву на расстояние выстрела. На высокой кужлевастой березе, почти в половине дерева, близко к стволу, сидел, скорнувшись, черныш, не обращая никакого внимания на наше приближение. Лодка ровно скользила на гладкой поверхности воды. Вот, наконец, расстояние уменьшилось до пятидесяти шагов, я приложился и выстрелил – тетерев повалился. От выстрела, из кучи в двадцати шагах плававшего хвороста, с криком поднялась пара кряковых уток. В один миг Абрам бросил кормовое весло, схватил ружье и выстрелил по селезню – птица пошла книзу.
– Падет, падет, падет! – закричал Абрам. – Все книзу, книзу – пал! Каково, Алеша? Это не по-зырянски!
– Хорошо! Как это ты успел? – спросил Алексей.
– Уж успел. У нас мигом сгорали и косач и кряковень, – хвастливо отвечал Абрам.
Мы подъехали к добыче, взяли ее и снова направились к Белому-Бору.
– Вашей зырянской стрельбой тут бы ничего не сделал, – начал Абрам, – а ведь стрельба-то ваша хваленая – из винтовок.
– Наша стрельба не в пример лучше. У нас из вашего заряда выйдет пять, не то шесть – в винтовку, выгодно.
– Все так; да зачем вы, зыряне, по белому свету слывете первыми-то стрелками? Вот это ты мне скажи.
– За то, что из винтовок стреляем.
– Небось в головку. Эх вы! Хороша стрельба в головку, нечего сказать: задавят в петлю рябка, ковырнут гвоздем, обпачкают кровью, да и говорят – стреляная, в головку бита…
– Не все же это делают: настоящее охотники лесовать ходят с винтовками на целые месяцы, – возразил Алексей.
– Знаю, сам с вашими ходил, сам видел, что не в головку стреляют, а бьют во что попадет и промахи зачастую делают. Стрелять же из вашей винтовки никакой нет мудрости. При мне в Вильгорте мастер, что делает винтовки, наставлял их штук десять на цель; только слава, что в пятно бьют. Я пулей из любого ружья этак попаду. Сделает он пятно в ладонь величины, отойдет сажен пятнадцать, винтовку утвердит на подставку, да под правую мышку подпорку, чтоб не качнуться ни в которую сторону, так и бьет. Хитрое дело! Только слава, что в пятно…
– Коли не хитрое дело, отчего же ты не стреляешь из винтовки? – с усмешкою спросил Алексей.
– Как не стреляешь! Да я в те поры же стрелял раз пять и еще лучше угодил в пятно. Потому-то я и говорю, что никакой нет мудрости стрелять из винтовки в пятнадцать сажен. Да еще мое дело непривычное. А ведь вы всю жизнь стреляете из винтовок, – наторели. Я бы на вашем месте без всяких подставок попадал в пятно.
– Не обижай, Абрам! Из наших многие с руки из винтовки бьют, – возразил Алексей. – Отец у меня каждый раз с руки в пятно садил.
– Ну так что, что садил! Один охотник не пример. И из наших есть егеря без промаха влет разят, да еще как: вправо снялся бекас – валится, влево снялся бекас – валится. Это похитрее стрельбы из винтовки на пятьдесят шагов, да никто на это не дивуется. Да и дивоваться, по-моему, тут нечему: кто с чем обращается, тому то и сручно!
Последние слова Абрам произнес с особенною выразительностью, после чего, обернув голову в правую сторону, молча стал смотреть в густоту осинника, около которого мы тогда плыли. Широкая масса воды быстро летела по промою, унося по течению с величайшею силою наш легонький челнок. В этом месте перекат весенней воды, пронос. Речная вода, вышедшая в весеннюю пору из берегов, сокращает себе путь, направляясь по прямой линии чрез мысы, по природным ложбинам. Когда убудет вода, обрежутся берега рек, сбежит заливная с лугов, то места, где был перекат, обозначатся, и вы увидите глубокие и длинные лога, иные с берегами круто приподнятыми, другие с отлогими и кочковатыми. Почти в каждом из этих логов держится вода все лето и всю осень. Обрастая высокою и густою травою по краям, они представляют отлично привольные места для утиных выводков, для притона летней и для поприща охотника за утками. По берегам их мостятся не в большем числе бекасы. Такие лога называются здесь курьями.
2.
Показался Белый Бор. Береговой обрыв Вычегды, или, лучше сказать, отсыпь, в этом месте почти отвесная, как снег белела издали. Это такого цвета песок. Лес, растущий по самой береговой окраине и отсюда распространяющийся далеко к северо-востоку, получил название Белого Бора, по цвету грунта, на котором растет, а может быть, и по отсыпи, по этому белому, енотовидному берегу Вычегды.
Скоро доплыли мы до Белого-Бора. Сосны, ровные и прямые, как свечи, высоко возносили свои вершины к небу. Внизу чисто и гладко; нет ни валежника, ни молодой поросли; только и видны на совершенно горизонтальной плоскости толстые стволы сосен да по земле мягкий ковер белого моха, смешанного с мелкими вересками и брусничником. Зрение беспрепятственно разбегается здесь во все четыре стороны, и далеко-далеко виден на Белом Бору всякий появляющийся предмет. Весело ходить в таком лесу осенью с простою русскою собакою за белками. Резко разносился бы здесь свист и вскрикивания охотника, ободряющего «катышка» или «шарика», звонко бы раздавался голос собаки, подлаивающей белку или глухаря-тетерева.
Причалив лодку и спрятав весла, мы навьючили на себя все припасы и просекою пошли на место тока. В большом хвойном вечно-зеленеющем лесу люблю я смотреть вдоль по прямой, как будто пушечным ядром прошибенной просеке. Вот тянется длинный, предлинный коридор в глубину леса; зеленые стены его вдали все темнее и темнее, все теснее сжимаются они, и, наконец, упершись в горизонт, теряются на нем. А наверху стелется голубая лента неба, обрезанная зубчатыми вершинами дерев так же ровно и прямо, как и просека, только чем дальше, тем шире она разбегается в обе стороны и потом сливается с общим пространством небес. Солнце, хотя и склонялось к закату, однако же так и обливало нас теплом и светом. Смолистые испарения наполняли воздух. Повсюду тихо. Ни малейшего шелеста незаметно было даже в вершинах деревьев, неподвижно стоявших с опущенными ветвями. Певчий дрозд, усевшись на сухой сосновый сук, тянул со скрипом и трещаньем свою однообразную песню. Где-то далеко взвизгивала сойка, ей вторил сорокопуд, а сорокопуду подтягивал крестовик. По временам доносился стук дятла, усердно трудившегося над сухим деревом. Слышался голос кукушки, беспрестанно смолкающий, и двухколенное глухое бормотание дикого голубя.
Вскоре мы дошли до большой, десятин в сто, сенокосной нивы, расчищенной на низменном месте. Вся она обросла по подолу мелким кустарником кудреватого ивняка, густо подернутого крупным, бархатисто-белым цветом. Лес, окаймляющий эту росчисть, совершенно соответствовал низменности места: с левой стороны тянулся приземистый сосновый болотняк, с правой – косматые, искривленные березы мелькали в опушке белизною своих стволов, а прямо угол нивы заглушался непроницаемой крепью ветлы и олешняка. Тонкие, паршивые ели, покрытые мхом, клочками висевшим на опущенных сучьях, тонкие осинки с кривыми, растопыренными сучьями, ольхи с прошлогодними расщедрившимися шишками – все носило иной характер против высоких мест бора, с роскошным насаждением громаднейших сосен и говорило об особом мире здешних обитателей. Самая площадь нивы давала знать охотнику, какое население занимает эти места: то выдается ложбинка, наполненная снеговою водою, то кочковатое болотце с перегодовалою и почерневшею осокою, то сухменек[20]20
Сухое, несколько возвышенное место.
[Закрыть] с соломою летошнего белоуса; инде ржавая потная кружевинка, инде мягкая моховая наточина, подернутая кукушкиным льном.
– Какое приволье-то! – вскричал Абрам, когда мы выбрались на ниву. – Со всех сторон слет: и с бору-то тянет, и с березины сюда же летит тетерев. Как не быть здесь току! Опять для выводков-то какое место.
– Место очень хорошо, но глухо. Не думаю, чтоб много тетеревей слеталось.
– Да здесь, батюшка, всегда на этаких местах бывают тока. Открытых полей тетерева боятся, а эта, в затишьи-то, то ли дело. Здесь бы их видимо-невидимо было, если б не зырянские петли.
Из-под ног выскочил бекас, дал резко вправо, потом влево, затем быстро поднялся на высоту и, ныряя в воздухе, рассыпался барашком.
– Бекасишки водятся, – сказал я.
– Как не быть здесь бекасишкам; здесь, по приметам, и дупель должен быть, и ваншлеп, и гусь пролетный, и всякая всячина.
– Где же у вас шалаши-то поделаны?
– А вот, видите, – остожья… так около остожей-то…
– Да их не видать тут!
– Хватились! Уж зыряне давно все переломали. Вот, ужо, посмотрите-ка, что у них тут понаделано.
Под большой, раскидистой сосной, избоченившейся на одну сторону, сложили мы свою кладь, прикрыли ее полостью и отправились на место тока. В самом деле, шалаши были изломаны до основания; только и уцелела одна березовая присадина, привязанная ивовым прутом к обломку старого плетня. Несколько птичьих скелетов, крыльев и множество перьев, рассеянных ветром по всем направлениям, валялось на месте тока. Тут же устроены были и зырянские петли, виновники этих жалких остатков от краснобровых токовиков и тетерек. Устройство петель незатейливо: вершинки, срубленные с молодых елей, раскладены были парами в разных направлениях, в форме ломаной линии. Отрубы каждой пары соединены вместе, а от одной вершинки к другой натуго протянута в две толстые разсученные пряди бечевка, на которой висело от семи до десяти волосяных петель. Верхние края петель вложены в бечовку между прядями, а нижние касаются земли. Сообразив такое устройство петель, нетрудно догадаться, как попадают в них тетерева: бродя по току, бегая за тетерьками, тетерев сунется в петлю, потянет ее, захлеснет около шеи и задавится. На току расставлено было в разных направлениях по крайней мере до трехсот петель. Абрам был прав: как ни присядет тетерев, так и попадет. Только счастливый спасется.
– Вот, извольте-ка посмотреть, сколько, пострелы, петель-то наставили, – сказал Абрам, сгребая ногами вершинники вместе с петлями в одну груду. Нечего сказать, – документоватый народец, немногим поживишься после них.
Очистив место от вершинника и петель, сейчас же принялись за стройку шалашей. В привычных охотничьих руках это дело очень не трудное: кто рубит присады и подчучельники, кто бьет для них дыры, кто основывает шалаш и утыкает его ельником в замок. Не больше как в полтора часа работа двух шалашей была окончена, и даже выставлены чучела, гоголевато красовавшиеся на подчучельниках.
Солнце садилось за лес и чудным блеском золотило поверхность воды, натаявшей от снега и затопившей почти весь правый край нивы, золотило оно и верхушки леса, и небольшое кучевое облачко, повисшее над закатом, золотило и сумрачную даль, и шапки приземистых сосен в моховом болоте, растянувшемся на востоке. Жар свалил значительно, распространилась свежесть в воздухе, еще сильнее повеяло весною, еще вольнее стала дышать грудь, еще жаднее начала она принимать в себя живительный воздух воскресающей природы. Вот пронеслась пара чирков, ловким оборотом сделала круг, спустилась к воде и резво-резво помчалась над ее поверхностью. Вот снова взвилась она кверху, снова сделала круг и со всего размаха шлепнулась в лужу. А там, с южной стороны, показалось стадо свиязей, цепью, в огромном количестве державших путь на север. Господи, как быстро летят они! Вдруг близехонько шваркнул кряковый селезень. Сердце так и обмерло, я кинулся к ружью, но было уже поздно: пара тяжелых кряковней протянули от нас в десяти шагах и, отлетев сажен пятьдесят, спустились на воду.
– Скоро заря начнется, пойдемте уток сторожить на лужи, здесь их будет. Видите, уж тянуть начинают, – шепотом проговорил Абрам.
– Сейчас идем. А ты, Алексей, отправляйся туда, к клади, устрой там все хорошенько, разведи огонь и наставляй самовар. Как возвратимся, будем чай пить, а потом и кашицу готовить.
Подтянув патронташи, подняв повыше голенища, направили мы стопы свои на лужи. Исправно, не зачерпнув сапогами, перебрели мы через них, выбрали места и расселись друг от друга в приличном расстоянии, соблюдая при этом известное охотничье правило – садиться против зари, чтобы отблеск от нее в воде явственно изобличал спускающихся уток. Плавно и спокойно закатилось солнце за лес. Несколько времени оно еще просвечивало сквозь редочь дерев, потом скрылось совершенно, и вот огненным потоком свободно разлилась по горизонту вечерняя заря. Как все заговорило в природе! Как закипело все жизнью! Сколько различных голосов, то скорых и отрывистых, то мелодических и томных, то звонко оглашающих, как оклики часовых, раздалось по всем направлениям! Под самым зенитом, распластав широко крылья, описывая большие круги, плавали четыре журавля, высматривая для своего притона безопасное место. Близехонько от меня, в ивовых кустарниках, трещали дупеля, в воздухе пел жаворонок, блеял бекас, харкал по временам вальдшнеп. Пара маленьких песочников, бегая по зеленой траве около воды, миловались, любезно между собою перепискиваясь. Черный большой дятел, перелетывая по сухим деревьям, скрипел, как неподмазанное колесо. Где-то в лесу чувыкал и покеркивал тетерев, кокотала тетерька и глухо ворковал дикий голубь. А на поднебесной высоте то и дело тянули многочисленные стада гусей и пролетных уток.
Вот над самою водою, шепеляво свистя, летит несколько штук шилохвостей; вот против меня опускают они крылья, хотят сесть, но, раздумав, полетели дальше, сделали круг и сели против Абрама. Через несколько секунд мелькнул огонек и грянул выстрел; перекатами разнесло его эхо во все стороны, и долго гудел отголосок по вечерней заре в чистом весеннем воздухе.
Терпеливо дожидался я на свою долю добычи. Много пролетало мимо меня чирков и плюстоносок, и шилохвостей, и кряковней, но ни одна пара не присела.
Много раз стрелял Абрам, даже послышалось мне, что выстрелил Алексей, а я все еще сидел с одними тщетными надеждами, не выстрелив ни разу. Терпение мое мало-помалу начало пропадать, ночной холод проник до тела сквозь легкую одежду, я хотел уже оставить свой пост, как вдруг спустился ко мне кряковый селезень. Осмотревшись во все стороны, он шваркнул раза три и бойко поплыл прочь. Я торопливо приложился и ударил его в зад. Дистанция была далека, но выстрел так ловко лег, что селезень, по выражению Абрама, не совстрепенулся.
Просидел я еще с четверть часа. Вечерняя заря погасла, мрак ночи увеличивался. Миллионы звезд рассыпались по небу, и плавно выступила на свой путь бледноликая луна. Многие голоса, слышные в начале зари, умолкли.
– Пойдемте к пажку!..[21]21
Пажок – разведенный огонь, костер.
[Закрыть] Уж поздно, ничего не видно! – раздался голос Абрама.
– Сейчас иду! – отозвался я.
Мы сошлись. У Арбама в обеих руках было по нескольку штук уток.
– Да ты лихо поохотился, Абрам, – сказал я, показывая на его добычу. – У меня так только один кряковой селезенек.
– Семь штук убил: трех шилохвостей, пару чирков и пару кряковней. Какой и лет был – не успевал заряжать ружья.
– Видел я, что все к тебе тянули. Еще Алексей, кажется, сделал один выстрел?
– Стрелял и он, не знаю только по чем.
– Счастье, братец, тебе: у меня только один и присел.
– Сегодня я запановал, а все потому, что с причетом поехал.
– С каким же причетом?
– Есть эдакая маленькая хитинка от призору.
– Какая же хитинка?
– А вот какая: как будешь садится в лодку, так надобно нашептывать: спаси, Господи, сохрани и помилуй: от простоволоса – от простоволосицы, от кривоноса – от кривоносицы, от косоглаза – от косоглазицы, от всякаго лихого человека – и человечицы, и от всех злых умыслов, чтобы ни навстречу не попали, ни дорогу не перешли, ни глазом ни опризорили. Во веки веков аминь!
– Неужели ты веришь этому приговору?
– Верить-то не верю, а все как-то меньше думается, как проговоришь его.
У Алексея уж был разведен огонь. Искры фонтаном клубились кверху, столбом поднималось пламя и освещало половину большой сосны, с раскидистыми ветвями, другая же ее половина тонула в ночном мраке. Около огня виднелась фигура Алексея, хлопотавшего за самоваром.









































