Текст книги "Генезис платоновской философии. Первый том, вторая часть"
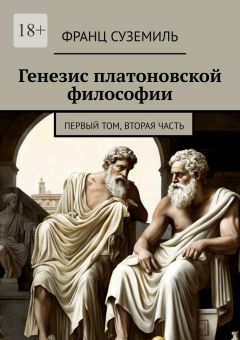
Автор книги: Франц Суземиль
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Остальная часть обстановки (до с. 178 A.) стремится удалить из настоящего все внешние атрибуты обычных банкетов, флейтистов и питейных состязаний, словом, все, что могло бы омрачить характер серьезного созерцания, и оставить от характера симпозиума, так сказать, только идеальную сторону повышенной веселости, более возбужденного бодрого настроения духа, к которому относится и то, что местом произнесения этих речей выбран не собственно победный пир, а более тихая вечеринка в меньшем избранном кругу. Толчком к этим речам, однако, служат два гостя обеда, которые особенно подходят для такой роли и поэтому уже здесь развивают свои характеры: во-первых, врач Эриксимах, очень почтенный человек, но полный педантизма, самодовольства и напыщенности, и, во-вторых, Фаэдр, безусловный поклонник его врачебной мудрости. Первый сразу же выставляет себя в качестве советника общества по физическому и духовному здоровью, рассуждая о вреде опьянения, и в то же время использует эту возможность, чтобы выразить последнему свою благодарность за его почитание, помогая исполнить его давнее любимое желание, тем более что таким образом он действительно может играть роль защитника над ним, которую ему дает Фаэдр. И здесь, как и в диалоге его имени, Федр предстает как ненасытный красноречивый друг, который знает не мало о том, что нашел в Эросе новую, еще не обработанную тему. Очевидно, почему он подходит на роль «отца» всего этого речевого состязания и, с другой стороны, почему он, зависимый поклонник чужого ораторского искусства, не представляет себя таковым, а позволяет представить себя чужому ораторскому искусству. Однако волнение обоих мужчин перед жеванием контрастирует с тем, как здесь говорится о владычестве Сократа над своим телом. В отличие от мягкости Эриксимаклида и Федра, он закалил его так, что оно не поддается усилию пить, но это произошло исключительно благодаря энергии его разума, а не, как у Аристофана и, вероятно, Агатона, даже не из чувственных побуждений, не из любви к вину и не из упражнения, которое, как видно из примеров Аристофана, длится так мало, что тело все же реагирует против обильного удовольствия. Это обстоятельство, как и экстаз Сократа – nm для краткости используем это менее описательное выражение – p. 174D. 175, подготавливает соответствующее описание со стороны Алкивиада и события в конце всего произведения. Не менее знаменательно, что Сократ помещен рядом с Агатоном и что теперь возникает шутливый разговор об их взаимной мудрости, что связано с вышеупомянутым погружением Сократа в глубокую задумчивость с забвением всего внешнего мира. Последний явно предстает в речи Алкивиада как пример философского энтузиазма, и столь же явно мы призваны ложью философа вместе с поэтом удерживать обоих вместе в соответствии с внутренней природой их энтузиазма и порожденной им мудрости.
Дионис должен стать арбитром между ними, то есть, с одной стороны, судить о внутренней ценности их последующих речей за вином, а с другой – сам Дионис понимается не только как бог вина, но и энтузиазма. И как раз когда остаются только речи Агатона и Сократа, прерванный здесь разговор продолжается, и подчеркивается противоречие: трагик, как и философ, не находит оценки своих усилий в себе самом, а скупится на признание толпы, но в то же время ставит себя и свое суждение, как и суждение проницательных, гораздо выше; Хотя мирный и гармоничный дух целого не позволяет этому противоречию проявиться во всей его грубости; скорее, прежде чем это произойдет, нетерпеливый Фаэдр прерывает эту интермедию и требует завершения речей, p. 193 E.– 194 E. Но одного этого достаточно, чтобы превратить празднование победы поэта, которое только что отмечалось, в празднование победы философа и отдать первому лишь второй приз, поэтому Алкивиад также забирает обратно значительную часть лент, которые он предназначал для украшения Агатона, для головы Сократа, стр. 213. D.E., и почему сам Платон, подчеркивая предложение прославить Агатона после Сократа, в то же время не позволяет ему осуществиться, p. 222 E. ff. Таким образом, это также подготавливает нас к группе, которая одна остается бдительной в конце всего.
С такой же деликатностью трактуется и невоздержанность Аристофана, когда истинная причина его проглатывания, предыдущая дневная попойка (υπο πλησμονης), отодвигается в неопределенный мрак обобщающим добавлением η υπο τινος αλλου, p. 185 C. Более того, замечание о том, что все его усилия поглощены «Дионисом и Афродитой», стр. 177 E., на первый взгляд, содержит скрытое порицание. Прежде всего, если его комедии обозначаются первым именем, потому что драма принадлежала культу Диониса, то и второе не должно иметь к ним внешнего отношения, не так, как если бы любовь играла в них главную роль182182
Как говорит Л. Й. Рюккерт в своем издании (Лейпциг 1829. 8.) z. d. 8t. Более того, это вряд ли можно доказать на основании комедий Аристофана.
[Закрыть], а Афродита в Пире последовательно обозначает не богиню любви, а скорее ее спутницу, очарование и красоту.
Но театр, как и любое искусство, служит красоте. Так что это замечание скорее служит иллюстрацией того, что нынешний праздник, посвященный Дионису, используется для прославления Эроса. Это имеет тот же смысл, что и ассоциация Сократа с Агафоном, ведь Эрос – покровитель философов, как и Дионис – поэтов, но оба они родственны, поскольку оба служат Афродите: Дионис – лишь низшая форма Эроса, а поэтический, как и философский энтузиазм, можно отнести к любви во всей ее полноте. Платон, очевидно, принимает здесь популярную концепцию, согласно которой Эрос был сыном Афродиты, а Бакхос, по крайней мере, находился с ней в некотором избирательном родстве183183
Св. Штальбаум з. д. Св.: потому что Венера имела обыкновение общаться с Вакхом, и оба бога хотели участвовать в пирах.
[Закрыть]. Но этого объяснения недостаточно, ибо почему это сказано только об Аристофане, а не об Агафоне, в случае которого, как видно из сочетания с Павсанием, рассматриваются только личные любовные отношения с ним? В случае с Аристофаном, следовательно, мы должны думать не только о его искусстве, но и о его жизни, т.е. о его обильном употреблении вина и о почитании прекрасного, если, может быть, не мужского, то, по крайней мере, женского пола, который, вероятно, не совсем трепетно соблюдал границы целомудрия.184184
Эту часть, однако, я отдаю на откуп Форту Яге, Philosophische Meditationen über Plato’s Symposion, Heidelberg 1835.8, Delbrück, Bonner Sommerkatal. 1839 и Stallbaum Opp. I, 3. (3-е изд.) p. XLVII, которые все хотят найти месть Аристофану за его облака. См., с другой стороны, Jahn’s Jahrb. XLVIII, p. 594, хотя то, что там сказано, должно быть изменено в соответствии с тем, что сказано здесь.
[Закрыть] Точно так же ничто не мешает нам одновременно подумать и об искусстве Агатона, поскольку нет никаких оснований предполагать, что он с радостью согласится с предложением Фаэдра. Искусство и жизнь здесь идут рука об руку, в отличие от Сократа, который вообще ничего не понимает вне сферы любви. Наконец, в ассоциации Аристофана с ним кроется намек на то, как мало он имел права на свои насмешки в облаках, и превращение стиха о нем в почетное порицание * Алкивиада, стр. 221 В; подобные унижения, однако, лежали и в основе суда над Сократом, и поэтому мимолетный намек на него у него же, стр. 219 С, и таким образом не лишен определенной апологетической тенденции.185185
S. Delbrück a. a. O.
[Закрыть]
Проглатывание Аристофана, кстати, сразу же дает Эрикси-маху еще одну возможность заявить о себе с помощью своего искусства, p. 185 C. – E., но Аристофан снова высмеивает несколько неопределенный характер речи Эриксимаха и особенно подчеркивает противоречие в том, что он объявляет гармонию и меру высшими и при этом вынужден использовать такое жестокое средство, как чихание, против столь незначительного недуга, p. 189A. – C.)186186
Steinhart a. a. O. IV. 8.216.
[Закрыть]. Таким образом, теория и практика в его случае также взаимоисключают друг друга, тогда как истинный Эрос разрешает именно эту оппозицию, как будет показано ниже. Алкивиад также ниже высмеивает властную манеру врача ставить себя во главе застольной беседы, p.214A. B.
На то, что форма речей Федра, Павсания и даже Эриксимаха соответствует софистической риторике того времени, неоднократно указывается, p. 177 B. 185 C. 208 C.; но было бы тщетно пытаться найти в любом из них особую манеру какого-либо знаменитого софиста или оратора того времени187187
Den Beweis hierfür glaube ich in meinem Prodromus S. 45 – 50 geliefert zu haben.
[Закрыть]. Единственное исключение – Агафон, подражающий манере речи Горгия, – также прямо отмечено, p. 198 C. Но и в содержании и расположении их повсюду обнаруживается софистический вкус того времени, который, проникнутый живым просветительским инстинктом, стремится свести все к научной формуле, но при этом довольствуется для этой цели первым попавшимся пчелиным зерном, а потому, и поэтому, как у Эриксимаха, относится с одинаковой важностью к ничтожному и значительному, или даже использует эту формулу, как у Павсания, для оправдания всего существующего, как бы безнравственно оно ни было, как мы находим подобный консерватизм в диалоге Протагора. Или же, поскольку эта формула на самом деле не вытекает из внутренней жизни материи, а лишь навязывается ей извне, она образует не плодотворный метод, а лишь пустую, внешнюю схему, в которой мысль остается скудной и неразвитой, как у Федра, или выражается в неорганизованной множественности, как у Агатона, так что и в этом случае нет определенного взгляда на дело, а только пестрая путаница, скрывающая свои противоречия за звонким переливом фраз. Наконец, в Аристофане нет ничего софистического ни по форме, ни по содержанию, но его речь не поднимается существенно выше уровня обыденного, софистически образованного сознания, и тем самым еще раз показывается, что он сам гораздо больше заслуживает того причисления к софистам, которым он наделил Сократа в «Облаках». Высокомерие и чванство – следствия этой кажущейся мудрости, совершенно противоположные должной скромности Сократа, который, обладая верным знанием, признает прежде всего свои собственные недостатки и потому облекает порицание других в благородную форму (см. ниже), тогда как высокомерный тон, который позволяют себе по отношению к нему Федр, p. 180 A., и Эриксимах, p. 187 A., неуместен даже там, где он в чем-то прав. Таким образом, в своих рассуждениях и рассуждениях они сразу же берут на вооружение обычный софистический арсенал.
Несмотря на то, что его стремление описать Эрос сначала по его сущности, а затем по его эффектам, безусловно, правильное, Федр сразу же впадает в обычную для панегириков ошибку, согласно которой уже предполагается определенный взгляд на объект даже там, где его сначала нужно было бы развить из-за многогранности объекта и, соответственно, возможных представлений о нем. Поэтому он подчеркивает только один аспект природы Эроса, который, как предполагается, делает его особенно почтенным, а именно его возраст, но при этом он не сразу отличает космическую, объединяющую и порождающую силу, действующую в физической природе, от инстинкта человеческой души, поскольку только последний имеется в виду в древних космогониях, на которые он сам ссылается. Он не заинтересован в том, чтобы из нескольких свидетельств делать только одно, искажать мифы и поэтические отрывки, особенно там, где дело приобретает довольно пикантный привкус, особенно в том, чтобы сделать Алкестис, то есть женскую половину, любящую часть, противоположной всему целительному сознанию, потому что это ему так подходит, см. с. 180 B. Кроме того, в связи с этим последним пунктом есть еще и тот невыносимый факт, что в предыдущем, более общем разделе его второй части, с. 178 C.-179 B., который только и может быть объяснен более подробно на примерах, начиная с Алкестиды, речь шла только о мужской любви. Различные части, виды и степени любви еще не были им разграничены, и именно этот смутный и неопределенный способ представления и высказывания позволяет ему не замечать противоречий, в которые он впадает. Единственное различие, которое он проводит, – это различие между любящим и любимым, субъектом и объектом, а то, что это различие несостоятельно в той форме, которую он установил, он доказывает не по своей воле, а по собственному осознанию. Ведь только в любящих, согласно с. 180 B., должна обитать любовь, и именно поэтому они должны стоять выше, только они должны быть способны к самопожертвованию, с. 179 B.; тем не менее любовь выражает себя и в других местах, с. 178 С. Е. 179 Е. ff., выражает равную действенность и в возлюбленных, тогда как опять-таки то, что касается государства и армии, абсолютно ограничено возлюбленными. Насколько, конечно, эти противоречия заключаются только в выражении, решать не приходится, так как с. 180 B. может означать и то, что возлюбленный является первоначалом, а не то, что он является исключительным местом пребывания Эроса, а с. 179 B. οι ερωντες может быть неопределенным выражением, включающим обе части. Наконец, мифологические примеры и поэтические цитаты перерастают фактическую концептуальную реализацию.
Скудость собственно базовой идеи о том, что добродетель – это дело любви, соответствующая. Помимо того, что более подробно рассматривается только самая заметная добродетель, а именно храбрость, добродетель еще не связана с любовью, потому что еще не признано, что истинная любовь в лице возлюбленной любит только то прекрасное и хорошее, что проявляется в ней самой. Только если бы это было установлено, вышеприведенное противопоставление объекта и субъекта любви имело бы свое основание, но тогда, если оставаться при личных отношениях, энтузиазм влюбленного все же мог бы быть выше и оригинальнее, но тогда, если бы возлюбленный, возлюбленная не была бы поставлена ниже. Этика и политика также не распадаются так внешне, как это происходит в случае использования любви к государству, на что здесь также было правильно указано, поскольку само государство является лишь более высокой реализацией доброго и прекрасного, чем индивидуальный любовник. Однако вместо того, чтобы преданность индивидууму была осознана и преданностью государству в целом, благо, объективно приходящееся на государство, остается непредусмотренным теми, кто его создает, и безразличным для них. В этой речи заложены семена всех последующих речей, которые развивают ее дальше, одновременно исправляя и углубляя,.188188
Об этой речи в целом см: M. Lindemann, De prima, quae in canoivio Platonico legitur, oratione, Dresden 1853. p. вместе с моей рецензией на эту работу, Jahns Jahrb. LXVII. P. 686 – 689.
[Закрыть]
Три противоположности, до сих пор скрытые в ней, – истинная, нравственная и ложная, духовная и чувственная, половая и мальчишеская любовь – теперь выступают у Павсания как таковые; Федр еще не говорил, что существует и безнравственная любовь. Но этот прогресс включает в себя и большой шаг назад, поскольку Павсаний объявляет все три понятия абсолютно синонимичными. В результате законная сторона чувственной любви, уже признанная Федром, а именно любовь к мужу, оказывается отброшенной под порицаемую, и именно по этой причине чувственность заявляет о своих правах там, где она скорее должна казаться порицаемой, а именно в якобы чистой любви к мужчинам. Вместо того чтобы полностью осудить такой популярный порок, как связь с мальчиками, Павсаний довольствуется тем, что объединяет его с духовным интересом и оправдывает его в такой форме. Эта речь полностью основана на рефлексии обыденного эллинского сознания, которое прикрывает свои пороки казуистикой, подобной той, что была у Павсания. Эта казуистика, о которой свидетельствует то, как он, превзойдя Федра, приспосабливает мифологию для своих целей, находит свой высший принцип в относительности всякой морали, которую он ставит во главу угла и которая состоит только в том, как ее исполнять. В этом есть и нечто правильное: любовь, как и любое другое действие, предстает, таким образом, как посредник между добром и злом, отдельно от своих мотивов, в то время как Федр все еще считал ее добром как таковым, а значит, ее носителя, влюбленного, стоящим выше возлюбленной. Но ошибка состоит в том, что способ исполнения рассматривается как случайное, внешнее и как бы послесловие действия и не обнаруживается скорее в ведущем мотиве и, таким образом, именно в действительной субстанциональности его189189
Diese Bemerkungen scbliessen sich an Steinhart a. a. O. IV. S. 223. 224.
[Закрыть], по отношению к любви, следовательно, в том, что возбуждает ее, т. е. в прекрасном и добром, в Афродите, которая является матерью Эроса. Точно так же, конечно, и различие между ложной и истинной любовью само по себе является лишь текучим, чисто количественным, p. 181B. 183 Е.; даже обычный Эрос и обычная Афродита остаются богами, тогда как двойного, противоположного вида красоты не существует, и, следовательно, ложный Эрос не заслуживает имени Эроса, а лишь его иллюзии. Но Павсаний все же возвышается в этом отношении над Федром, у которого вообще не упоминается причина любви190190
Lindemann a. a. O. S. 33.
[Закрыть]. – В мотиве, кроме того, обязательно присутствует и цель, и, как и последняя, она тоже, помимо намерения получить неестественное чувственное удовольствие, остается для влюбленного совершенно неясной; с одной стороны, это имманентная цель, неразрывно связанная с природой дела, а именно удовлетворение самого инстинкта, преданность красоте души возлюбленной; но более глубокая цель этой преданности сама по себе остается неясной. Не упоминается о том, что за красотой души, как за более глубоким объектом, скрывается сама первозданная красота, хотя эта цель может быть, по крайней мере, инициирована через разделение чувственной и духовной красоты и возвышение последней.
Более того, даже предполагается, что влюбленный уже обладает знанием прекрасного и доброго, ибо для того, чтобы получить его от него, возлюбленный отдает ему себя; его собственная цель, следовательно, не может быть» чтобы достичь его самому сначала через любовь, и поэтому его духовная преданность в действительности скорее растворяется в тщетном притворстве, и остается только чувственное удовольствие. Здесь, как и в «Федре», любовь к человеку и любовь к вещи, то есть к мудрости и добродетели, идут рука об руку, но первая, по сути, достается только влюбленному, тогда как возлюбленный руководствуется второй, и поэтому любви в строгом смысле слова в нем вообще нет. Но именно поэтому ему и не хватает истинного энтузиазма; его стремление к мудрости – это скорее внешнее отражение, его успех – это, следовательно, не истинное знание, а лишь внешнее формирование интеллекта, а истинную добродетель невозможно купить пороком, а именно принесением себя в жертву чувственной похоти возлюбленного. В связи с этим и здесь, как в «Федре», выгода, которую государство получает от любви, остается чисто внешним эффектом; скорее, согласно своим внутренним мотивам, и влюбленный, и возлюбленная просто предаются эгоизму, и только в этом Павсаний идет дальше, показывая, как, наоборот, различные политические жизни народов также влияют на то, как по-разному они организуют свои любовные отношения. Таким образом, для него этика и политика находятся во внутренней взаимосвязи, по крайней мере, с одной из двух сторон. В этом отношении Павсаний, как и Федр, подчеркивает храбрость и мужественность, порождаемые любовью, и точно так же оправдывает их. Шаг вперед заключается в том, что после всего вышесказанного он также выделяет среди добродетелей мудрость, но стойкость остается без какой-либо внутренней связи с ней, тогда как правильный поступок признается только тогда, когда все остальные добродетели вытекают из него. Нечистая природа его любви к Агатону, см. с. 193 B. Из этих его высказываний можно сделать вывод о нечистом характере его любви к Агафону; это также служит для возвеличивания Сократа за счет последнего. Тем не менее, Павсаний на самом деле не плохой человек – ведь тогда его дружеское общение с ним бросало бы тень и на Сократа – а сам попался на обман, в который он пытается ввести других.
V. Речь ЭриксимахаНо важный зародыш мысли в речи Федра был полностью проигнорирован Павсанием, а именно космический Эрос, и именно к нему вначале обращается Эриксимах 555). Однако только при таком посредничестве психического и физического возможно восходящее представление о различных уровнях любви от низшего к высшему, которое дает Сократ, поскольку только так можно описать весь объем любви, В то время как сам Эриксимах, конечно, совсем не ясно представляет себе различия любви в зависимости от различных ступеней бытия, на которых она проявляется, а именно: неразумной природы и человеческой жизни, а внутри последней опять-таки тела и души, и поэтому часто перебрасывает разные точки зрения друг через друга. Но то, что является предпосылкой этих более тонких различий, проникновение в общую природу Эроса, тоже становится возможным только при расширении созерцания на всю область бытия, и это действительно достигается Эриксимахом, поскольку единый и правильный взгляд на природу любви проходит через все его рассуждения, тогда как у Павсания ее цель и мотивы все еще отбрасываются в ложном свете или туманном полусвете, а ее последствия остаются внешними по отношению к ней. Но это ни в коем случае не осознается и не выражается как таковое, отсутствие тщательной методологии более заметно, чем у предшественников, общее перетекает в массу эмпирических деталей, и поэтому частное не получает должного освещения от общего, оба остаются смутными и неопределенными, и отсюда возникает именно та слабость, которая критиковалась выше. Прежде всего мы видим, что любовь проистекает из недостатка, из потребности в дополнении, и что, с другой стороны, в ней заключена сила, позволяющая получить это дополнение, – два момента, которые Сократ более подробно подчеркивает ниже. Более того, эта потребность прямо объясняется природой противоположности, а точнее, прослеживается в односторонности каждой противоположности, удерживаемой для себя в качестве конечной формы, которая обязательно требует дополнения противоположностью, а значит, и союза с ней. Но этот союз является истинным дополнением только в том случае, если он предстает как гармоничный, ибо только так он может быть сохранен; в противном случае, однако, он аннулирует свои собственные предпосылки пагубным и разрушительным образом. Следовательно, любовь должна не только дополнять себя противоположностью, но и в этом дополнении отделять от себя то, что выходит за пределы гармонии, и Эриксимах это прямо признает, но в своем рассмотрении эмпирического и индивидуального он с уверенностью рассматривает это только в случае человеческого тела, и таким образом, не обобщая, он исходит из того, что присвоение и устранение, или, другими словами, создание и распад, – это именно та фундаментальная оппозиция, которая должна быть приведена в гармонию прежде всех других и затем уже включает в себя гармонию всех других.
Таким образом, уже здесь общее и особенное не связаны между собой, или, по крайней мере, их связь остается неясной. Из этого вытекают все дальнейшие недостатки. Прежде всего, это мешает ему вернуться глубже к общей объективной основе всех этих явлений, а именно к вопросу о том, почему противоположности всегда должны сначала гармонически соединяться, а не соединяются уже сейчас, на который ответ можно было бы найти в гераклитовом потоке всех явлений, как материальных, так и духовных. Правда, Эриксимах чувствует, что он движется по этой почве; он ссылается именно на фактическое основное положение Гераклита, что единство мира как целого всегда расходится и сходится в один и тот же момент, подобно соединению лиры и лука, p. 187 A.; Но вместо того, чтобы принять это общее положение также в целом и представить его как окончательное основание своих рассуждений, он, очевидно, побуждается только приложенным уподоблением лиры, чтобы упомянуть его по случаю музыки, и вместо того, чтобы утверждать ограничение, под которым он признает это положение, как его исправление, В самом «Гераклите» он уже объясняет его ложно и лишь неприлично высокомерно жалуется на выражение, которое, конечно, не соответствует тому смыслу, который он в него вкладывает, но вполне подходит для настоящего смысла. образом. Но даже его модификация этого выражения сама по себе может быть названа платонической лишь в условном смысле. Однако возникновение и исчезновение не должны совпадать в один и тот же момент, ибо тогда, как уже показал Theaetetus, p.282f., не было бы даже возникновения. Напротив, гармония образует нейтральную точку между слиянием и расхождением противоположностей. Но если перенести саму эту точку во время, а не над временем, то, как видно из Парменида (см. выше, с.347f.), мы лишь меняем односторонний взгляд на другой, например, Гераклита на Эмпедокла. Чисто эмпирическая позиция Эриксимаха не позволяет ему ясно видеть это, и поэтому он фактически уплощает это глубокое утверждение, полностью отбрасывая то правильное и принципиальное в нем, с чем полностью согласен Платон, а именно то, что само первозданное бытие, разделяясь на противоположности и воссоединяя их, только в истине представляет себя как живое единство. Скорее, он довольствуется тем, что гармония приходит только после противоположностей; но его не волнует, что именно порождает противоположности и гармонию из них).
Более того, он неправильно понимает Гераклита191191
Hiernach hätte ich Steinhart а. а. О. IV. 8.229 u. 343. Anm. 42 wenigstens nicht so unbedingt beistimmen sollen, als es Jahn’s Jahrb. LXX. S. 37 geschehen ist.
[Закрыть], будто тот имел в виду гармонию высоких и низких тонов в αρμονια лиры, чего, по крайней мере, изначально быть не может. Скорее, Гераклит, очевидно, думает о натяжении и ослаблении тетивы лука и струн лиры, благодаря которым оба предмета сначала приобретают свою реальную жизненную форму стреляющего лука и звучащей лиры, и лишь во вторую очередь он мог иметь в виду, что музыкальная гармония в узком смысле слова также основана на этом «соединении», если снова рассмотреть взаимные отношения в натяжении и ослаблении различных струн. Если кажется, что в этом образе есть противоречие, что напряжение символизирует сближение, а не раздвижение, то на самом деле это только видимость, ведь не только мы используем выражения «напряжение противоположностей» и «раздвижение» как синонимы, но для Гераклита разделение на самом деле было процессом конденсации, спуском из огня на землю, как и его ближайший предшественник среди ионийцев Анаксимен, очевидно, описывал разведение с помощью того же образа уменьшающегося (χαλαρον)192192
Plut de prim. frig, VII p. 947 – Объяснение вышеприведенного отрывка следует Цезарю, Zeitschr. f. d. Altertb. 1847. pp. 32—35, с некоторыми отклонениями. Более ранние взгляды были так убедительно опровергнуты G ladisch ibid. 1840. pp. 966 – 974, что можно не сомневаться, что Стальхаим повторит свое неизменное в 3-м издании. С другой стороны, G lad i seh l.c. p. 969 cf. 971 очень ошибочно, если Сталлбаум видит нечто софистическое в таком употреблении Ираклеитоса Эриксимахом; его полемика выходит совершенно так, как если бы Сталлбаум также читал ωσπερ αρμονιαν του οξεος τε χαι βαρεος, который G ladisch с Bast, Kritischer Versuch über den Text des platonischen Gastmahls, Leipzig 1794. s. p. 41 f. и вновь отстаивается в том же журнале 1848. p. 217 ff. Однако даже в этом случае, согласно нашим вышеприведенным разработкам, софистика останется, и будет опущено только последнее недоразумение оратора. Кстати, мы не отрицаем, что это изменение имеет хороший смысл, но предполагаемые противоречия традиционного чтения духу гераклитовской доктрины также разрешаются тем, что мы отметили в тексте, и поэтому решение остается полностью за соображениями дипломатической критики, которые убедительно объяснил Цезарь, l.c., pp. 30 f.
[Закрыть].
Во-вторых, однако, отсутствие методических различий приводит к тому, что Эриксимах описывает лишь сохраняющую и воспроизводящую силу Эроса, но не порождающую и совершенно новую, тогда как уже в индивидуальном организме, в отношении познания, речь идет не просто о воспроизведении забытого, но о реальном дальнейшем развитии. Однако даже там, где он не остается только в рамках природы или взаимных отношений частей отдельного индивида, он меньше всего имеет в виду именно любовь мужчин к юношам или мужей друг к другу, а скорее любовь родственников, детей и родителей, как бы ни были развиты эти отношения, и, наконец, любовь между людьми и богами. Последний пункт очень важен, это действительно вершина любви, но Эриксимаху также не хватает имманентной связи с основным взглядом, и поэтому характерно, что он допускает сюда мантику как искусство управления, а не философию; сам он везде останавливается на простой мудрости видения и правильной интуиции. Действительно, это огромное достижение, что он сначала отделяет следующий объект любви, дополнительный контраст, от конечной цели и задачи любви, или гармонии, и тем самым ставит их во внутреннюю взаимосвязь. Для него также очевидно, что гармония – это сохранение, спасение, одним словом, благо в самом широком смысле; любовь, таким образом, – это мощное стремление к благу, и во всем этом контексте уже содержится, только еще не выраженное, поскольку присвоение противоположного связано с устранением странного, что только благо является истинно должным. Но поскольку благо даже не выражено как таковое, еще менее возможно осознать, что в конечном счете оно есть не что иное, как само божественное. Точно так же и искусство остается внешним по отношению к любви: вместо того чтобы последняя порождала все знания и все искусства, все основные человеческие усилия в целом, она, напротив, порождается в одном отношении искусством врачевания, а в другом – культивируется мантикой. Сам Эрос скорее должен утверждаться не только как даритель всех благ, но и в силу своей выделительной силы как целитель всех зол. Наконец, переходы от природы к человеческой жизни лишь очень неадекватно опосредованы, поскольку негармоничная смесь погоды одновременно влияет и на человеческое тело, а математическая гармония, заключенная в тональных отношениях, уже рассмотренная сама по себе, в то же время способна на совершенно иное этическое применение по отношению к любви людей к музыке.
Однако в этом случае вдруг становится совершенно ясно, что удовлетворение любви как желания обязательно связано с удовольствием и что любовь, таким образом, направлена не только на благо, но и на желаемое. Последнее теперь следовало бы просто ограничить рамками, в которых оно совпадает с благом. Но вместо этого Эриксимах снова механически разделяет эти два понятия с самого начала, и так как оправдание удовольствия не может быть полностью отброшено, он сохраняет двойной эрос Павсания, давая одному направление на благо, а другому – на приятное, после того как он ранее, именно начав с искусства врачевания, уже представил общий эрос как глубоко болезненный и тем самым заложил наилучшую основу для его полного устранения. Точно так же разработки Эриксимаха создают предпосылки для ликвидации ложного противопоставления любящего и любимого, ибо противоположности взаимно нуждаются друг в друге.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































