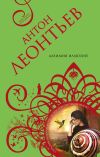Текст книги "Страсти людские. Сборник любовных историй"

Автор книги: Геннадий Мурзин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Ошиблись номером, сэр
Английский клуб. Вечер. Оркестр исполняет Бетховена.
За одним из столиков, развалившись в удобных мягких креслах, сидят лорд Чарльз Уотсон и лорд Генри Вильсон. Они заглянули сюда после заседания палаты лордов, где был обсужден и одобрен новый законопроект. Они медленно и с наслаждением потягивают шотландский виски, курят гаванские сигары и беседуют.
Обсудив проблемы мировой политики, решительно осудив лейбористское правительство Тони Блэра за необдуманные шаги, предпринятые в отношении Ирака и союзнических отношений с янки, высказавшись по поводу скачка вверх мировых цен на нефть и неоправданно высокого курса европейской валюты по отношению к доллару, сменили тему, вознамерившись поговорить о чем-либо более легком и приятном для обоих собеседников. Такая тема нашлась быстро – леди и их джентльмены.
– Сэр, – обращается Чарльз Уотсон к своему собеседнику, – слух по Лондону гуляет, будто вы завели интрижку с молодой женой министра финансов. Это так?
Выпустив кольца густого дыма и подняв вверх глаза, сэр Генри Вильсон с видимым удовольствием заметил:
– Премилая, доложу вам, леди… Необычайно утонченная… Много читает… Глубоко разбирается в современных музыкальных веяниях.
– И только-то? – по лицу сэра Чарльза Уотсона пробежала презрительная ухмылка, задержавшись дольше обычного в уголках тонких губ. – И это все ее достоинства?
– Что вы, сэр! У леди Виктории немало и иных достоинств…
– Не соблаговолите ли назвать их?
– Ласковая и чуткая…
– Только к вам или ко всем мужчинам подряд? – съязвил сэр Чарльз.
Тон, каким был задан вопрос, не понравился сэру Генри. Сделав пару глотков виски, он заметил:
– Прошу, сэр, избавить мою леди от грязных намеков.
Сэр Чарльз, положив свою холеную ладонь на руку собеседника, сказал:
– Прошу прощения, сэр. Однако, сэр, вам не следует забывать: леди, что кошка; кто погладил, к тому и льнет.
– К леди Виктории это не относится.
– Сэр, вам сильно повезло.
Сэр Генри встал.
– Позвольте откланяться. Спешу, знаете ли.
– Уж не к леди ли Виктории? – поинтересовался сэр Чарльз.
Сэр Генри улыбнулся, предвкушая предстоящее свидание.
– Почему бы и нет?
Он кладет на стол пять фунтов, раскланивается и уходит.
Сэр Чарльз смотрит ему в след и бурчит себе под нос:
– Хороша киска досталась этому идиоту, – он смотрит на часы, что над стойкой бара, и добавляет. – Допью свой виски и также… – он хмыкает. – Моя – не хуже. Кстати…
Сэр Чарльз встает, подходит к телефону, что возле бармена (он из принципиальных соображений не пользуется мобильником, считая его плебейской штучкой) набирает номер. С минуту никто не отвечает. Сэр Чарльз терпеливо ждет. Наконец…
– У телефона, сэр…
– Сходите и посмотрите, что сейчас делает моя жена, – просит дворецкого сэр Чарльз Уотсон.
– Я и так знаю, сэр.
– Она занята?
– Да, сэр.
– Чем же?
– Любовными играми, сэр.
– Где?
– В своей постели, сэр.
– С кем же? – строго спрашивает сэр Чарльз.
– Они не представились, сэр.
– Они?! Что это значит?
– Леди Диана забавляется сразу с несколькими джентльменами.
Сэр Чарльз чешет затылок, потом приглаживает редеющие волосы, поправляет бабочку, одергивает фрак и решительно говорит дворецкому:
– Пойдите в мой кабинет, возьмите из письменного стола пистолет и убейте…
– Что? Всех!? – дворецкий, кажется, чуть-чуть обескуражен распоряжением сэра Чарльза.
– Разумеется.
– Слушаюсь, сэр.
Лорд просит дворецкого:
– Не кладите трубку. Исполните. Вернетесь. Доложите. Я буду ждать.
– Будет сделано, сэр.
Дворецкий уходит.
Лорд Чарльз Уотсон слышит сначала один выстрел, через несколько секунд следует звук второго выстрела, еще через пять секунд доносится до сэра Чарльза третий пистолетный выстрел. Минуты две стоит тишина. И слышен глухой отдаленный хлопок.
Записав на салфетке число предполагаемых выстрелов, сэр Чарльз Уотсон удовлетворенно хмыкает:
– Если не ошибаюсь, всех! Отличная работа! Дворецкий заслуживает награды.
Возвращается дворецкий и докладывает, подтверждая догадки сэра Чарльза:
– Все в порядке, милорд.
– Без осложнений? – интересуется сэр Чарльз.
– Да, сэр. Двух джентльменов уложил прямо в постели.
– А леди Диану?
– Там же, сэр!
– А что с третьим джентльменом?
– Он, сэр, оказался достаточно вертким. Джентльмен попытался улизнуть. Пришлось побегать по дворцу.
– И что?
– Но я его догнал, сэр.
– Где именно?
– В оранжерее, сэр.
– В какой еще «оранжерее»?! – возмущенно спрашивает сэр Чарльз Уотсон.
– В обыкновенной, сэр… В вашей, сэр… Труп джентльмена все еще лежит среди ваших любимых орхидей.
– Но у меня нет никакой оранжереи!
– Есть, сэр.
– Но я терпеть не могу орхидеи!
Пауза. Дворецкий невозмутим. Он спокойно интересуется:
– А вы, сэр, какой номер набрали?
– Двести пятьдесят три… пятьдесят два… сорок пять.
– Но вы, сэр, ошиблись номером, – говорит дворецкий.
– Не мог я ошибиться, – возражает сэр Чарльз Уотсон.
– Не могли, сэр, однако, сэр, ошиблись… Вы набрали двести пятьдесят четыре… пятьдесят два… сорок пять. – Дворецкий невозмутимо советует. – В следующий раз, милорд, при наборе номера будьте повнимательнее.
Кобелина
Сергей Иванович Удалов, заместитель редактора районной газеты, торопился на совещание, когда в кабинет вошла молодая женщина.
– Вы – Удалов, не так ли? – спросила она и тут же, не ожидая приглашения, присела на один из стульев.
– К вашим услугам, – несколько старомодно ответил тот.
– Я – по очень-очень важному делу.
– Именно ко мне? Может, устроит любой другой сотрудник редакции?
– Нет-нет! – воскликнула женщина и стала лихорадочно рыться в небольшой сумочке. – Только вы и никто больше.
– Но… Я приглашен… И меня ждут в другом месте.
– Ничего страшного, – сказала женщина. – Я – подожду здесь, если позволите.
– Но ждать придется, как минимум, три часа.
– Ах, так? – она посмотрела на миниатюрные наручные часики в золотом корпусе. – Сейчас – без четверти двенадцать. У вас буду ровно без четверти три.
Женщина встала и, не прощаясь, вышла.
Освободился Удалов несколько раньше, чем предполагал. Но женщина пришла тютелька в тютельку. Как и прежде, не ожидая приглашения, точнее, опережая его, присела на тот же стул. В руках у нее была какая-то вчетверо свернутая бумажка.
– Я – по очень-очень важному делу, – повторила она.
В те советские времена к посетителям относились уважительно, поэтому, несмотря на неотложные дела (кажется, должен был вычитывать полосы очередного номера), заместителю редактора ничего другого не оставалось, как сказать:
– Слушаю.
– Я, если позволите, представлюсь: Клавдия Сергеевна Каргополова, – после короткой паузы уточнила. – Законная супруга главного врача центральной районной больницы, – и пытливо глядя мне в глаза, спросила. – Знаете его, не так ли?
– Не раз встречался, – подтвердил Удалов.
– И какого о нем мнения, если не секрет?
Удалов замялся, так как не знал, что и как сказать, поэтому отделался общими словами.
– На мой взгляд, прекрасный специалист… Дело свое знает… Толковый руководитель.
Женщина усмехнулась, что не осталось незамеченным со стороны опытного журналиста.
– А еще, не забывайте об этом, – партийный активист, член райкома.
– Именно так, Клавдия Сергеевна.
Женщина вновь усмехнулась. Как показалось Удалову, чрезвычайно презрительно.
– Но вы его знаете лишь с этих сторон, а я знаю изнанку, его истинную сущность, то есть оборотную сторону.
– Простите, я не понимаю, что вы хотите этим сказать?
– А то, что, ко всему прочему, он потаскун, бабник, распутник, каких свет не видывал, – совершенно ровным голосом произнесла посетительница.
Удалов растерялся окончательно.
– Вы… В чем-то подозреваете мужа?
– Не «в чем-то», а конкретно – в измене.
– И… У вас, Клавдия Сергеевна, есть доказательства?
– Само собой… С пустыми руками к вам не пойду. Вот, прочтите сами, – она развернула и положила на стол лист бумаги.
Удалов не горел желанием читать, как он догадывался, нечто личное, поэтому попробовал отбояриться.
– Клавдия Сергеевна, это, наверное, что-то семейное и мне, как журналисту…
Женщина решительно пресекла.
– Я лучше вас знаю, что личное, а что общественное; что следует хранить в секрете, а что надо безжалостно раскрывать, чтобы общественность знала, кто такой на самом деле этот самый Каргополов.
Журналист предпринял последнюю попытку, посоветовав:
– А не лучше ли вам с этим, – он тронул пальцем бумажный лист, – пойти к первому секретарю райкома партии?
– Не нуждаюсь ни в чьих советах, – строго произнесла женщина, и губы вновь скривились в ухмылке. – Не дура я. Пошла бы… Но знаю, что там отмажут, – и с еще большей ядовитостью в голосе добавила, – партийного активиста в обиду не дадут.
– Откуда у вас подобные предубеждения?
– У меня? Только ли у меня? Разве вы иначе считаете, только честно, Сергей Иванович?
– Но… Простите…
– Можете не отвечать. Вам не позволяет партийная дисциплина.
– Все-таки, Клавдия Сергеевна…
Удалов стал отодвигать от себя бумагу. Маневр женщина тотчас же заметила и отреагировала.
– Э, нет! Вы – прочтите. Иначе, от меня не отвяжетесь.
Удалов вздохнул и пробежал первую строчку, отметив про себя, что почерк четкий, то есть женский, а не какие-то там мужские каракули: «Приветик, любимый мой котеночек!»
Тут Клавдия Сергеевна громко расхохоталась.
– Вот, сучка, а? Нашла котеночка, когда это по-настоящему породистый тигр, готовый оплодотворять кого угодно!
Пришлось-таки Удалову письмо дочитать до конца. Он спросил:
– Откуда у вас это письмо? Может, фальшивка, подброшенная кем-то из завистников?
Все вопросы отпали, когда Клавдия Сергеевна рассказала всю историю.
…Неделю назад жене на глаза попала рубашка с коротким рукавом, брошенная в угол гостиной. Как пояснила, муж только на работе страшный аккуратист, а дома настоящий неряха: разбрасывает по квартире все, в том числе рубашки, брюки, носки и даже свои любимые шлепки, и следить за ним не успевает. Подняла рубашку и решила бросить в корзину, чтобы потом постирать. Привычно сунула пальцы в карман, чтобы проверить, нет ли там денег или каких-то документов. Однажды, не просмотрев, выстирала паспорт. После этого следит строго. Жена вытащила бумагу, развернула и прочитала. Это было как раз то самое письмо, что сейчас лежит перед заместителем главного редактора. Вечером жена устроила мужу допрос с пристрастием. И муж? Признался, как на духу. Более того, назвал героиню курортного романа, ее адрес и домашний телефон.
Клавдия Сергеевна, придя в бешенство, тут же позвонила сопернице и та, ничуть не смущаясь (оказалась разведенкой), подтвердила, что была в Ялте вместе с ее мужем и там двадцать дней прожили душа в душу, что даже он, то есть ее любовник, выказывал намерение развестись с Клавдией Сергеевной и жениться на ней.
Теперь Клавдия Сергеевна жаждет мести. На работу соперницы написала соответствующее письмо, попросив открыть персональное дело распутной разлучницы. А в отношении мужа она требует написать статью в газете, чтобы народ знал, насколько гадок ее муж. Правда, разводиться с ним не желает.
Удалов, покачав головой, спросил:
– Как жить будете, если газета выступит?
– Нормально будем жить. Получит встряску и угомонится, кобелина. А мне только это и надо… Люблю гадёныша…
– Хм… С любимыми так не обходятся, – заметил журналист.
– А как иначе, если страшно потерять? Любовь – вещь жестокая и она может толкнуть и не на такое.
Была или нет в газете статья? Скорее всего, нет. Ну, кто же мог позволить такое написать о члене райкома КПСС?
Неотправленное письмо
Загадочная моя!
«Уж я не тот любовник страстный
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.
Амур, бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!»
Эти великие строки великого гения России почему-то всплыли в памяти именно сейчас, в эту минуту, когда раннее утро, когда за стеклом трамвайного окна пуржит и воет, а люди-одиночки на остановках ёжатся от колючей снежной пыли, проникающей за воротники.
Еще далеко до часа пик. В трамвае немноголюдно и тихо. И кондуктор, как во сне, как тень мелькает между кресел и не кричит беспрестанно под ухом, напоминая «зайчикам» о необходимости оплатить проезд.
Прикрываю глаза. Нет, не потому, что и меня захватывает всеобщая утренняя дрёма, а исключительно потому, что так думается лучше, поскольку взгляд не рассеян по сторонам, а устремлен вглубь самого себя.
Неспокойна была ночь. Всё сны да сны. И всё разные. Неспокойные сны. Сны, бередящие сердце. А в три ночи и вовсе проснулся и больше не сомкнул глаз. Все старания ни к чему не привели. Не помог и испытанный метод – монотонный счет до ста. И счет до тысячи дал тот же результат.
И вот в столь ранний час, когда на линию вышли лишь первые трамваи, еду на работу. Зачем? Что гонит меня? Что-нибудь неотложное? Вроде, нет. Да, конечно, работа есть, работы много… Как всегда. Не стану зевать от скуки. Найду, чем заняться даже в эти утренние часы, когда интеллигенция досматривает свои сладкие последние сны.
Выхожу на своей остановке. Спускаюсь в подземный переход, прохожу несколько десятков метров, поднимаюсь по скользким ступеням наверх, поворачиваю направо и передо мной – величественное серое здание (детище талантливого уральского архитектора Бовыкина, здание, находящееся под охраной государства; еще один памятник архитектуры, того же автора, является украшением главного городского проспекта и там сейчас размещается штаб Уральского военного округа), смотрящее на меня многочисленными темными окнами-глазницами. И лишь слева, на втором этаже, светятся два окна – это оперативные службы, несущие свою вахту круглосуточно.
Поднимаюсь по широким мраморным ступеням, берусь за бронзовые ручки двери (они столь же величественны, как и само здание), открываю и вхожу. Огромный холл, ни души, а днем здесь бывает довольно людно и шумно.
Впереди – опять же мраморные ступени и «вертушка», охраняемая вахтером.
Вахтер встречает меня стоя. Он приветствует, вытянувшись, по-военному:
«Здравия желаю, Григорий Ильич!»
Это – старорежимная привычка у вахтера. Он уважает начальство уж за одно то, что это начальство. Приучили. Вахтеру семьдесят, но выглядит молодцом. И форма на нем сидит ладно.
«Доброе утро, Петр Васильевич!» – отвечаю ему также приветствием.
Останина знаю давно. И он меня знает. Знает, как начальство. На мой взгляд, не Бог весть какое, но, по его мнению, большое начальство. Таких здесь много: куда ни плюнь, а попадешь в важное начальство.
Чуть-чуть наклонившись в мою сторону, Останин спрашивает:
«Что-то раненько, Григорий Ильич?»
«Рано – не поздно», – отшутился я.
Останин улыбнулся.
«Тут вы, Григорий Ильич, очень даже правы».
«А что, Петр Васильевич, – спрашиваю я, – САМ-то, пожалуй, на службе?»
«САМ» – это сам, то есть Самый Авторитетный Мужик в сём ведомстве, иначе говоря ШЕФ, которого все подчиненные боятся (за крутизну нрава), как огня, но Останин не столько боится, сколько глубоко уважает.
Извини, загадочная моя, что и в этом письме все время сбиваюсь на детали, которые не имеют к нам никакого отношения. Но без них, то есть без деталей, не могу никак.
Останин тихо, хотя нас и без того вряд ли может кто-либо услышать в столь ранний час, отвечает:
«Никак нет, Григорий Ильич: нету его».
«Что так?» – интересуюсь я, так как уверен, что Петр Васильевич знает о причине «опоздания» грозного шефа.
«Мотается…»
«Да?..»
«Шмон» наводит, – я улыбаюсь, так как это жаргонное словечко, употребленное не со всем к месту, мне подняло настроение. Останин, явно сочувствуя кому-то, вздыхает. – Ой, достанется ребятушкам, как достанется. «САМ» зря не ездит… Ух, глаз у него как востёр, как востёр! Всё подмечает, ну всё!»
Останин о шефе может говорить часами. Нужен лишь благодарный слушатель.
«Уж это как водится», – говорю я и направляюсь в сторону широченной мраморной лестницы, ведущей на второй этаж.
Останин уж в спину мне говорит:
«Хорошей службы, Григорий Ильич!»
«И вам, Петр Васильевич».
Удаляясь, слышу последние слова вахтера:
«Через два часа – сменяюсь. Да, – громко кричит вахтер, и голос его гулко отдается в пустых коридорах, – Григорий Ильич, вопросец есть. Я могу к вам подойти, а?»
Останавливаюсь на лестничной площадке. Поворачиваюсь к нему лицом.
«Разумеется, заходите».
«Спасибочко, добрый человек. Большое начальство, а церемоний – ни-ни!»
Поднимаюсь на третий этаж. На лице – ухмылка. И мысленно говорю: знаю ваш, Петр Васильевич, «вопросец» заранее. Не иначе, как опять заведете речь про политику и станете костерить «дерьмократов, ведущих великую страну к развалу».
Прихожу к себе. Включаю свет. Смотрю в окно, во двор, обрамленный со всех сторон стенами. Во двор не проникают холодные ветры, и потому создается микроклимат, который благоприятствует произрастанию лип. Таких мощных и кудрявых лип в городе нет нигде: гибнут. Здесь живут и здравствуют. Тоже ведь задумка архитектора.
Включаю чайник, достаю кофейный прибор. Тревожно как-то на душе. Выпью пару чашечек, думаю я, кофейку и сразу полегчает. Не иначе, как бессонная ночь сказывается.
Пью кофе маленькими глоточками. Смотрю в лежащие передо мной документы, пытаюсь, читая, вникнуть – не получается. Что со мной происходит? Кто мне ответит? Некому ответить. Тишина. Даже в бесконечных коридорах за стенкой – ни звука.
Смотрю на вечно подмигивающие зеленоватым глазом электронные часы: четверть восьмого. Вот-вот и здание наполнится тысячами звуков и голосов. Начнется день. Начнется жизнь. И мне не будет так одиноко, как сейчас. Мне не придется скучать: одолеют старые проблемы, свалятся и новые. Без этого не бывает.
Снова мой глаз косится на часы: прошло еще двадцать минут. Такое ощущение, будто чего-то жду. Но чего?!
Встаю и начинаю ходить по кабинету, нервно теребя полу пиджака.
В коридоре началась жизнь: слышатся приглушенные разговоры и постукивания женских каблуков.
Зазвонил телефон. Вздрагиваю от неожиданности. Мне кажется, что у телефона голос сегодня непривычно звонкий. Глаз непроизвольно смотрит на часы: без четверти восемь. Кто это? Если по работе, то рановато: все знают, что мы работу начинаем в девять.
Телефон продолжает настойчиво трезвонить. Я, нехотя, подхожу к аппарату, снимаю трубку.
«У телефона…»
Ты мне не даешь закончить. Да-да, это ты!?
«Доброе утро, милый, – тихо говоришь ты. Вслушиваюсь в интонацию и нахожу, что голос непривычен тебе. К тому же «милый» – слово редко звучало в прежние времена, а сегодня – тем более неожиданное.
«Здравствуй, – стараясь показаться равнодушным, отвечаю. – Ты откуда звонишь?»
«Поздравь меня, милый!»
«Интересно, с чем? Скажи – поздравлю».
«С дочерью!» – выкрикиваешь ты и заливаешься безудержно счастливым смехом.
«Ты… ты… не шутишь?»
«Ничего себе, шутка, – ты продолжаешь смеяться. – Шутка-то – красавица! Вся в…»
«В Максика хочешь сказать?»
«Не-е-е-ет!
«А-а-а… Это хорошо, что в тебя… Поздравляю!.. Я рад… Теперь есть у тебя все, что ты хотела, о чем мечтала».
«Постой-постой… Я чего-то не понимаю… Не слышу в голосе подлинной радости».
Поспешил разуверить:
«Рад… Очень рад за тебя… Но это не моя радость, а могла быть и моей…»
«Снова за свое!» – восклицаешь ты, но без привычной злости.
«Желаю, чтобы девочка росла здоровой…»
«О, она будет здоровой! Девочка-богатырь! Знаешь, сколько весит?! Три пятьсот!»
Моя дочь, отмечаю сразу я, родилась когда-то с таким же весом. Спрашиваю:
«Как прошли роды? Тяжело?»
«Нор-маль-но! – кричишь ты в трубку. – Все позади. Женщина, что кошка…»
«Рад за тебя. Как назовешь? Решила?»
«Давно! Марина… Моя Маринушка!»
«Хорошее имя, – говорю я и тут в трубке слышу какие-то женские голоса, стук каблуков. Насторожился. – А откуда это звонишь?»
Ты снова заразительно смеешься.
«Как это „откуда“? Оттуда, откуда надо».
«Ты хочешь сказать, что…»
«В роддоме я… Вчера в десять вечера уехала, а в три ночи все и началось. Через три часа опросталась, Маришка издала первый свой писк».
«Господи! – в ужасе восклицаю я. – Что ты делаешь?! Только-только и… уже на ногах!?»
«Ничего, – беззаботно отвечаешь ты, – все уже в порядке».
«Тебе надо лежать».
«Кто это сказал? Покой мне только снится».
«Максик знает? Позвонила?»
«Нет. Тебе – первому. Так положено. Любимый шеф эту новость должен был узнать первым», – мне почудилось, что слово «шеф» ты произнесла с нажимом, пытаясь мне на что-то намекнуть.
«Благодарю за доверие. Но… Меня могло и не оказаться на работе».
«Я верила. Я знала, что первым после родов услышу твой голос, только твой… Не считая, конечно, Маришкин писк».
«Покормила девочку?»
«Да! Налопалась! Уцепилась в грудь, как клещ».
«Молока достаточно?»
«На двоих».
«Рад, очень рад», – повторил я.
«Как на работе?» – спросила ты.
«Забудь про работу, ясно?»
«Как это?»
«Сейчас у тебя должна быть одна забота и главная – материнство. Остальное – пустяки».
«Да уж… Подвела я тебя… Сильно подставила… Прости, ладно?»
«Прекрати нести околесицу!» – прикрикнул на тебя, на только-только, как ты выразилась, опроставшуюся молодую женщину.
«Если искренен, то ладно… До следующего сеанса связи».
«Мне прийти? Что-нибудь принести?»
«Нет-нет! Ни в коем случае!»
Ты положила трубку.
Все! Не могу дальше писать… Нужна пауза… Слишком сильны и свежи воспоминания… Продолжу, если на то будет воля Господа… Пусть улягутся чувства.
* * *
…Прошло полгода. Марина растет. Самостоятельно сидит и даже, цепляясь сильными ручонками за перильца кроватки, пробует самостоятельно встать на ноги. Иногда это ей удается. Действительно, красавица. И хохотунья. Улыбка не сходит с ее очаровательной мордашечки. Криклива не по возрасту, нетерпелива, требовательна. Баловница, одним словом, растет. Мать на нее не надышится. Мать бесконечно счастлива. Есть с чего!
А я? Мне очень тяжело. Смотрю на девочку и пытаюсь в ней что-то разглядеть. Что именно? Не знаю.
Господи, какой лицемер! Сам себя пытаюсь обмануть. Знаю я, знаю, что ищу! Ищу в ней знакомые мне признаки. Исследования ни к чему не приводят. Да и мала девочка еще. Хотя… Уже сейчас многие (я – в их числе) подмечают: девочка не в отца и, по большому счету, не в мать. Если так, то в кого?! Кто истинный отец ребенка?
Можно ведь так-то и умом тронуться. Есть симптомы…
…Чуть меньше трех лет назад уже занимался этими арифметическими подсчетами. Тогда пытался определить, кто истинный виновник твоей нежелательной беременности – я, твой Максик или еще кто-то? С большой долей вероятности, тогда удалось-таки прийти к выводу… Тогда были неопровержимые доказательства. А сейчас? Одни предположения, покоящиеся на зыбучем песке.
Однако ж считаю, считаю и считаю. В самом деле, на подсчетах дней и часов можно свихнуться. Вычислил, что в последний раз (минус девять месяцев от рождения девочки) ты могла от меня забеременеть в последних числах мая или в первых числах июня.
Не сходится. Потому что (это-то я точно помню!) последний настоящий и полноценный сексуальный контакт между мной и тобой был в начале третьей декады мая. Это была ночь, вся ночь. Налицо некоторое расхождение во времени. Понимаю, что разница в неделю – это не срок. Ты могла и переносить ребенка: такие задержки случаются. Но это всего лишь мои догадки.
Ты могла бы и прояснить, только ты. Но все мои попытки затеять разговор на эту тему (насчет задержки с родами), вызывают в тебе гнев. Ты понимаешь, почему меня это так интересует. Ты догадываешься, куда клоню. Пресекаешь сразу, не оставляя даже надежд.
Но пища для размышлений есть. Допустим, тот факт, что первым о рождении дитя ты сообщила не мужу, а мне. Причем, явно спешила с сообщением. Спешила так, что принудила себя встать с больничной койки, спуститься в приемный покой и позвонить, хотя еще несколько часов назад ты мучилась от болей.
Что ни говори, но это подвиг и ты пошла на это. Почему? Потому что ты понимала: вот-вот появится Максик и тогда он станет первым (из близких для тебя людей), кто узнает о явлении в мир дитя.
Насколько мне известно, о появлении на свет первым обязан узнать отец ребенка, истинный отец, отец по крови. Нарушение этого поверия, будто бы, чревато серьезными осложнениями для ребенка. Даже это не дает мне оснований что-либо предполагать. Знаю, насколько ты непредсказуема, насколько неожиданны бывают твои поступки.
Ты категорически отрицаешь мое отцовство. Ладно, если это правда. А если не так? Если ты обманываешь меня? Тогда… Не знаю, что сделаю…
К тому же у тебя изредка что-то прорывается. Что-то, напоминающее намеки, намеки туманные, полные иносказаний. Каждое из них вновь во мне пробуждает сомнения.
Так жить нельзя!..
* * *
Прошел год. Маришка-хохотунья бегает по квартире и радуется моему приходу. Но я не рад. Потому что гложет червь сомнений. И чем дальше, тем больше.
И решаюсь заговорить с тобой. Заговорить в последний раз, чтобы больше не возвращаться к этой проблеме. Ребенок растет, и я обязан знать, кто истинный отец. Вопрос поставил прямо: кто отец – я, Максик или кто-то третий? Потребовал честного ответа. Ты озверела. Ты наговорила кучу оскорбительных для меня слов, из которых мог вынести одно: я не тот, кто бы мог быть удостоен такой чести, как стать отцом Марины. Сцена стала для меня невероятно унизительной. Я ушел. И приказал себе: больше никогда не переступать порог этой квартиры! Ни под каким-либо предлогом! Должен забыть всё. Забыть навсегда. Забыть всех. Забыть тебя, Саньку и… Маришу!
* * *
Прошло еще четыре месяца. Оказывается, легко сказать, но чрезвычайно трудно сделать. Не смог вычеркнуть из памяти вас. Все делал для этого, но… Ты всякий раз ломала мою волю. И я оказывался побежденным. Не бываю у вас. Но это ничего не меняет. Ты то и дело приводишь Марину на работу, сознательно оставляешь у меня на какое-то время, а сама уходишь. Ты даешь мне возможность пообщаться с ребенком, а потом… Я снова тряпка! Без воли и характера, без гордости и самолюбия. Иначе говоря, все предыдущие усилия идут насмарку. Так дальше продолжаться не может. У меня уже нет сил. Не могу бороться с судьбой. Я, в конце концов, должен окончательно определиться; обязан, вынужден решиться на самый крайний шаг. Надо сделать так, чтобы полностью исключить какие-либо контакты. Даже визуальные. Не могу видеть вас. Не должен видеть вас. И только так смогу забыть. Ну, если и не совсем забыть, то хотя бы сделать душевную боль не столь острой. Уйду из вашей жизни. Уйду насовсем. Уйду навсегда. Исчезну! Чего бы мне это ни стоило! Моя совесть чиста. Боролся. Боролся долго. Боролся пятнадцать лет. Годы уходят, а с ними и моя жизнь.
Начал письмо со строк Пушкина, ими же и завершаю.
Все кончено: меж нами связи нет
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено – я слышу твой ответ
Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду
Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна
И многими любима будешь ты.
…Увы… И это письмо окажется неотправленным, как и десятки других, адресованных тебе, загадочная моя, и нашедших себе наилучшее место – на пыльных моих антресолях.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.