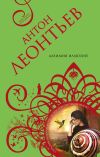Текст книги "Страсти людские. Сборник любовных историй"

Автор книги: Геннадий Мурзин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Из дневника вчерашней школьницы
1 сентября, суббота
Впервые мне в этот день не надо идти в школу. Хорошо!
И грустно чуть-чуть. Вероятно, поэтому выпросила у редактора задание сделать репортаж о первом звонке в своей родной школе.
– Попробуй, – сказал шеф. – Только вопрос: знаешь ли, как выглядит репортаж?
Честнёхонько призналась, что не знаю. А потом авторитетно добавила:
– Но узнаю… У ответсека взяла третью книжку «Библиотечки журналиста»… Там про репортаж рассказывается.
Шеф хмыкнул и кивнул.
– С такой-то хваткой?!
– Я все делаю основательно, – не забыла хвастануть.
Шеф вновь кивнул.
– Я заметил… Мужская у тебя хватка… мертвая…
– Плохо?
– Что ты, девонька! – старомодно сказал он и добавил. – Мечта многих.
7 сентября, пятница
Если как на духу, то у меня был еще повод побывать в родной школе на первом звонке. И, пожалуй, главнее главного. Мне самой себе в этом трудно признаться. Увы, но это так: сердце позвало. Там меня поджидало горькое разочарование. Я мечтала увидеть ЕГО, но была огорошена (не мое это слово, а мамино). Оказывается, ОН в первых числах августа уволился и, будто бы, уехал из города. И не сказал! Мне?! Уехал мой Сереженька? Любимый мой Сержик укатил?! Куда? Осторожно, как бы невзначай, спросила завуча.
– Кажется, – ответила завуч, – в Свердловск6. По слухам, взяли в журнал «Урал»: то ли литконсультантом, то ли заведующим отделом поэзии, – завуч тяжело вздохнула и с явным огорчением в голосе добавила. – Чувствовала, что надолго у нас не задержится. – Ольга Павловна, заметив, что я изменилась в лице, участливо спросила. – Девочка, что с тобой? Тебе плохо?
Я отрицательно замотала головой.
– Ничего… Пройдет… Бывает…
– Неужели, девочка, на тебя так подействовал отъезд Сергея Алексеевича? – Я ничего не сказала. Ольга Павловна понимающе закивала. – Да-да-да. Все девчонки-старшеклассницы по нему с ума сходили.
– Вы знаете?! – вырвалось из меня.
Ольга Павловна пристально взглянула мне в глаза и ответила вопросом на вопрос:
– И ты тоже?
– Извините… Мне надо…
Я отошла и больше старалась не смотреть в сторону Ольги Павловны. Но я чувствовала, что та внимательно следит за мной и не спускает глаз. С трудом дождалась окончания церемонии. У меня не было сил. У меня не было и желания дольше там задерживаться. Крах! Рухнул последний бастион, накрепко связывавший меня со школой. Всё! Узел, соединявший нас, развязался. Потеряла то, что дороже всего… Потеряла, наверное, навсегда… Сколько мне сил понадобилось, чтобы там, прилюдно не разреветься! Добежав до дома, кинувшись в постель, я завыла.
Не могу… Пока не могу больше… Я не хочу… Я не хотела…
19 сентября, среда
Да, любимый Сержик, ты бросил меня, ты лишил меня возможности хоть изредка видеть. Но ты не в силах лишить меня памяти, лишить воспоминаний. Они – со мной, они – при мне. Пройдут годы, а они останутся со мной. Потому что дороги. Потому что светлы и радостны. Потому что в них – мое счастье. Да, я была счастлива, так счастлива, как, наверное, уж больше никогда не буду.
Не думай, Сереженька, что я в обиде. Ну, то есть была вначале в обиде, когда завуч оглушила новостью. А потом… Обида ушла. Не думай, я всё понимаю. Помнишь ведь: жизнь дается один раз и… Ты был честен со мной, всегда честен. Я ценю. И благодарна за это. «Грозу», помнишь? Глупая я. Ну, о чем спрашиваю?! Ах, несчастная Катерина… Ты для меня, любимый, также «луч света в темном царстве». Был. Есть. И всегда будешь… Мне так хочется тебя видеть, так хочется! Хотя бы издали и мельком!
23 сентября, воскресенье
На дворе – не то дождь, не то снег. Сильный ветер разгуливает по металлической крыше, стуча и чем-то скрежеща.
Мерзко! Идти никуда не хочется. Максик заходил. С восьмого класса по мне сохнет. Предложил сходить в кино. Отказалась. Скукотища смертная. Грустно…
Максик поступил… Уже студент… Хвастается, что в институте – весело. Если так, то какого черта таскается каждое воскресенье домой? А? Веселился бы и глаза мне не мозолил.
Ужас, до чего надоел! Пыхтит, вечно вздыхает. Чурбан! Увалень! Коротышка! До чего противный… Ну, хоть бы чем-то Господь (а он есть?) взял и наградил несчастного. Много читает, а все равно дурак. Чего он все вертится возле? С восьмого класса… Как надоел! Глаза бы не глядели.
И отец на него косо смотрит: почему-то и ему не нравится. Мамулька – терпима к, как она говорит, к вечному воздыхателю, но, похоже, совсем и она не в восторге. Правда, и не отказалась бы от такого зятя. По ее глазам вижу. Дурак, говорит, в городской олимпиаде победить не может. На безрыбье и рак – рыба? Выходит… Мамулька – человек практичный. Всё лучше, говорит, чем ничего. А как быть с сердцем? Ему-то не прикажешь. Сердце не обманешь.
27 сентября, четверг
На работе отпросилась. Дома нашла предлог: мол, платье новое надо присмотреть. Ерунда! В Свердловск поехала не за этим. Несколько часов фланировала по Малышева, у здания редакции журнала «Урал». Закоченела. Думала, что встречу, увижу своего родненького. Нет. Не вышло. Думала: а что, если зайду? Все заходят и я зайду… Будто случайно. Отказалась. Ему бы совсем не понравилось наглое мое вторжение. Он-то на подобную уловку, точно, не клюнет.
Сегодня поутру поездом вернулась. Дома – отревелась. Полегчало.
28 сентября, пятница
Как сладки воспоминания!..
…Он появился в десятом «б» впервые первого сентября.
Класс ждал. Вошел стремительно. Высокий и стройный, на голове – короткая стрижка (мне, первое что пришло, захотелось рукой притронуться к его волосам), в строгом темно-синем костюме, галстук – в светлую полоску, завязанный маленьким узлом. Брюки тщательно отутюжены, туфли – блестят. Как взглянула в его серые глаза, так и влюбилась. И больше уже не отводила от него свой взгляд ни разу.
Завуч права: от нового учителя русского языка и литературы все девчонки обалдели.
А он? Никакой реакции! Привык, видать, к всеобщему обожанию. Меня сначала чуть-чуть обидело подобное равнодушие. Потом привыкла. Надо было привыкнуть. Ведь он еще и стал нашим классным руководителем.
Через две недели, в воскресенье классом отправились в поход. Сергей Алексеевич сказал, что в лесу есть какая-то «заимка», где при белых скрывались наши подпольщики.
Веселый получился поход. Я ничего не запомнила про подпольщиков, но зато помню его случайное прикосновение к моей щеке. Боже мой, какое прикосновение! Какая у него, оказывается, ладонь – мягкая и теплая! У отца – не ладонь, а наждачная шкурка. Если бы никого рядом не было, расцеловала бы ладонь Сергея Алексеевича и не отпустила бы от себя ни за что.
Случайное прикосновение, а девчонки заметили-таки. Может, не столько само прикосновение, сколько мою реакцию на это. Они стали утверждать, что при этом мои глаза буквально засияли лихорадочным блеском. Стали дразнить. Я только фыркала: девчачьи, мол, глупости.
Уроки литературы и русского языка стали для меня наслаждением. Как он рассказывал?! А как читал стихи?
Удивительно! От него я впервые услышала о Сельвинском. Поразил: наизусть знает почти всего этого поэта. Мой-то любимец – Пушкин. Но я пошла в городскую библиотеку (в школьной-то не оказалось), и взяла первый том собрания сочинений Сельвинского. А затем второй, третий… Стала по ночам читать и заучивать наизусть. Ну, чтобы, если представится случай, поразить учителя.
У меня получилось! Ну… то есть тот самый случай…
Который час? Половина первого. Отец стучит в прихожей. Пришел со второй смены. Уберу-ка я подальше дневник. Нельзя ему… Никому нельзя… Никто не знает о моих дневниках… Никто и не должен знать.
30 сентября, воскресенье
…Урок литературы в тот день был последним. Я замешкалась. Умышленно. Сергей Алексеевич (на мое счастье) не спешил и сидел за столом, просматривая наши тетради. И девчонки, покрутившись какое-то время возле учительского стола, также улизнули.
Теперь мы один на один. Я сижу тихо. Он меня не замечает. Перебирая тетради, недовольно качает головой. И тут он поднимает голову. Его серые большие глаза упираются в меня, и белесые брови сходятся к переносице.
– Почему не идешь домой, Кононова? Поздно. Уже темнеет.
– Ничего… Я живу почти рядом, Сергей Алексеевич. Я…
– А уроки кто будет готовить?
– Я… Приготовлю… Еще успею… Я обязательно успею…
– Все так говорят, а потом двоечку исхлопатывают.
Я, набравшись храбрости, встала и подошла к учителю.
– Сергей Алексеевич, разрешите прочитать стишок?
– Стишок? Прочитать? Ради Бога, – он вновь уткнулся в
тетрадь, лежавшую перед ним.
Я начала читать:
– Розовые чайки над багровым морем,
Где звучит прибой,
Вьются и бросают перекрики зорям
Золотой гурьбой.
Он, оторвав взгляд от тетради, уставился на меня, и глаза
его потеплели.
– Сельвинский?.. Ты?! Его же нет в программе.
– Совсем зря, что нет, – говорю и добавляю. – Отличный поэт. Не то, что Маяковский со своим «паспортом».
– Не нравится Маяковский?
– Противный.
– Почему так решила?
– По телевизору видела документальный фильм. Уродина уродиной.
– А женщинам-современницам он нравился.
– Ну и дуры!
Сергей Алексеевич громко рассмеялся.
– Как можно судить о поэте по его внешности?
Я опустила голову и упрямо сказала:
– Сам он противный… Стихи его противные.
– Но он в школьной программе.
– И пусть… Разрешите еще что-нибудь прочитать из
Сельвинского?
– Изволь…
– Есть поцелуи-пустяки
О них заботиться не стоит:
Они звенят, как пятаки,
Ну, и, пожалуй, столько стоят
Но есть другие. Колдовство!
Впивая все твое ненастье,
В томленье мига одного
Всю душу раскрывают настежь!
Вижу, что учитель улыбается. Чему? Может, плохо я прочитала? Как-то не так?
После секундной паузы говорит:
– Неплохо, неплохо… Если так, то разреши и мне
прочитать…
– Что за тайна в женской природе?
Ты, допустим, дыню сосешь.
Под конец, как во всяком плоде,
Догрызешься до корки. Ну, что ж
Все естественно, ясно и просто.
Или, скажем, выпьешь гранат.
Будь он даже гигантского роста,
Исчерпаем рубиновый град.
Ну, а женщина? Сладость граната
В этих сочных ее устах,
Нежность дынного аромата
В этой шее и в этих плечах.
Но глотай поцелуи хоть до ста,
Обмирая, плыви в забытье —
Все нетронутым в ней остается,
Словно ты не касался ее.
Я покраснела. Мне показалось, что учитель прочитал это стихотворение не случайно, а с каким-то потаенным смыслом. Я тихо прошептала:
– Вы так прекрасно читаете.
– Да? Правда, нравится? Ну, тогда послушай это.
Он стал читать. Читал не только Сельвинского, а и Цветаеву, Ахматову, ставших также для меня великим открытием: не слышала я о них ничего.
Присела у стола, почти рядом с учителем. Я слышу его дыхание, я чувствую его биение пульса. А, может, все только кажется?
Тихо-тихо говорю:
– Вы… так много-много знаете.
Сергей Алексеевич смеется.
– Но учитель обязан знать чуть-чуть больше, чем его ученики.
Сердце мое почему-то бьется часто-часто. Мне становится душно. Непроизвольно расстегиваю верхнюю пуговичку кофточки.
И тут учитель наклоняется в мою сторону, находит мои пересохшие губы, ставшие, наверное, шершавыми, и впивается. Упоительно долгий (мне так показалось) поцелуй. У меня закружилась голова: так еще меня не целовал ни один мужчина.
Оторвавшись, учитель вскочил на ноги и, быстро-быстро собрав в кучу тетрадки, отводя от меня глаза, сказал:
– Извини, девочка… Прости меня… Не имел права этого делать… Не должен был…
Учитель оставил меня одну. Я же летела домой, не чувствуя под собой ног. Мысленно кричала всем: «Я нравлюсь ему, нравлюсь! О, как я его люблю! Люди, услышьте меня!»
Потом меня ожидало разочарование. Он перестал смотреть в мою сторону, вообще перестал замечать меня. А я? Не сводила с него влюбленных глаз. Отбросила всякое стеснение. Мой взгляд говорил ему: «Ты мой, только мой! Ты навсегда будешь моим, а я буду принадлежать только тебе!.. Уже принадлежу тебе, и ты можешь со мной делать все, что захочешь! Все-все-все!»
Это было счастье. Мое счастье.
Потом, правда, загрустила: потому что увидела со всей ясностью, что Сергей Алексеевич попросту избегает и не хочет оставаться со мной наедине. А еще обратила внимание, что учитель перестал читать нам Сельвинского. Со мной стал суров и сух до невозможности. Последовали придирки. Кажется, так стараюсь угодить Учителю, а он все недоволен и выговаривает при всем классе.
Класс (особенно девчонки) тоже заметил, что учитель изменился. По углам шептались. Стали избегать, считая, видимо, меня всему причиной. Я же на девчонок смотрела с гордостью; мысленно всем им говорила: «Смотрите на меня! Не вас, а меня выбрал Учитель! Не вас, а меня поцеловал Учитель! Меня! Меня! Меня!»
Максим также что-то почуял. Чаще прежнего закружил вокруг меня. Но гнала прочь его. Гнала, унижая и оскорбляя. А ему? Хоть бы хны! Прилип и все. Не хочет отставать. От того зверею. Готова его разорвать на куски. Ничто не помогает. Чем же еще-то отвадить Максика? Липучка! Он меня унижает своим вниманием. Не хватало, думаю я, чтобы Сергей Алексеевич заметил: ей-ей оскорбится. Он и этот коротышка?! Помереть – не встать.
Сказать? Не могу. Могу навредить авторитету Учителя.
Теперь, считаю я, должна думать меньше всего о себе. Теперь главное – его авторитет. Я не подведу. Буду все делать, чтобы Учитель чувствовал себя в классе комфортно. Теперь – он под моей неусыпной опекой. Пусть кто-нибудь попробует сказать плохое об учителе! В харю заеду любому и сразу. Буду бить без предупреждения. Даже парни знают, что скора на расправу. Однажды один (в шутку) попытался залезть своей поганой лапой под подол. И вмазала. Наотмашь. Угодила в глаз. Неделю ходил с синячищем. Зато больше подобных шуток не позволял – ни он, ни кто-либо еще. Сначала зло косился и не разговаривал. Потом отмяк. Понял, видимо, что по заслугам награда.
С детства поняла, что с парнишками нельзя расслабляться ни на минуту. Они такие. Почувствовав слабину, обуздают и будут пользоваться. Похихикать – пожалуйста, но не более того. Зачем распускать руки-то? Не позволю! Другие? Позволяют. А после – слезами умываются. Виноватых ищут. Не там ищут, где надо. Сами во всем виноваты, а кто же еще-то?
Поздно уже. Завтра на работу. Работы по-прежнему много. Хоть нас и двое, но газета-то выходит пять раз в неделю. Сколько надо перелопатить (слово не мое, а ответсека) рукописей. Еще ничего, когда почерк приличный. Но многие пишут, как курица лапой. Становлюсь ученым-почерковедом. Любые каракули начинаю разбирать. Корректоры говорят, что мои отпечатки – самые чистые. Ошибок минимум. Приятно. Люблю, когда хвалят. Почаще бы. Шеф не разбежится. Потому что скуп. Ответсек, правда, иной раз бросит в след что-нибудь доброе, но также походя и через силу, сквозь зубы. Вроде, из одолжения. Нет, я не жалуюсь. Чуть больше трех месяцев, а коллектив считает меня своей. Даже змеюки подколодные (есть и такие в редакции) стараются не слишком шипеть по моему адресу. То ли из уважения, то ли из опасения. Коллектив уже знает, что на язычок остра и спуску никому не собираюсь давать, не взирая ни на чины и звания. Так что остерегаются. Правильно и делают, что остерегаются. Я деваха – хоть куда, но палец в рот не клади. Откушу! Ей, Богу, откушу! А так и надо.
20 января, понедельник
Сижу и смотрю за окно. Там такой вой, будто тысяча чертей одновременно дерут глотки. Снег. Пурга. И вновь пришли, можно сказать, одолевают воспоминания…
…Месяца два, наверное, Сергей Алексеевич не обращал на меня никакого внимания. Для него перестала существовать. Осунулась, и под глазами появились страшнющие тени. По ночам плачу в подушку. Стала плохо учиться. Начала дерзить учителям. К концу марта сердце его стало оттаивать понемногу.
Соответственно, началось и мое возрождение. Мы стали оставаться по вечерам, разговаривать. Но к поцелую не возвращались – ни он, ни я. Эту тему закрыли, и, кажется, навсегда. Хочется ли мне, чтобы он вновь стиснул меня и впился в мои губы? Не вопрос! Но я готова довольствоваться самым малым – общением.
В мае закончила десятый. Каникулы. Подбиваю класс, чтобы выйти с предложением о многодневном походе по родным краям. Не хочу, чтобы инициатива исходила от меня: мало ли что может подумать?
Сергей Алексеевич принимает предложение. Мы начинаем готовиться. Я готовлюсь особенно азартно. Почему? Ну, как же! Не день, не два, а неделю буду рядом с Ним! Господи, какое счастье предвкушать это!
Мамуля с радостью соглашается, чтобы я сходила в поход. Говорит, что на пользу. Она замечает мое возрождение и хочет его не меньше моего. Она беспокоится и за аттестат: чего хорошего, если в нем будут одни «троечки»? Ведь, напоминает она мне, средний бал по аттестату засчитывается при вступительных экзаменах… Будто сама не знаю…
Стоп! Кажется, мамуля встала. Да, идет в мою сторону. Увидев, что не сплю, обязательно заглянет. Туши свет!..
22 января, среда
И мы в походе. Дни летят незаметно. Озорничаем, а по вечерам – стихи у костра. Мне кажется, что я знаю стихов больше всех. Разинув рты, сидели одноклассники, когда стала читать Цветаеву. Никто сроду не слыхивал про такую. А потом пустила в ход и Андрея Белого. Короче, убила всех.
Классный руководитель слушает и лишь качает головой: он смущен. Потому что еще немного и, пожалуй, эта ученица будет знать поэзию лучше его.
Классный руководитель понимает, что девочка влюблена. Значит, и «репертуар» соответствующий.
Классный руководитель (я не без глаз!) радуется, но чувства скрывает.
И вот, по сути, последний вечер у костра. Завтра – к вечеру будем дома. Расставание будет тяжелым. Я – о себе. К двенадцати разбрелись по палаткам. Дождавшись, когда соседки засопят носами, то есть заснут, выскользнула наружу. А там – сказка! Невероятных размеров Луна! Теплынь! Слабый ветерок чуть слышно, играя, шелестит листвой. Тишина.
Смотрю в сторону догорающего костра. Вижу чью-то одинокую спину. Осторожно подкрадываюсь. Это Сергей Алексеевич. Сидит, о чем-то думает и прутиком пошевеливает почти погасшие угольки кострища. Тихо-тихо присела рядом. Он взглянул в мою сторону и отвернулся.
– Не спится? – спросил, не глядя в мою сторону, Сергей Алексеевич.
– Какая ночь! – это был мой ответ.
Где-то в кустах свистнула одинокая пичужка. Мы сидим уже минут двадцать, не проронив ни слова.
Потом Сергей Алексеевич начинает читать своего Сельвинского. Одно стихотворение, другое, третье… десятое. Восторженно внимаю. Тоже могла бы кое-что почитать, но боязно прервать своего Учителя. Сейчас – я лишь слушаю. И сердце мое сжимается от счастья. Ночь. Лес. Почти потухший костер. Он и я. А еще – почти девственная тишина. Нет никого. Нет ничего. Есть лишь мы и весь мир – наш. На востоке, у верхушек дальних сосен появились первые признаки зарождающегося нового дня: одна оранжевая полоска, другая, третья. И горизонт уже полыхает, хотя здесь, на земле еще темно. Потянуло свежестью. Мы, не сговариваясь, встали и пошли плечом к плечу, рука в руке. Одна поляна, другая. На третьей остановились. Присели на густую и сочную траву. Мой учитель вновь стал читать стихи. Я прижалась к его теплому и крепкому плечу и закрыла глаза. Забылась. И тотчас же очнулась от прикосновения к моим губам Его таких влажных и горячих губ. Боже мой, как это сладко: целовать и целоваться с любимым мужчиной! Целоваться, когда одни в целом мире! Целоваться в ночи! Целоваться, когда ни одна живая душа не видит! Поцелуи следуют один за другим. Начинаю мелко-мелко дрожать. Он тихо шепчет в ухо:
– Тебе холодно?
– Что ты! – вскрикиваю и впиваюсь в его губы. Потом начинаю лихорадочно целовать его шею, уши, глаза, грудь. – Любимый!.. Я не могу!.. Я вся твоя!.. Ну же… Смелее, солнышко! Возьми меня!.. Так хочу тебя!..
Мой Учитель также начинает подрагивать. Рука учителя ласково скользит по моему телу, опускается вниз, проникает в тесные шорты. Я, закрыв глаза, тихо постанываю в предвкушении Великого Мгновения Счастья. В голове молнией проносится: «Наверное, будет больно!» И пусть будет очень-очень больно. Такую боль готова вынести сейчас, завтра и всегда.
Ладонь любимого нежно поглаживает между ног, пальцы находят бугорок, ласкают. И телом чувствую, как мой бугорок под пальцами любимого растет, поднимается, твердеет. Падаю на траву. Вскрикиваю. Какое блаженство! Его ласки бесподобны! Его рука все еще в тесных шортах. Я выгибаюсь. Ну же, сними несчастные и брось на траву! Я – твоя! Вся твоя! Ты единственный мужчина, который увидит…
Там – мокро и жарко.
Учитель наклоняется ко мне и целует в губы. Мои руки лихорадочно начинают искать ремень на брюках. Расстегиваю ширинку, проникаю внутрь, в моей ладони горячая и восставшая его плоть, розовой головкой упершаяся в тесные брюки. Стягиваю с него брюки, вывожу «жеребчика», слегка, выгнувшегося, на волю. Другой рукой стягиваю с себя шорты.
Я плачу.
– Сереженька, ну же! Я жду тебя!
Сереженька осторожно вводит. Закрываю глаза и отдаюсь в руки судьбы.
– Ой! – вскрикиваю от неожиданности. Была готова к этому и все-таки…
Он тихо спрашивает:
– Тебе больно?
Хватаю его за шею, крепко-крепко стискиваю и начинаю целовать.
– Нет, любимый, – шепчу ему в ухо. – Хочу! Очень хочу! Тебя хочу! Ты мой первый мужчина!
Войдя и поворочавшись там, начал стремительные и частые толчки. Он хрипит. Я вою от величайшего наслаждения. Сколько это продолжалось? Не помню. Помню лишь, что мы оба одновременно вскрикнули и обессилели.
Открыла глаза. На востоке пробился первый луч и начал облизывать верхушки сосен.
Он спрашивает:
– Тебе хорошо?
– Очень-очень! – вскрикнула и стала покрывать его лицо поцелуями. – Я хочу… Еще хочу тебя… Ну, пожалуйста, любимый! Мне мало… Хочу много…
Он сел. Посадил меня на колени. Я, обхватив его за шею, продолжаю целовать. Ягодицами чувствую, что солдатик мой вновь готов к бою. Сереженька вводит его в меня. Он головой во что-то там упирается. И мне от того сладко-сладко. Взвизгиваю и начинаю подпрыгивать. Сереженька, взяв меня ладонями за ягодицы, помогает. Кричу от счастья. Он рычит от возбуждения. Еще несколько движений. Взрыв! И все!..
…На сегодня, пожалуй, достаточно. Чувствую, что от одних воспоминаний там у меня становится мокро.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.