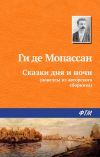Текст книги "Зверь дяди Бельома"

Автор книги: Ги де Мопассан
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Современная Лизистрата
Какую чудесную комедию мог бы написать в наши дни человек, обладающий острым гением Аристофана! Наше общество сверху донизу бесконечно смехотворно; но смех во Франции угас – тот едкий, мстительный, смертоносный смех, который в прошлые века убивал людей наповал верней, чем пуля или удар шпаги. Да и кто может смеяться? Все сами смешны! Наши удивительные депутаты похожи на актеров кукольного театра. И, подобно античному хору стариков, добродушные сенаторы качают головами, ничего не делая и ничему не препятствуя.
Теперь уже больше не смеются. Ведь настоящий смех, великий смех Аристофана, Монтеня, Рабле или Вольтера, может родиться лишь в обществе аристократическом. Под аристократией я подразумеваю отнюдь не знать, но тех наиболее интеллигентных, образованных и умных людей, ту группу избранных, которая является ядром общества. Республика вполне может быть аристократической, если интеллектуальная верхушка страны является и верхушкой правительства.
Но у нас этого нет. И самое опасное, что люди просто бегут из общества; даже парижские салоны стали настоящими базарами, где ведутся до того бесцветные, безнадежно пошлые, усыпляющие и тошнотворные разговоры, что, слушая их, через пять минут хочется завыть от тоски.
Все вокруг – смешной фарс, но никто не смеется. Вот, например, Лига защиты прав женщины. Разве смелые гражданки, объявившие нам войну, не открыли перед нами целую Калифорнию смеха?
Несмотря на мое глубокое восхищение Шопенгауэром, до сих пор я считал его суждения о женщинах если не преувеличенными, то, во всяком случае, малоубедительными. Вот их краткое изложение:
– Даже внешний вид женщины свидетельствует о том, что она не создана ни для большой интеллектуальной работы, ни для работы физической.
– Что делает женщин особенно способными нянчить маленьких детей – это их собственная ребячливость, пустота и ограниченность: всю свою жизнь они остаются взрослыми детьми, своего рода промежуточным звеном между ребенком и мужчиной.
– Разум и мыслительные способности мужчины достигают своего полного развития лишь к двадцати восьми годам. У женщины, напротив, зрелость ума приходит на восемнадцатом году жизни, и у нее навсегда остается разум восемнадцатилетней, никак не больше. Женщины видят только то, что находится у них перед глазами, живут лишь настоящим, принимают внешний вид за сущность предмета и предпочитают всякий вздор самым значительным вещам. Вследствие слабости их разума все то, что видимо и непосредственно находится перед ними, имеет над ними такую власть, которую не могут преодолеть ни отвлеченные представления, ни установленные правила, ни твердые решения, ни какие-либо соображения, связанные с прошлым или будущим, то есть с тем, что находится где-то далеко или вообще отсутствует… Поэтому несправедливость – основной порок женской натуры. Он происходит от недостатка здравого смысла и неумения рассуждать, которые мы уже отмечали, и порок этот усугубляется тем, что природа, отказав женщинам в силе, взамен наградила их хитростью; отсюда их инстинктивное коварство и непреодолимая склонность ко лжи.
– Благодаря нашему в высшей степени бессмысленному социальному порядку, который позволяет им разделять титул и общественное положение мужа, они яростно раздувают свои самые низменные, тщеславные желания и т. д. Следовало бы взять за правило следующее изречение Наполеона I: «Женщины не имеют общественного положения». Женщины – это sexus sequior – пол низший во всех отношениях, созданный, чтобы держаться в стороне и на втором плане.
– Во всяком случае, если нелепые законы дали женщинам права, равные с мужчинами, они должны были бы наделить их также мужским разумом, и т. д., и т. д.
Можно было бы заполнить целый том, цитируя всех философов, мысливших и говоривших подобным образом. Начиная с Сократа, презиравшего женщин, и с древних греков, державших женщин в своих жилищах лишь для того, чтобы снабжать республику детьми, все народы пришли к заключению, что легкомыслие и непостоянство – основные черты женского характера.
Но самым убийственным аргументом против женского ума является неспособность женщины создать произведение, сколько-нибудь великое и долговечное.
Утверждают, будто Сапфо писала прелестные стихи. Мне кажется, что, во всяком случае, не это послужило причиной ее бессмертия.
Среди женщин нет ни поэта, ни историка, ни математика, ни философа, ни ученого, ни мыслителя.
Мы восхищаемся – однако без энтузиазма – изящной болтовней г-жи де Севинье. Что касается Жорж Санд, то это единственное исключение, но нет надобности очень долго изучать ее произведения, чтобы доказать, что выдающиеся качества этой писательницы стоят не на самом высоком уровне.
Миллионы женщин изучают музыку и живопись, однако никто из них ни разу не создал ни одного оригинального и законченного произведения, ибо им не хватает именно той объективности мышления, какая необходима во всякой интеллектуальной работе.
Все это, по-моему, неопровержимо. Можно было бы нагромоздить еще горы доказательств, столь же бесполезных, так как они лишь освещают вопрос с новой точки зрения и, следовательно, уводят нас в сторону; таково по крайней мере мое мнение.
Дело в том, что мы требуем от женщины таких качеств, какими природа ее не наделила, и не ценим тех, которые ей свойственны.
Мне кажется, Герберт Спенсер прав, когда говорит, что если нельзя требовать от мужчины, чтобы он вынашивал и выкармливал грудью ребенка, то нельзя требовать и от женщины, чтобы она выполняла работу, требующую отвлеченного мышления.
Лучше попросим ее быть радостью и украшением нашей жизни.
Если женщина требует себе прав, признаем за ней только одно: право нравиться.
В древние времена за женщиной не признавали никаких достоинств и даже оспаривали ее красоту.
Но затем появилось христианство, и благодаря ему в Средние века женщина превратилась в некий мистический цветок, в существо отвлеченное, в облако, воспетое поэтами. Она стала религией. И с этого началось ее могущество!
Что я говорю – могущество! Ее безраздельное господство! Только тогда она поняла свою истинную силу, развила свои истинные способности, познала свое истинное призвание – то есть любовь! Мужчина обладал умом и грубой силой; она сделала из мужчины своего раба, свою вещь, свою игрушку. Она стала вдохновительницей его поступков, мечтой его души, воплотившимся идеалом его грез.
Любовь, этот наиболее животный инстинкт, присущий каждому животному, эта ловушка, поставленная нам природой, превратилась в ее руках в страшное орудие господства. Она употребила всю силу, данную ей природой, чтобы сделать из того, что считалось в древности таким незначительным, самую красивую, самую почетную и самую желанную награду, даруемую мужчине за его подвиги. Владычица нашей души, она стала и владычицей нашей плоти. И мы видим это у всех народов. Королева королей и победителей, она заставляла совершать все преступления, истребляла нации, сводила с ума пап; и если современная цивилизация сильно отличается от древних и восточных цивилизаций, презирающих так называемую идеальную и поэтическую любовь, то мы, несомненно, обязаны этим особому влиянию женщины, ее таинственной и могучей власти.
А теперь, когда она стала владычицей мира, она требует себе прав!
В таком случае мы, которых она усыпила, покорила, поработила любовью и для любви, мы, вместо того чтобы смотреть на нее только как на цветок, наполняющий жизнь своим ароматом, будем теперь холодно судить ее, опираясь на свой разум и здравый смысл. Наша владычица будет с нами на равной ноге? Тем хуже для нее!
Был ли Шопенгауэр неправ? Уж если женщины требуют равноправия с нами, посмотрим, кто их делегатки, выдающиеся гражданки, выступающие от имени всех прочих, кто современная Лизистрата?
Рассмотрим, каковы знания, умственное развитие и произведения этой женщины.
Ее произведения? Прежде всего я нахожу маленькое стихотворение, которое считаю подлинным, поскольку оно было напечатано во всех газетах. Вот оно:
Пора! Дни мести наступили!
Как Лувр старинный мы спалили,
Теперь Версаль сожжем дотла.
Он славен гнусными делами…
Пускай бушующее пламя
Очистит город сей от зла!
Меня никогда не возмущают идеи. Следовательно, платонические пожелания, высказанные в этом стихотворении, меня не трогают. Стихи же очень плохи. Ну что ж? Женщина-поэт еще не родилась, вот и все. Но что опасно в этом произведении – это детская незрелость мысли.
Итак, значит, снова Средние века и извращенная религиозность. Дни мести! Город зла! И очистительное пламя!
Демократическая инквизиция! Вот в чем сказалась вся женская бездарность. Мы, мужчины, сражаемся при помощи идей – единственного оружия людей науки и прогресса, единственного оружия, когда-либо насаждавшего правду и приводившего ее к победе. Они, не владея этим оружием, требуют своих прав, чтобы сражаться при помощи пожаров, и говорят об очищении, об оскверненных городах и т. п., повторяя все старые припевы из Библии и сочетая демагогию со всей жестокостью прошлых веков.
Не будем придавать большого значения этим досужим вымыслам, они только смешны, и перейдем к жемчужине мысли – к кандидатурам покойников.
Уж теперь-то вы должны быть удовлетворены, о мой учитель Шопенгауэр!
Я не знал, крику какого животного мне подражать, какие делать обезьяньи гримасы, какие сумасшедшие телодвижения, чтобы выразить непередаваемое веселье, неудержимое желание хохотать, которое два часа томило меня, когда я вспоминал об этой восхитительной идее – создать совет из скончавшихся граждан.
Как вам это нравится? Теперь мы видим воочию все бессилие, всю прирожденную и торжествующую глупость, все чудовищное убожество ума свободомыслящих гражданок.
Что это – красиво? Поразительно? Интересно? Чем больше думаешь, тем больше удивляешься! Чем больше вы углубляетесь, размышляете и представляете себе подробности, тем сильнее вас охватывает недоумение и безумное желание смеяться.
Вот-вот! Вот именно! Голосуйте же! Назовите нам своих представителей. О да! Будьте независимы, гражданки, а мы будем хохотать, хохотать, хохотать, хотя бы нам пришлось умереть от смеха, что, в сущности, было бы единственной местью, которой вы могли бы гордиться.
Ну же, воительницы, поднимите ваши щиты, все равно вы сумеете взмахнуть только юбками!
Что же касается вас, сударыни, тех женщин, которые стараются быть лишь красивыми и пленительными, тех, чье прикосновение повергает нас в трепет, а томный взгляд погружает в мечту, тех, кто дарит нам все счастье, все радости, все надежды и утешения, то я на коленях прошу у вас прощения за суровые слова, написанные мной в этой статье о вашем племени, и с любовью целую розовые кончики ваших пальцев.
Это ли товарищество?..
Среди своих детей великая республика писателей могла бы назвать всех самых знаменитых людей, живших на земле, и ей принадлежат самые великие имена, сохранившиеся в памяти народов. Она была лучшей, избранной частью человечества, матерью его мысли, его величайших идей, жизни его духа в самых высоких его проявлениях.
По этой причине, а также из почтения к литературе, из уважения к самим себе и из гордости своим искусством писателям следовало бы поддерживать и защищать друг друга и прежде всего хранить неприкосновенной память великих умерших собратьев, тех, чьи имена осветят будущее своей славой и озарят живым светом тяжелую и благородную профессию писателя!
Разве слово «товарищество», вообще довольно затасканное, не приобретает особого значения, когда оно становится «литературным товариществом»? Разве не должна была бы существовать особая, священная связь между этими людьми, живущими единственно мыслью и ради мысли, то есть тем, что есть самого высокого и нематериального в мире?
Увы! Если что-нибудь и связывает писателей, то лишь взаимная зависть.
Нет, никогда ни в одной профессии, ни в одном ремесле, ни в одном искусстве никто не впадал в такое бешенство при виде чужого успеха, не заходил так далеко в стремлении очернить соперника, в умышленном или невольном непонимании всех разнообразных проявлений таланта у других! Везде, где бы ни собрались литераторы, они поносят своих собратьев.
Поэтому тот из нас, кто недостаточно силен, чтобы жить, не ища привязанности или сочувствия, тот, кто испытывает потребность иметь друга и хочет излить ему свою душу, – пусть не выбирает себе друга среди писателей!
Я не отрицаю, что бывают исключения, мне случалось их видеть. Но они очень редки.
Даже самая искренняя, преданная и заслуженная дружба литератора опасна, потому что его постоянно мучает особый зуд, непреодолимая потребность говорить, писать, обсуждать, которая сильней его привязанности к другу и толкает его, порой даже бессознательно, на такие поступки, в значении которых он плохо отдает себе отчет.
Подобное явление мы наблюдали совсем недавно; сожалею, что мне приходится говорить о «Литературных воспоминаниях», помещенных в «Ревю де Дё Монд» Максимом дю Каном.
Г-н дю Кан был одним из самых близких друзей Флобера, без сомнения, горячо любил его и, наверное, не предвидел, какое впечатление произведут его разоблачения.
Теперь уже известно, что Гюстав Флобер страдал ужасной болезнью – эпилепсией, от которой он и умер. Все, знавшие эту тайну, старательно сохраняли ее. Когда непосвященные удивлялись, почему учитель никогда не хотел один возвращаться ночью домой (даже на извозчике), мы не рассказывали им о глубокой боязни великого писателя, который признавался в своих страхах с мучительной стыдливостью, как в чем-то позорном.
Появление в печати этого интимного документа поразило меня в самое сердце. Однако я подумал, что проявляю, вероятно, преувеличенную чувствительность. Но, по мере того как я встречался с друзьями умершего, я видел, что все они совершенно ошеломлены таким, по-видимому, необдуманным поступком Максима дю Кана. Мало того, даже посторонние, равнодушные к этому люди, вроде Луи Юльбаха в «Ревю политик», резко, но вполне обоснованно протестовали против подобных разоблачений. За ними выступили другие. Затем я стал получать письма, много писем от людей, любивших покойного писателя. Одно из них меня особенно растрогало. Оно было послано женщиной, которую я никогда не видел и которая никогда не знала моего дорогого и бедного учителя. Восторженная поклонница его творчества, она была оскорблена как женщина в своей инстинктивной и тонкой чувствительности и написала мне несколько очаровательных строк, заставивших меня подумать о тех неизвестных друзьях, о которых сам Флобер так часто говорил с нами.
Г-н дю Кан пишет, что с того дня, как на Флобера обрушилась страшная болезнь, его ум стал словно скованным и больше не обновлялся, не выходя за пределы определенного круга идей к шуток. И критик, признавая исключительный талант своего покойного друга, считает, что если б его сознание не было затемнено этим страшным недугом, он был бы гениальным!
Оставив в стороне вопрос о дружбе, я остановлюсь только на двух вещах.
Если человек, вместе с Бальзаком и после Бальзака создавший современный роман, человек, в силу своеобразия своего творчества наложивший свою печать на всю нашу литературу, человек, чье плодотворное влияние чувствуется и сейчас во всех выходящих в наше время романах, человек, оставивший такие книги, как «Воспитание чувств», «Госпожа Бовари», «Саламбо» и «Искушение», не считая изумительного шедевра «Святой Юлиан-странноприимец», – если этот человек не гениален, тогда я абсолютно не понимаю, что такое гениальность!
Далее Максим дю Кан говорит, что его друг, воображение которого было поражено смертельным ударом, в течение своей дальнейшей жизни воплощал лишь те идеи и замыслы, которые зародились в дни его молодости. Черт возьми! Мне кажется, что и этого вполне достаточно! Кроме того, всем известно, что воображение и познавательные способности у каждого художника в годы зрелости как бы ослабевают. И тогда он творит. Цветы не цветут круглый год: иные превращаются в плоды, остальные же опадают. С людьми происходит то же, что и с деревьями.
Дю Кан как будто еще упрекает Флобера за его исключительную писательскую добросовестность, за бесконечную работу над каждой фразой.
Однако ведь еще Буало требовал: «Всегда за делом будь», и т. д.
А Бюффон написал: «Гениальность – это долгое терпение».
В остальном я готов охотно согласиться, что статьи дю Кана во многих случаях исключительно точны и дают очень тонкий анализ. Однако этот талантливый писатель, по-видимому, избравший своей специальностью жанр разоблачений, в данном случае мог бы от них воздержаться.
И все же я никогда не стал бы говорить об этих статьях, несмотря на поднятый ими шум, если бы мне не принесли журнала, где я прочитал по этому поводу следующие строки, под которыми стоит совершенно незнакомая мне подпись:
«Он (дю Кан) выводит странный, болезненный образ этого Гюстава Флобера, человека, создавшего всего одну книгу, или, вернее, две книги, и чьи жестокие страдания объясняют нам его непомерное самолюбие, озлобленное тщеславие и невыносимые чудачества».
«Этого Гюстава Флобера!» Кажется, будто знаменитый автор сей статьи имеет право почти что презирать этого писателя. «Непомерное самолюбие!» Это значит, что Флобер, зная себе цену, никогда не говорил мелким писакам: «Сделайте мне одолжение, и я отплачу вам той же монетой». Он всегда держался в стороне от всяких газетных склок, от всяких литературных споров и обид; он общался только с преданными людьми, равными ему, с Тургеневым, Гонкурами, Ренаном, Тэном, или с настоящими друзьями более молодого поколения, теперь тоже прославившимися: такими как Золя или Альфонс Доде. Он хорошо знал цену той литературной «дружбе», которая основана на взаимно написанных друг о друге статьях; он был самым лучшим, самым преданным и самым верным товарищем, до последних дней сражался за память своего старого друга Луи Буйле, согласился даже начать тяжбу с нелепым муниципальным советом, написав предисловие – чего он совершенно не выносил, – и отдавал многие часы воспоминаниям о дорогих ему умерших людях.
Вот то, что вы, вероятно, называете «невыносимыми чудачествами», о критик, отрицающий «Искушение» и «Воспитание», с трудом признающий «Саламбо» и имеющий дерзость писать подобные вещи, гораздо более пагубные для вашей репутации, чем для памяти великого мастера современного романа.
Я сказал: «Великий мастер современного романа». И я думаю так не один. Да будет мне позволено привести следующий отрывок из письма, полученного мною на днях от иностранца, которого я знаю только по имени, доктора Эдуарда Энгеля, издателя одного из крупнейших критических журналов Европы, берлинского «Магазина»:
«И я прошу вас поверить, что все мои симпатии, как литературные, так и личные, – с вами и со всеми друзьями великого мастера современного искусства Гюстава Флобера. Если случай когда-нибудь приведет вас в Берлин, вы найдете здесь людей, для которых Флобер является настоящим далай-ламой».
Вот что думают даже в Германии. Критик из «Иллюстрасьон» судит по-иному. Тем хуже, но не для Флобера.
Ответ
Несколько газет с разных точек зрения оценили напечатанную мною третьего дня статью по поводу разоблачений, сделанных Максимом дю Каном в воспоминаниях о Гюставе Флобере. В статье Леона Шапрона, чье мнение для меня всегда интересно, ибо мне очень нравится его талант, есть ряд пунктов, на которые я считаю нужным ответить несколько слов.
Шапрон хвалит меня за то, что я хочу смыть с образа Флобера обвинения в надменности, озлобленном тщеславии и чудачествах, обвинения, которые не могут иметь никакого значения для тех, кто знал писателя.
Но Шапрон живо упрекает меня в том, что я хочу поставить всех на колени перед своим кумиром. У меня нет этой непомерной претензии, и я охотно соглашаюсь с автором хроники в «Эвенман», что каждый имеет право восхищаться кем он хочет и как он хочет. Я, бесспорно, имею право полностью отрицать талант у Виктора Гюго, если мне это понравится. Спешу добавить, что я далек от подобной мысли.
Я, конечно, не ответил бы на статью, подписанную Пердиканом, если бы в своих личных оценках он касался только таланта Гюстава Флобера.
Но здесь мне кажется необходимым дать объяснения иного порядка. Благодаря одной фразе, которую в обиходе поминутно повторяют: «Сделайте мне одолжение, и я отплачу вам той же монетой», – Шапрон заключил (не знаю почему), что я безошибочно открыл Жюля Клареси под псевдонимом Пердикана.
Если б я знал, что говорю с Клареси, я, без сомнения, ответил бы в более сдержанном тоне, ибо я всегда был в прекрасных отношениях с этим писателем. Но я не могу допустить, чтобы Клареси, такой добросовестный критик, мог написать под псевдонимом возмутившую меня фразу, тогда как в его книге «Жизнь в Париже» я нахожу за его подписью следующее:
«Мы не в силах сегодня в нескольких строках – они были бы слишком беглыми – обрисовать литературное лицо этого большого, тонкого писателя – Гюстава Флобера, который, соединив живописную манеру Теофиля Готье с анализом Бальзака, стал мастером современного романа и завершил великое движение, которое ведет литературу воображения к правде.
‹…›
Другие, близко знавшие его, расскажут о повседневной жизни этого трудолюбивого мастера; оберегая свое литературное достоинство, ненавидя рекламу репортеров, будучи врагом всякого шарлатанства, он хотел отдавать читателям только свои книги – свое творчество, но не свою личную жизнь. Друзья расскажут о его чувствительном и нежном сердце, о Флобере – друге и сыне, который под внешним равнодушием и разочарованием скрывал самые добрые чувства.
Мы же, мало его зная, но не менее других восхищаясь им, хотим воздать высшие почести этому великому писателю, оставившему нам свои шедевры…»
Этих строк было бы достаточно, чтобы избавить меня от всяких сомнений, если б даже я не сохранил навсегда в памяти живых слов, сказанных Клареси над гробом Флобера, слов горячих, взволнованных, шедших от самого сердца и сильно содействовавших той симпатии, которую я с тех пор сохранил к автору «Господина министра».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.