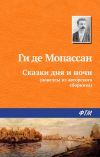Текст книги "Зверь дяди Бельома"

Автор книги: Ги де Мопассан
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Мм опять принялись за обед, но тревога не покидала нас; мы чувствовали: это не конец, что-то еще должно произойти, и колокол вот-вот зазвонит вновь.
И он зазвонил как раз в ту минуту, когда матушка начала резать крещенский пирог. Мужчины, все как один, встали. Дядя Франсуа, который уже хлебнул шампанского, объявил, что убьет «его», объявил с такой злобой, что матушка и тетя, желая его утихомирить, бросились к нему. Отец, вообще человек очень спокойный и даже до известной степени беспомощный (однажды, свалившись с лошади, он сломал себе ногу и с тех пор приволакивал ее), теперь заявил, что хочет узнать, в чем дело, и пойдет вместе с дядей. Мои братья, одному из которых было тогда восемнадцать, а другому двадцать лет, побежали за ружьями; на меня особого внимания не обращали, но я схватил дробовик и решил присоединиться к экспедиции.
Вскоре мы двинулись в путь. Впереди шли отец и дядя, сопровождаемые Батистом, который нес фонарь. За ними следовали мои братья Жак и Поль, а позади всех плелся я, несмотря на уговоры матери, которая осталась стоять на пороге вместе со своей сестрой и моими двоюродными сестрами.
За час до того снова повалил снег, засыпавший деревья. Ели, которые стали похожи на белые пирамиды, на огромные сахарные головы, сгибались под тяжестью этого иссиня-белого покрова; сквозь серую пелену мелких, быстро падавших хлопьев едва виднелись тоненькие кустики, в темноте казавшиеся совсем белыми. Снег валил до того густой, что в десяти шагах ничего не было видно. Но фонарь бросал перед нами яркий свет.
Когда мы начали спускаться по винтовой лестнице, вырубленной в стене, я, признаться, струсил. Мне показалось, что за мной кто-то идет, что вот-вот кто-то схватит меня за плечи и утащит. Мне захотелось вернуться, но для этого пришлось бы снова пройти через сад, а на это у меня не хватало храбрости.
Я услышал, что калитка, выходившая на равнину, отворяется; дядя снова начал браниться: «Опять он удрал, дьявол его задави! Ну попадись ты только мне на глаза, уж я не промахнусь, сукин ты сын!»
Страшно было смотреть на равнину или, вернее, догадываться, что она перед тобой: ведь ее не было видно; видна была только бесконечная снежная завеса вверху, внизу, впереди, направо, налево – куда ни глянь.
«А собака-то опять воет! Что ж, я покажу ей, как я стреляю! Хоть до нее-то доберусь!» – снова услышал я голос дяди.
Но тут же я услышал голос доброго моего отца:
«Лучше пойдем и возьмем к себе бедное животное, ведь оно воет от голода. Несчастный пес зовет на помощь, он обращается к нам, как обратился бы человек, попавший в беду! Пойдем к нему».
И мы тронулись в путь сквозь эту завесу, сквозь этот непрерывный, густой снегопад, сквозь эту пену, заполнявшую собой и ночь и воздух, колыхавшуюся, колебавшуюся, падавшую и таявшую на коже, леденившую тело, леденившую так, как будто его пронзало сквозь кожу острой, мгновенной болью при каждом прикосновении крошечных белых хлопьев.
Мы увязали по колено в мягкой, холодной массе; чтобы сделать шаг, приходилось высоко поднимать ногу. По мере того как мы продвигались вперед, вой собаки становился все слышнее и громче. Вдруг дядя вскрикнул:
«Вот она!» Все остановились, чтобы рассмотреть собаку, как это делают, встретив ночью врага.
Я ровно ничего не видел, но все-таки догнал взрослых и разглядел собаку, казавшуюся страшным, фантастическим созданием; это была большая черная овчарка с длинной шерстью и волчьей мордой, стоявшая в самом конце длинной световой дорожки, которую оставлял на снегу наш фонарь. Собака не двигалась; она замолкла и только смотрела на нас.
«Странно: она не подходит к нам и не убегает. Мне смерть хочется всадить в нее пулю», – сказал дядя.
«Нет, надо взять ее с собой», – решительно возразил ему мой отец.
А мой брат Жак заметил: «Да ведь она не одна! Рядом с ней что-то стоит».
И в самом деле, за собакой стояло что-то серое, неразличимое. Все осторожно двинулись вперед.
Видя, что мы подходим, собака села. Она вовсе не казалась злой. Похоже было, что она скорее довольна, что люди пришли на ее зов.
Отец направился прямо к собаке и погладил ее. Она стала лизать ему руки, и тут мы увидели, что она привязана к колесу коляски, похожей на игрушечную тележку, обернутую несколькими шерстяными одеялами. Кто-то из нас бережно развернул одеяла, и, когда Батист поднес фонарь к дверце колясочки, напоминавшей гнездышко на колесах, мы увидели там спящего ребенка.
Мы были до такой степени поражены, что не могли произнести ни слова. Отец первым пришел в себя, и, так как он был человеком отзывчивым и к тому же несколько восторженным, он положил руку на верх колясочки и сказал: «Несчастный подкидыш! Мы возьмем тебя к себе!» И велел Жаку катить нашу находку впереди всех.
Думая вслух, отец заговорил снова: «Это дитя любви; несчастная мать позвонила в мою дверь в ночь накануне Богоявления, прося нашего милосердия ради Христа».
Он снова остановился и, подняв голову к ночному небу, во весь голос четырежды крикнул на все четыре стороны: «Мы взяли ребенка!» Затем положил руку брату на плечо и прошептал: «Франсуа! А что было бы, если бы ты выстрелил в собаку?»
Дядя ничего не ответил, но широко перекрестился в темноте: несмотря на все свое фанфаронство, он был очень религиозен.
Собаку отвязали, и она пошла за нами.
Господи, до чего же радостным было наше возвращение домой! Правда, немалого труда стоило нам втащить коляску по лестнице, прорубленной в стене, но в конце концов мы все-таки вкатили ее прямо в прихожую.
Какая смешная была мама, как она была рада и как растеряна! А четыре мои двоюродные сестры, совсем еще крошки, – самой младшей было шесть лет, были похожи на четырех куропаточек, прыгающих вокруг гнезда.
Наконец так и не проснувшегося ребенка вытащили из коляски. Оказалось, что это девочка, которой было месяца полтора. В ее пеленках обнаружили десять тысяч франков золотом – да, да, можешь себе представить? – десять тысяч франков! Папа положил их в банк – ей на приданое. Да уж, на дочь бедняков эта девочка была не похожа… Скорее, это была дочь дворянина и простой женщины из нашего города… а может быть… Словом, мы строили уйму самых разнообразных предположений, но истины так никогда и не узнали…
Ничего и никогда… Ничего и никогда… Да и собаку никто в наших краях не признал. Она была нездешняя. Как бы то ни было, тот или та, кто трижды позвонил в нашу дверь, хорошо знал моих родителей, коль скоро выбор его пал на них.
Вот таким-то образом, полутора месяцев от роду, мадемуазель Перль появилась в доме Шанталей.
Впрочем, «мадемуазель Перль» ее прозвали гораздо позже. А при крещении ей дали имя Мари-Симона-Клер, причем имя Клер должно было впоследствии стать ее фамилией.
Откровенно говоря, наше возвращение в столовую с проснувшейся малюткой, глядевшей на людей, на огни испуганными голубыми глазенками, со стороны могло показаться довольно забавным.
Мы опять сели за стол, и каждый получил свою порцию пирога. Королем оказался я, и я избрал королевой мадемуазель Перль, как сегодня – ты. Только в тот день она вряд ли понимала, какая ей оказана честь.
Девочку приняли в нашу семью и воспитали. Шли годы; девочка выросла. Она была хорошенькой, ласковой, послушной. Все ее любили и, вероятно, страшно избаловали бы, если б этому не мешала матушка.
Матушка была женщиной строгих правил и неукоснительно придерживалась сословной иерархии. Она согласна была относиться к Клер, как к родным детям, но считала нужным, чтобы разделявшее нас расстояние не сокращалось ни на йоту и чтобы положение девочки в семье было определено совершенно точно.
И вот, едва она подросла настолько, что могла понимать такие вещи, матушка рассказала ей ее историю и очень деликатно, даже мягко, внушила ей, что она не родная дочь, а приемыш, и что в семье Шанталей она, в сущности говоря, чужая.
Клер поняла свое положение и повела себя удивительно умно и поразительно тактично: она сумела занять и сохранить то место, которое ей отвели, с таким неподдельным добродушием, непринужденностью и чуткостью, что отец не раз бывал тронут до слез.
Да и матушка была так растрогана горячей благодарностью и какой-то робкой привязанностью этого милого, ласкового создания, что стала называть Клер «дочкой». Порой, когда малютка проявляла особую добросердечность или деликатность, она, подняв очки на лоб, – это всегда служило у нее признаком волнения, – повторяла: «Нет, этот ребенок просто перл, настоящий перл!» Это прозвище привилось к маленькой Клер, и она, как была, так и осталась для нас «мадемуазель Перль».
IV
Господин Шанталь умолк. Он сидел на бильярдном столе и болтал ногами; левой рукой он сжимал бильярдный шар, а правой теребил тряпку, которой мы стирали записи на грифельной доске и которая называлась у нас «меловой тряпкой». Слегка покраснев, он погрузился в воспоминания и теперь уже глухим голосом разговаривал сам с собой и тихонько брел по далекому прошлому, среди событий, которые давно миновали и которые сейчас возникали в его памяти, – так бродим мы по старинному родовому парку, в котором мы росли и где каждое деревце, каждая дорожка, каждый кустик – и колючий остролист, и душистый лавр, и тис, красные сочные ягоды которого лопаются у нас в пальцах, – на каждом шагу воскрешают какую-нибудь мелочь из былого, одну из тех незначительных, но милых сердцу мелочей, которые и создают самую основу, самую сущность нашей жизни.
А я стоял напротив него, прислонившись к стене и опираясь на ненужный бильярдный кий.
Помолчав с минуту, он продолжал:
– Господи, как она была хороша в восемнадцать лет!.. Как грациозна!.. Как прекрасна!.. Да, хороша… хороша… хороша… и добра… и благородна… Чудесная девушка!.. А глаза у нее были… глаза у нее были голубые… прозрачные… ясные… Таких глаз я никогда больше не видел… Никогда!..
Он опять помолчал. Я спросил:
– Почему она не вышла замуж?
Он ответил не мне, а на слово «замуж», которое дошло до него.
– Почему? Почему? Да потому, что не захотела… не захотела. А ведь у нее было тридцать тысяч франков приданого, и ей делали предложение не один раз… А она вот не захотела! Она все почему-то грустила. Это было как раз в то время, когда я женился на моей кузине, на малютке Шарлотте, на моей теперешней жене – я был ее женихом целых шесть лет.
Я смотрел на Шанталя, и мне казалось, что я проник в его душу, внезапно проник в одну из тех тихих и мучительных драм, которые совершаются в сердцах честных, в сердцах благородных, в сердцах безупречных, в тех замкнутых и непроницаемых сердцах, каких не знает никто, даже те, кто стал их безмолвной и покорной жертвой.
И вдруг, подстрекаемый дерзким любопытством, я сказал:
– Вот на ком вам надо было жениться, господин Шанталь!
Он вздрогнул и посмотрел на меня.
– Мне? На ком? – переспросил он.
– На мадемуазель Перль.
– На мадемуазель Перль? Но почему?
– Потому что ее вы любили больше, чем вашу кузину.
Он смотрел на меня странными, округлившимися, испуганными глазами.
– Я любил ее?.. Я? Что? Кто тебе сказал? – лепетал он.
– Да это же ясно как день, черт побери!.. Ведь это из-за нее вы без конца оттягивали свадьбу с вашей кузиной, которая ждала вас целых шесть лет!
Он выронил шар, который держал в левой руке, обеими руками схватил «меловую тряпку» и, закрыв ею лицо, зарыдал. Он рыдал безутешно и в то же время комично: у него лилось из глаз, из носу, изо рта – так льется вода из губки, которую выжимают. Он кашлял, плевал, сморкался в «меловую тряпку», вытирал глаза, чихал, и опять у него лило из всех отверстий лица, а в горле булькало так, что можно было подумать, будто он полощет горло.
А я, перепуганный и пристыженный, хотел удрать: я не знал, что сказать, что делать, что предпринять.
Внезапно на лестнице раздался голос г-жи Шанталь:
– Скоро вы кончите курить?
Распахнув дверь, я крикнул:
– Да, да, сударыня, сейчас спустимся!
Потом я бросился к ее мужу и схватил его за локти.
– Господин Шанталь, друг мой Шанталь, послушайте меня: вас зовет жена, успокойтесь, успокойтесь как можно скорее; нам пора идти вниз; успокойтесь!
– Да, да… я иду… Бедная девушка!.. Я иду… Скажите Шарлотте, что я сейчас приду, – пробормотал он.
И он принялся тщательно вытирать лицо тряпкой, которой года три стирали записи на грифельной доске. Когда же наконец он отложил тряпку, лицо его было наполовину белым, наполовину красным; лоб, нос, щеки и подбородок были вымазаны мелом, а набрякшие глаза все еще полны слез.
Я взял Шанталя за руку и увлек в его комнату.
– Простите меня, пожалуйста, простите меня, господин Шанталь, за то, что я сделал вам больно… Но я же не знал… Вы… вы понимаете… – шептал я на ходу.
Он пожал мне руку.
– Да, да… Бывают трудные минуты…
Тут он окунул лицо в таз, но и после умывания вид у него, как мне казалось, был не весьма презентабельным, и тогда я решил пуститься на невинную хитрость. Видя, что он с беспокойством рассматривает себя в зеркале, я сказал.
– Скажите, что вам в глаз попала соринка, – это будет самое простое. Тогда вы сможете плакать при всех сколько угодно.
В самом деле: спустившись вниз, он принялся тереть глаз носовым платком. Все встревожились; каждый предлагал вытащить соринку, которой, впрочем, так никто и не обнаружил, все рассказывали такого рода случаи, когда приходилось обращаться к врачу.
А я подсел к мадемуазель Перль и стал всматриваться в нее, снедаемый жгучим любопытством, любопытством, превращавшимся в пытку. В самом деле, когда-то она, несомненно, была очень хороша; у нее были кроткие глаза, такие большие, такие ясные и так широко раскрытые, что, казалось, она никогда не смыкает их, как прочие смертные. Но платье на ней, типичное платье старой девы, было довольно смешное; оно портило ее, хотя и не придавало ей нелепого вида.
Мне казалось, что я читаю в ее душе так же легко, как совсем недавно читал в душе Шанталя, что передо мной от начала до конца проходит вся ее жизнь, жизнь тихая, скромная, самоотверженная; но я чувствовал потребность, непреодолимую потребность задать ей вопрос, узнать, любила ли и она его и так ли любила, как он, страдала ли она, как и он, долгим, тайным, мучительным страданием, которого никто не видит, о котором никто не знает, о котором никто не догадывается, но которое прорывается ночью, в одиночестве темной комнаты. Я смотрел на нее, я видел, как бьется ее сердце под корсажем со вставкой, и спрашивал себя: неужели это чистое, кроткое создание каждый вечер заглушало стоны влажной, мягкой подушкой и, сотрясаясь от рыданий, лихорадочно металось по жаркой постели?
И я тихонько сказал ей – так делают дети, когда ломают игрушку, желая посмотреть, что там внутри:
– Если бы видели, как сейчас плакал господин Шанталь, вы бы его пожалели.
Она вздрогнула:
– Что? Плакал?
– Да, плакал, и еще как!
– Но почему?
Она была очень взволнована.
– Из-за вас, – ответил я.
– Из-за меня?
– Ну да! Он рассказывал мне, как горячо он вас когда-то любил и чего ему стоило жениться на кузине, а не на вас…
Мне показалось, что ее лицо сразу осунулось; ее глаза, обыкновенно такие ясные и так широко раскрытые, внезапно смежились, да так плотно, что можно было подумать, будто они сомкнулись навеки. Она соскользнула со стула и медленно, тихо опустилась на пол, словно упавший шарф.
– Помогите! Помогите! Мадемуазель Перль дурно! – закричал я.
Госпожа Шанталь и ее дочери бросились к ней, и пока они сновали взад и вперед с водой, уксусом, салфеткой, я взял шляпу и незаметно вышел на улицу.
Я шел большими шагами; сердце мое было в смятении, душу терзали сожаления и угрызения совести. И в то же время я был доволен собой: мне казалось, что я совершил нечто похвальное и необходимое.
«Правильно я поступил или не правильно?» – спрашивал я себя. Любовь засела у них в сердцах, как пуля в затянувшейся ране. Может быть, с этого дня у них станет легче на душе? Теперь уже поздно вновь переживать любовные муки, но есть еще время для того, чтобы с нежностью вспоминать о них.
И, быть может, будущей весной, как-нибудь вечером, они, взволнованные лунным лучом, который упадет сквозь ветви деревьев на траву у их ног, возьмутся за руки, и это рукопожатие напомнит им все их тайные и жестокие страдания; а может быть, от быстрого пожатия по этим мгновенно воскресшим мертвецам пробежит легкий, неизведанный ими трепет и подарит им мимолетное, божественное, упоительное ощущение, то безумие, благодаря которому влюбленные за один краткий миг познают такое великое счастье, какого иные не изведают за всю свою жизнь!
Статьи и очерки
(в переводе Е. Шишмаревой)
Гюстав Флобер (I)
I
Среди писателей, чьи имена сохранятся для потомства, иной раз встречаются художники, занимающие совсем особое место в силу исключительного совершенства и своеобразия своего творчества. В отличие от тех, кто пишет чересчур много, смешивая редкое с банальным, удачные находки с избитыми фразами, – так что критику и читателю приходится проделывать тяжелую работу, чтобы отделить ценное, что должно сохраниться, от того, что будет предано забвению, – эти художники, рождающие в муках, создают законченные произведения, совершенные как в целом, так и во всех деталях. И если даже не все их произведения пользуются у читателей одинаковым успехом, то хотя бы одна из их книг всегда остается в истории литературы с маркой «шедевр», подобно картинам великих мастеров, помещенным в квадратном зале Лувра.
Гюстав Флобер написал пока только четыре книги, но все они будут жить. Возможно, что лишь одна из них будет признана шедевром, однако и остальные, несомненно, заслуживают этого в равной степени.
Все читали «Госпожу Бовари», «Саламбо», «Воспитание чувств» и «Искушение святого Антония». Журналы столько раз помешали анализ этих произведений, что я не собираюсь возвращаться к ним снова. Я хочу говорить об общем направлении творчества Флобера и постараюсь вскрыть в нем такие черты, которые, быть может, остались не замеченными широким читателем.
II
Когда появилась «Госпожа Бовари», люди, которые обо всем толкуют вкривь и вкось, ни в чем хорошенько не разбираясь, и спешат, как только появится книга в новом, неизвестном для них жанре, привесить к ней в виде ярлыка свою глупую, но, по их мнению, неоспоримую оценку, заявили во всеуслышание, что Флобер – реалист, а это, по их понятиям, означало материалист.
С тех пор он напечатал античную поэму «Саламбо» и «Святого Антония» – квинтэссенцию философской мысли. И что же? Авторитетные критики окрестили его материалистом, и он так и остался «материалистом» в ограниченном представлении обывателей.
Здесь не место писать об истории современного романа и объяснять причины глубокого волнения, вызванного появлением первой книги Флобера. Достаточно указать на главную из этих причин.
С давних пор французский читатель с наслаждением упивался слащавым сиропом неправдоподобных романов. Он увлекался героями, героинями и событиями, каких никогда не бывает в жизни, лишь по той причине, что они представлялись ему несбыточной мечтой. Авторов таких книг называли идеалистами только потому, что они всегда находились на неизмеримо далеком расстоянии от всего возможного, жизненного, реального. Что же касается идей, то у автора подчас их было еще меньше, чем у читателя. Бальзак вначале почти не обратил на себя внимания, тогда как он был исключительно мощным и плодовитым писателем, новатором, одним из художников будущего; конечно, он не во всем достиг совершенства, он не вполне владел фразой, но создал бессмертных героев, показав их как бы через увеличительное стекло, и они казались более яркими и даже как будто более правдивыми, чем в реальной жизни! Но вот появилась «Госпожа Бовари», и все были потрясены. Почему? Потому, что хотя Флобер и идеалист, но он, кроме того и прежде всего, художник, и книга его правдива. И потому еще, что читатель, не отдавая себе отчета, бессознательно и незаметно подпадает под властное воздействие стиля, под обаяние яркого искусства, озаряющего каждую страницу этой книги.
В самом деле, первое качество Флобера, которое, по-моему, сразу бросается в глаза, как только раскрываешь его книгу, – это совершенство формы, качество, столь редкое у писателя и столь незаметное для публики; я сказал «незаметное», однако его сила властно покоряет даже тех, кто меньше всего чувствует форму, так же как солнечные лучи согревают слепого, хотя он и не видит их источника.
Обычно широкая публика называет «формой» определенное сочетание слов, расположенных в закругленные периоды, фразы со звучным вступлением и мелодическим понижением интонации в конце, а поэтому она в большинстве случаев и не подозревает, какое громадное искусство заключено в книгах Флобера.
У него форма – это само произведение: она подобна целому ряду разнообразных форм для литья, которые придают очертания его идее, то есть тому материалу, из которого писатель отливает свои произведения. Форма сообщает его творениям изящество, силу, величие – те качества, которые, если можно так выразиться, содержатся в разрозненном виде в самой мысли и выявляются лишь тогда, когда они выражены словом. Форма бесконечно разнообразна, как и те ощущения, впечатления и чувства, которые она облекает, будучи неотделимой от них. Она соответствует всем их изгибам и проявлениям, находя единственное и точное слово, нужное для их выражения, особый размер и ритм, необходимый в каждом отдельном случае для каждой вещи, и создает в этом неразрывном единстве то, что писатели называют стилем, причем это совсем не тот стиль, которым принято восхищаться.
В самом деле, стилем обычно называют особое строение фразы, свойственное каждому писателю, подобное той неизменной форме, в которую он вливает все те мысли, какие хочет выразить. Таким образом, можно сказать, что существует стиль Пьера, стиль Поля, стиль Жака.
У Флобера нет своего стиля, и однако он мастер стиля; это значит, что, высказывая какую-нибудь мысль, он всегда находит для нее такое выражение и композицию, которые абсолютно соответствуют этой мысли, и его художественная манера проявляется в точности, а не в оригинальности слова.
III
«Вне стиля нет книги» – таков мог бы быть его девиз. В самом деле, он считает, что первой заботой художника должно быть стремление к красоте, ибо красота сама по себе является истиной, и то, что прекрасно, всегда правдиво, тогда как то, что правдиво, может и не быть прекрасным. При этом под красотой я подразумеваю не нравственную красоту и благородные чувства, но красоту пластическую, единственно доступную художнику. Безобразное и отталкивающее явление, в зависимости от того, как оно будет выражено, может вопреки своей сущности приобрести отвлеченную красоту, тогда как самая правдивая и самая прекрасная мысль неизбежно пропадает, если она выражена безобразной, плохо построенной фразой. К этому следует добавить, что многие читатели до сих пор ненавидят слово «форма», ибо люди всегда ненавидят то, чего не могут понять.
Итак, Флобер – прежде всего художник; это значит писатель объективный. Я мог бы предложить кому угодно, прочитав все его произведения, отгадать, что он собой представляет в частной жизни, о чем он думает и о чем говорит в домашней обстановке. Известно, что мог думать Диккенс, что мог думать Бальзак. Они постоянно присутствуют в своих книгах; но можете ли вы себе представить, каким был Лабрюйер, что мог сказать великий Сервантес? Флобер ни разу не написал слов «я», «меня». В своих книгах он никогда не беседует с читателем, не прощается с ним в конце романа, подобно актеру на сцене, и никогда не пишет предисловий. Он показывает людей-марионеток, за которых ему приходится говорить, однако он никогда не позволяет себе думать за них и, тщательно скрывая двигающие их нити, старается, чтобы публика не узнала его голоса.
Он сын Апулея, сын Рабле, сын Лабрюйера, сын Сервантеса и брат Готье; у него гораздо меньше родства с Бальзаком, чем обычно считают, и еще меньше – с философом Стендалем.
Флобер – писатель трудного искусства, одновременно простого и сложного: сложного своей искусной, продуманной композицией, делающей его произведения на редкость убедительными, и внешне очень простого, настолько простого и естественного, что обыватель с его представлением о стиле, читая Флобера, никогда не воскликнет: «Черт возьми, как красиво написано!»
Он угадывает так же верно, как Бальзак, он видит так же верно, как Стендаль и многие другие; но передает он более верно, чем они, лучше и более просто, несмотря на стремление Стендаля к простоте, которая у него, в сущности, является лишь сухостью, и на старания Бальзака писать красиво, старания, слишком часто приводящие к перегруженности напыщенными образами, ненужными перифразами, местоимениями «который», «которая»; они делают Бальзака неуклюжим, и он, подобно человеку, собравшему для постройки дома слишком много материалов и не умеющему выбирать, употребляет их все, возводя здание, которое при всей своей грандиозности было бы гораздо более прекрасным и долговечным, будь он больше архитектором, чем каменщиком, больше художником, чем субъективным писателем.
Огромная разница между ними заключается в следующем: Флобер – великий художник, а большинство писателей – нет. Он безучастно высится над страстями, которые приводит в движение. Вместо того чтобы смешаться с толпой, он уединяется в башне, наблюдая оттуда происходящее на земле; и когда человеческие головы не заслоняют ему общий вид, он лучше схватывает целые группы, точнее улавливает пропорции, создает более четкий план, видит более далекие горизонты.
Он тоже строит свое здание, но он знает, какие следует употребить материалы, и без колебания отбрасывает все лишнее. Вот почему его творение совершенно, и из него нельзя выкинуть ни одной частицы, не нарушив обшей гармонии, тогда как можно сделать сокращения и у Бальзака, и у Стендаля, как и у многих других, и этого не заметит самый тонкий наблюдатель.
IV
Он не считает, как некоторые писатели, что достаточно ума и вдохновения, стечения обстоятельств и темперамента, чтобы создать книгу, что изучение предмета излишне и долгие изыскания бесполезны, ибо он из породы людей прежнего поколения, знавших очень много. В отличие от тех, кто не подозревает, что мир существовал до 93-го года и что люди научились писать до 1830-го, он размышлял, подобно Пантагрюэлю, о всех ученых прошлого. Он знает историю лучше любого профессора, так как находил ее в таких книгах, где они и не думают ее искать, и для своих произведений изучил множество наук, доступных лишь специалистам. Он лучше, чем согбенные над книгами ученые, знает генеалогии умерших городов и исчезнувших народов, их обычаи, нравы, ткани, в которые они одевались, и странные кушанья, которые они особенно любили. Он толкует Талмуд, как настоящий раввин, Евангелие – как священник, Библию – как протестант и Коран – как дервиш. Он изучил связь между различными верованиями, философиями, религиями и ересями. Он перерыл все литературы, делая выписки из многих неизвестных книг: из одних, потому что они редко встречаются, из других, потому что никто их не читает. Он знает почти никому не известных гениальных писателей, порожденных эпохами упадка различных народов, комментаторов и библиографов; ему знакомы книги еретические наряду с книгами священными, жития святых и отцов церкви – наряду с книгами таких авторов, чьи имена люди стыдливые не посмеют назвать. В минуты возмущения и гнева он собрал, чтобы поделиться с нами, целый том ошибок, сделанных писателями, не владеющими стилем, варваризмов, допущенных грамматиками, заблуждений мнимых ученых, всевозможных незамеченных погрешностей и нелепостей, которыми он собирается заклеймить общество.
V
Журналисты не знают его в лицо.
Он считает, что достаточно отдавать публике свои произведения, и всегда избегает личной популярности. Он презирает крикливую газетную шумиху, всякие рекламы и выставки фотографий в витринах табачных магазинов, где он мог бы оказаться рядом с известным преступником, иностранным принцем или знаменитой проституткой.
У него бывает только небольшое число друзей-писателей, любящих его так, как никогда не любят собратьев по перу и редко любят родственников, ибо он возбуждает к себе глубокую привязанность.
Но так как он не выставляет свою особу напоказ любопытной толпе, жадно глазеющей на окна знаменитых людей, как на клетку диковинного зверя, то вокруг его дома создаются легенды, и очень может быть, что некоторые из его сограждан всерьез обвиняют его в том, что он питается мясом буржуа. Впрочем, в этом столько же правды, сколько и в рассказе о знаменитом обеде из колбасных изделий, данном Сент-Бёвом в страстную пятницу, обеде, который в изображении хорошо осведомленных, а главное, должным образом инспирированных журналистов превратился под конец в недопустимую клевету.
В заключение, чтобы удовлетворить любопытство людей, всегда желающих знать частные подробности, я сообщу им, что Флобер ест, пьет и курит точно так же, как и они, что он высокого роста, и когда гуляет со своим закадычным другом Иваном Тургеневым, они кажутся рядом двумя великанами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.