Текст книги "Люди среди деревьев"
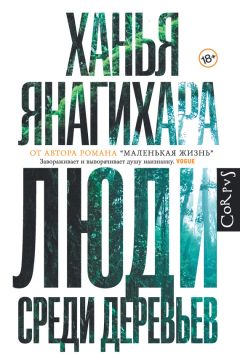
Автор книги: Ханья Янагихара
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Трудно было не впасть в уныние. Даже Таллент, не блиставший способностью замечать повседневные настроения обычных людей, в какой-то момент поравнялся со мной.
– Не переживайте, Нортон, – сказал он, протягивая мне плод манамы (побитый, распираемый деловитыми хуноно), в нелюбви к которому я на тот момент уже не стеснялся признаться.
Еще труднее было смириться с тем, что, желая придать процессу больше научной строгости и логики, я нечаянно дал Талленту и Эсме еще больше пищи для их сказки. Я настоял на повторном опросе всех наших найденышей в надежде определить их истинный возраст. Однако это оказалось труднее, чем я думал, главным образом потому, что на Иву’иву происходило очень мало хронологически зафиксированных событий: здесь у них не было представления о короле, о времени, об истории. Они никогда раньше не видели хо’оалу и продолжали молча разглядывать нас поодиночке и группами, а те, что посмелее, трогали наши запястья и пытались заглянуть нам в шорты, бесхитростно подражая нашему изучению их самих, но это неведение нам нисколько не помогало, потому что ни один хо’оала до сих пор не ступал на землю Иву’иву. Одним из самых запоминающихся событий минувших десятилетий (я не мог заставить себя сказать «минувшего столетия») было появление Вану – Ика’ана, Ви’иу, Иваива и Ва’ана утверждали, что помнят тот день. Каждый рассказывал историю немного иначе, чем остальные, с разными украшениями и отступлениями (по словам Ви’иу, Вану появился, как микронезийский Вишну, на спине гигантского, медленно ползущего опа’иву’экэ), но помнили все: худенький мальчишка Вану в смешных порванных штанах из тавы, такой юный, что еще не получил первого копья. Близняшки уверяли, что выходили замуж, когда внезапно, прервав торжества, появился Вану, который не мог оторвать глаз от свиной туши, жарившейся над костром для свадебного пиршества[32]32
Девочки, как правило, выходили замуж в четырнадцатилетнем возрасте, так что если Иваива и Ва’ана говорили правду, в 1950 году им было примерно по 133 года.
[Закрыть]. Только Укави сказала, что родилась слишком поздно, чтобы увидеть пришествие Вану. Но потом она вспомнила, что девочкой смотрела, как он женится. Как и у остальных, ее воспоминания становились все более детальными и уверенными по мере удаления в прошлое.
– Он должен был жениться лет в семнадцать, – сказал позже Таллент, держа ручку наготове перед раскрытым блокнотом. – Так что Укави родилась вскоре после его появления, то есть ей сколько – сто девять? Сто восемь? Где-то так.
Но по-настоящему их с Эсме взволновала история Ика’аны. Потому что Ика’ана, как оказалось, родился за пять лет до великого землетрясения, события, которое помнили все на Иву’иву. Для островов это была ужасная катастрофа, отдаленный гул которой ощущался даже на Фиджи к западу и на Гавайях к северу. У’ивская мифология объясняла это как страстную любовную ссору между Иву’иву и А’акой (причин размолвки, похоже, никто не знал), войну, в ходе которой каждое божество, надеясь уничтожить соперника, использовало все доступное вооружение: А’ака призывал своих братьев, небесных богов, насылать ради него яростные бури, а Иву’иву поднимал воды гигантскими волнами, которые возносились так высоко в небо, что почти задевали солнце. После того как все закончилось, они больше никогда не ссорились, отчасти (так гласила легенда) потому, что поняли: силы их равны, и ни одному не удастся одолеть другого, а отчасти потому, что их старый и кроткий друг Опа’иву’экэ умолял их прекратить, и оба бога не могли вынести его страданий. По-у’ивски землетрясение называлось Ка-Веха, «схватка».
– Я был ребенком, когда случилась Ка-Веха, – сказал Талленту Ика’ана. – Но помню, как земля подо мной разверзлась и треснула, словно плод но’аки[33]33
Но’ака – близкий родственник кокоса, круглый, похожий на тыкву плод, который растет на лозах (как арбуз) и вырастает примерно до размера мускатной дыни. На У’иву их обычно называют ука моа, то есть «плод-вепрь», из-за сходства жестких черных волосков, покрывающих поверхность плода, с щетиной вепря.
[Закрыть], и как мать, ухватив меня, помчалась в заросли папоротников лава’а и пряталась там, пока боги не перестали ссориться. И помню, как мы пробирались обратно в деревню: огни, на которых готовилась еда, расползлись вокруг, малэ’э горели, и мать сказала, что нам повезло, потому что начинается ‘уака, скоро пойдут дожди, и мы спасемся. В ту ночь мы молились и танцевали во имя богов и их благополучия, и с тех пор они больше никогда не ссорились.
Он много чего еще рассказывал, и Таллент наклонялся к нему, задавал вопросы, писал и писал, но больше мне ничего не переводил, а когда я спросил, что еще поведал Ика’ана, он только задумчиво ответил, что ему нужно это немного обдумать.
– Обдумать что? – спросил я, но он промолчал.
Существенно же было следующее: Ка-Веха случилась в 1779 году. Ика’ане, получается, было примерно сто семьдесят шесть лет.
– Не может быть, – запротестовал я, чувствуя, как паника снова поднимается и почти душит меня.
– Сейчас 1950 год, – ответил Таллент спокойно, но с некоторым напряжением в голосе: я начинал его раздражать. – Во время Ка-Вехи ему было пять. Математика не лжет, Нортон.
Математика не лгала. Но все остальное лгало. Таллент, по крайней мере, не ошибался в одном: был 1950 год. В нескольких ярдах от нас сидел Ика’ана со слегка слезящимися глазами и ел свою порцию «Спама». Рядом с ним сидел Фа’а, то растопыривая пальцы, то снова обхватывая ими древко своего копья. И хотя от меня их отделяло всего несколько шагов, просто глядя на них, нельзя было сказать, кто из них моложе, а кто старше, кто безумец, а кто на моей стороне.
Часть IV
Девятая хижина
1
Я сказал и буду дальше говорить «деревня», но на самом деле это вовсе не была деревня – просто большая грунтовая поляна примерно с двадцатью пятью лохматыми хижинами из сухой пальмы, стоящими в круг, которая появилась внезапно, как мираж.
Мы напоролись на совершенно непроходимые заросли деревьев, проводники с хмыканьем продирались сквозь них, сновидцы шли следом своим спотыкающимся, разболтанным шагом. Эсме, Таллент и я замыкали колонну, и хотя путь начался в лесу, протолкавшись сквозь заросли манамы, мы вышли на окраину деревни.
Первое, что я увидел, – это тела. Они были повсюду: женщины, распластанные на спине, в глубь их подмышек заталкивали головы дети; мужчины с широко раскинутыми ногами и открытыми ртами; множество вепрей, подобравших передние ноги под себя наподобие кошек, с черной и блестящей щетиной, как иглы дикобраза. В середине поляны сам по себе щелкал и трещал небольшой костер. Над огнем было размещено не поддающееся определению освежеванное животное, меньше вепря, почерневшее там, где его лизали языки пламени, с нетронутыми пока глазами, которые злобно смотрели на нас.
Нашим глазам словно предстали последствия резни, массовой гибели, и только присмотревшись внимательнее, я увидел, что груди женщин колышутся, что большие пальцы мужчин мечтательно поглаживают копья, которые они не перестают сжимать даже во сне, и что щетки жестких волос на рылах вепрей шевелятся и дрожат при каждом выдохе.
Первым заговорил Фа’а, и я хоть и не понимал слов, но услышал по голосу, что он не удивлен[34]34
Деревенские жители были погружены в свою лили’ику, или «маленький сон», который традиционно начинается после полуденного приема пищи и продолжается несколько часов. Лили’ика, вероятно, возникла в силу необходимости; в жаркие месяцы работать при клонящемся к закату солнце просто слишком трудно. Кроме того, иву’ивцы бодрствовали до поздней ночи, потому что именно в это время происходила самая активная охота (из числа любимой иву’ивской дичи многие животные – ночные).
Хотя миссионеры и не смогли, как замечает Нортон, привлечь на свою сторону большое число обращенных, их немногочисленные посланники все же убедили короля, что лили’ика – довольно отсталый обычай, который помешает расцвету страны, отчего король Туимаи’элэ в 1930 году отменил лили’ику, и это достижение миссионеров оказалось одним из самых значительных. Однако на Иву’иву традиция сохранилась, потому что, как отмечает Нортон, они ничего не знали про короля, не говоря уж о королевстве.
На этих страницах Нортон почти не упоминает короля Туимаи’элэ, но по всем свидетельствам это был незаурядный человек. Туимаи’элэ был ровесник двадцатого века (то есть в момент прибытия Нортона на остров ему было пятьдесят) и правил с двенадцатилетнего возраста. Его отношения с набирающими силу западными обычаями складывались непросто. С одной стороны, он, несомненно, слышал рассказы о том, как его дед король Маку запретил ка’ака’а, заклеймив этот обычай как варварский и отсталый, вероятно, под прямым влиянием протестантских миссионеров, у которых все еще оставалось небольшое прибежище на северном берегу У’иву. Но он слышал и рассказы о своем отце, короле Ваке’элэ, который в 1875 году еще был ребенком, но уже царствовал и изгнал последних миссионеров вскоре после катастрофического цунами, которое уничтожило большую часть их зарождающегося поселения.
Царствование Туимаи’элэ было отмечено крайне заинтересованным отношением к Западу – для короля это было место запретное и потому увлекательное, – с которым можно сравнить разве что крайнюю подозрительность к нему же. Говорят (хотя письменных свидетельств об этом нет), что Ваке’элэ особенно сильно разозлился на миссионеров, когда они ему сказали, что если он хочет стать христианином, то должен отказаться от своего копья. И тогда один-единственный приказ остановил продвижение поселенцев на У’иву, которое прерывистыми перебежками продолжалось на протяжении нескольких десятилетий: Ваке’элэ их запретил, и Туимаи’элэ вырос на У’иву, где белых людей не было вообще.
Но до запрета Ваке’элэ подружился с некоторыми миссионерами, один из которых – его имени история не сохранила – подарил ему набор книжек с картинками, и король, как рассказывают, передал его своему сыну. Хотя Туимаи’элэ почти не умел читать, книги доказывали существование мира, расположенного где-то в другом месте, и именно он позже пытался организовать дипломатические миссии в различных южнотихоокеанских странах.
К сожалению, он так и не позволил себе заниматься этим с полной отдачей, и У’иву так и оставался в тени на протяжении первой половины XX века, в течение которой Запад то вспоминал про эти острова, то забывал о них, – пока Таллент и Нортон силой не вернули их в массовое сознание.
[Закрыть]. За нами собрались сновидцы, нехарактерно молчаливые, и с минуту мы все просто стояли и смотрели на спящую деревню.
Но тут, без какой-либо очевидной причины, Ева издала свой характерный выкрик, протяжный, гулкий, и спящие мгновенно зашевелились, как подожженный комок трута: мужчины перешли из горизонтального положения в вертикальное одним быстрым движением, женщины в страхе присоединились к Евиному воплю, вепри, похрюкивая, подбежали к мужчинам, поглядывая вокруг мелкими, злобными, маслянистыми глазами. Только животное над огнем осталось где было, и пламя продолжало потрескивать под ним. Позже я вспоминал это как повтор того дня, когда на нас толпой из леса вышли сновидцы, и думал, что на этот раз непрошеными гостями стали мы – мы грубо вторгались в пьесу, в которой у нас не было никакой осмысленной роли.
Еще позже я вспомнил эту сцену и последовавшую за ней панику, когда однажды – много лет спустя – увидел, как один из моих детей смотрит телевизор. На экране шел мультфильм: охотник, картофельная человекообразная клякса с невнятной речью, вторгся в деревню, которую населяли такие же клубнеобразные люди, только черные, и на черном фоне их тел выделялись лишь губы, толстые, красные, складчатые, как нетронутый плод шоколадного дерева, да еще яркие белки испуганных глаз. Охотник пустился в погоню за черными созданиями, которые бегали от него по кривым заполошным окружностям, потрясая копьями и крича в пустоту, а охотник гарцевал туда-сюда, и все это смахивало на какой-то безумный балет.
Вот и мы тогда выглядели так же. Жители деревни бегали и кричали, а мы бегали за ними и, наверное, тоже кричали – любой посторонний наблюдатель решил бы, что мы играем в какую-то детскую игру. К этому моменту вы наверняка уже можете представить, сколько часов понадобилось Фа’а (бедный Фа’а!), чтобы восстановить подобие порядка, чтобы мужчины опасливо опустили копья, чтобы их хрипящие хряки снова легли на землю, присмиревшие, но не теряющие бдительности. Прошло много, много часов, и к концу – когда женщины сидели на одной стороне поляны, окруженные детьми, и все смотрели на нас и мигали, как жабы, сновидцы под охраной Увы и Ту на краю поляны каким-то образом умудрились постепенно заснуть, большинство мужчин расположились на другой стороне, и их вепри рядом, а мы с Таллентом, Эсме и Фа’а – в центре деревни, где существо[35]35
В предыдущих пересказах этого сюжета Нортон намекал, что это мог быть человек. Журналист «Нью-Йорк таймс» Майло Смоук обильно цитирует Нортона в своей книге «Потерянные мальчики» (Нью-Йорк, «Харпер Коллинз», 1989), и тот, по его словам, сообщил следующее: «Первое, что мы увидели, войдя в деревню людей опа’иву’экэ, – это костер, горевший днем и ночью. Над ним было растянуто существо, которое я не мог с точностью определить, – это явно было млекопитающее, потому что на его макушке все еще виднелись небольшие черные волоски, которые лопались, как разогретое стекло. Но голова его была слишком велика для собаки, а конечности слишком длинны для вепря. Глядя на него, я стал подозревать, что это может быть какой-нибудь примат, хотя до сих пор я ни разу не видел там никаких обезьян такого размера, но додумать мысль до конца и прийти к неизбежному выводу мне было слишком страшно» (298).
[Закрыть] все так и жарилось на костре, и его спина была уже так обожжена, что кожа постоянно отшелушивалась мелкими конфетти, которые уносились по воздуху, как стайки мошек, – я совершенно вымотался.
Напротив нас сели трое жителей деревни, мужчины, по виду крепкие и сильные, с темными буйными волосами, с мускулистыми и жилистыми руками и ногами. Сначала обе группы рассматривали друг друга немного застенчиво, как будто кто-то из нас был помолвлен с кем-то из них и нам надлежало представиться и обсудить условия. Мужчины держали воздетые копья правой рукой, и, как не раз делал при мне Фа’а, разжимали и сжимали пальцы вокруг древка жестом скорее ритмичным, нежели нервным, так что иногда, когда они все одновременно растопыривали пальцы, действо казалось срежиссированным, и я почти ожидал, что они сейчас затянут песню.
Первым заговорил мужчина, сидевший посередине, и даже если бы дело обстояло иначе, даже если бы он не сидел в центре, я предположил бы, что он важнее двух остальных: даже сидя он был несколько выше, плечи держал отведенными назад под почти неестественным углом, и его вепрь был крупнее, чем у товарищей, с роскошно сверкающей шкурой, как будто ее только что натерли маслом.
Вепри меня завораживали, они ничуть не походили на тех, что я видел раньше, в книгах или живьем. Прежде всего они отличались, конечно, размером: высотой с жеребенка, толщиной с нестриженую овцу – эти огромные, мускулистые создания были бы великолепны, не будь они так уродливы. Стоя они едва уступали ростом своим хозяевам, но выглядели весомее: круглые как бочки туловища, жесткие как рог копыта, толстые волосатые ноги (правда, я заметил, что они не очень ловкие, – они забавно передвигались, подгибая обе задние ноги и одновременно выставляя вперед передние, из-за чего казалось, что они скорее прыгают, нежели бегут). Но больше всего меня поразили их клыки, торчащие по сторонам широких серповидных пастей, каменно-меловые на вид, зазубренные и щелистые на концах. Сидели они трогательно, как котята, поджав под себя ноги, – все, кроме того, что принадлежал вождю; тот на протяжении всего разговора ковырял передним копытом кусок окровавленной шерсти, прежде бывший каким-то живым существом. Я смотрел, как он забавляется им в грязи, перетаскивая туда и сюда по ленивой дуге, какой-то человеческой в своей бездумности, как если бы толстяк в костюме из сукна в тонкую полоску перекатывал костяшки на глазах у своей трепещущей жертвы. Глаз, однако, он с нас не сводил, и когда заговорили Фа’а, а потом Таллент, он слегка повернул свою гигантскую голову, глядя то на одного, то на другого, время от времени отрываясь, чтобы посмотреть на хозяина и словно бы оценить его впечатление, от чего делалось особенно не по себе.
Вокруг меня кое-как тянулся разговор. Сначала долго и цветисто брызгала речь деревенского вождя, потом Фа’а и Таллент ему отвечали. Хорошо ли шли дела? Плохо ли? Сказать было трудно. По мягкости голосов Фа’а и Таллента я догадывался, что они нарочито сохраняют спокойствие, может быть, даже говорят что-то успокоительное, но сколько усилий они на это тратят, определить не мог. Рядом со мной гнусаво дышала Эсме, но она так делала часто, так что это ни о чем не говорило. Время от времени мужчины деревни, а потом Фа’а и Таллент поворачивались, чтобы взглянуть на сновидцев, которые не поднимали ответного взгляда, и в эти мгновения голоса Фа’а и Таллента понижались, они говорили быстрее и как-то умоляюще.
Разумеется, к этой сцене мне тоже следовало бы внимательнее присмотреться, запечатлеть в памяти каждый жест и каждый вздох, но в тот момент я просто витал в облаках. Я изучал аккуратную границу между деревней и лесом: деревья заканчивались так резко, что, казалось, окружали поляну совершенно как люди, словно деревня была театром, а мы – актерами. Мне хотелось обернуться и посмотреть на женщин и детей за нашими спинами, но я не решался.
Так что вместо этого я смотрел на поросенка размером с дикую кошку, который играл в грязи за спинами деревенских старейшин. Он, должно быть, был очень юн, потому что клыки у него еще не отросли, а глаза были все еще большие и влажные. Он играл сам с собой в игру, прыгая туда-сюда через границу между лесом и деревней: прыжок – и он в обществе, другой прыжок – и он вне его. Прыг, прыг. Скок, скок. Так просто. Я не мог отвести от него глаз, очень долго не мог.
Что-то беспокоило меня в этой деревне, но только поздно вечером, лежа на пальмовой циновке в ожидании сна, я понял, что именно.
Переговоры, или что это было, продолжались долго, так долго, что мы все чувствовали, как свет меркнет, воздух становится прохладнее, слышали, как дети за нашими спинами начинают канючить и просить еду. В этот момент разговор резко прервался, и мы все – трое с их стороны, четверо с нашей – поднялись на ноги, Фа’а и Таллент кивнули тем, а те не стали кивать в ответ. А потом мы вернулись к нашей группе – к сновидцам, – а трое представителей деревни пошли говорить с другими мужчинами, а женщины стали шлепать детей и расходиться в разные хижины за припасами для ужина.
Это все как-то не обнадеживало – мы сидели на прежнем месте, у самой границы леса, и проводники передавали нам плоды манамы и канавы, а всего в нескольких ярдах от нас деревня продолжала жить своей жизнью, как будто нас никогда не было, но Таллент подошел к Эсме и ко мне, чтобы коротко заверить, что все прошло хорошо.
– Мы пока можем остаться, – сказал он. – Расскажу, когда мы их накормим.
Трапеза вышла мрачная: я сидел и пытался проглотить куски манамы, чья хлюпающая, терпкая плоть как будто слипалась и разбухала у меня в гортани. Несколько женщин наконец сняли животное с огня – оно обуглилось так, что вся спинная часть разлетелась по ветру, – и разместили на его месте огромный покачивающийся фартук красного мяса, богато украшенный белыми слоями жира. Запах готовки (собственно, запах самого огня) делал фрукты совершенно невыносимыми, так что в конце концов я был вынужден отложить их и позволить собственной памяти о поедании плоти, настоящей плоти заполнить мой разум, рот и гортань: ощущение неподатливой вязкости мяса, мысли о том, как его можно вертеть во рту несколько минут, если захочется, как при каждом нажиме оно выделяет кровь, специфически терпкую на языке. На огне мясо держали не слишком долго – как только красный цвет начал приобретать коричневый оттенок, две женщины стащили тушу с костра, разложили на огромном листе лава’а, а мужчины и дети тут же подбежали и стали растягивать ее голыми руками, пока куски не отлетали прямо им в ладони. А потом над огнем повесили еще одно мясное покрывало, поменьше, которое женщины приготовили и съели сами.
Устройство сновидцев на ночлег отняло у нас так много времени (на запахи огня они не реагировали), что мы слишком вымотались для разговоров. Но, как я и сказал, только лежа там, окруженный сновидцами и Эсме, глядя на спину Фа’а на фоне догоравшего костра (я обратил внимание, что Таллент, несмотря на перемирие, заключенное с деревней, не отказался от ночной вахты), я наконец определил то, что заметил, но не мог сформулировать: в деревне не было стариков. Троим переговорщикам было тридцать с чем-то, ну максимум сорок с чем-то. Но я не видел никого, кто выглядел бы старше. Это была деревня молодых людей.
Конечно, напоминал я себе, у меня не было возможности приглядеться к ним как следует. Завтра буду внимательнее. Но, падая в сон, я слышал, как тихий голос задает вопрос: «И что это значит?»
«Ничего», – ответил я голосу. Я хотел спать.
Но даже тогда я знал, что это неправда.
– Позже объясню, – сказал нам Таллент. Было утро, и сновидцы явно тревожились; например, Муа что-то горячо лепетал Фа’а, а тот успокаивающе выставил вперед ладони. В какой-то момент ночью Фа’а и Таллент переместили их дальше в глубину леса, и мне пришлось идти футов двести в темную глубь на голоса, чтобы их отыскать. – Я должен выяснить, что их беспокоит. – Он повернулся к Эсме: – Можете отвести женщин к ручью и напоить их?
– А мне что делать? – спросил я.
Он бросил на меня утомленный взгляд:
– Можете вернуться в деревню. Они нам разрешили.
– Хорошо, – сказал я. Я был отчасти раздосадован, что мне не предложили выяснять, что не так со сновидцами. А отчасти они мне надоели, и я был рад отправиться на разведку.
– Только, Нортон…
– Что?
– Не конфликтуйте с ними, ладно?
– Конечно, не буду, – заверил я, понимая, что к этому надо отнестись серьезно.
Тогда он посмотрел на меня и собирался сказать что-то еще, но тут Фа’а позвал его по имени – «По! По!» – и он снова отвернулся.
В деревне все двигались медленным, неуверенным, переваливающимся шагом только что проснувшихся людей, хотя час был вроде бы не слишком ранний: хижины уже отбрасывали на землю бледные тени, солнце уже припекало. Я думал, что мое появление спровоцирует какую-то реакцию – панику, подозрение, страх, как минимум любопытство, – но никто даже не посмотрел в мою сторону. Они, видимо, дружно решили не замечать самого факта моего существования, что показалось мне выдающимся достижением, если учесть абсурдность моего присутствия среди них. Какая-то женщина торопливо прошла мимо меня с очередным шматом мяса, на этот раз розовым, но украшенным такими же белыми полосами жира, и швырнула его на тлеющий костер. Другая вытащила из хижины плетеную корзину, заполненную чем-то вроде больших шишек, и стала отрывать от них листы, как от артишоков. Третья женщина подбирала эти листы и складывала их вымачивать в другую корзину, полную воды. На противоположном краю деревни я увидел вождя, напротив которого сидел накануне, и поднял руку, чтобы поприветствовать его. Но он смотрел сквозь меня, как будто я машу ему с противоположного тротуара оживленной улицы, а он притворяется, будто не знаком со мной, причем так ненатурально, что я поневоле улыбнулся.
В первом кольце вокруг костра было тринадцать хижин, во втором – девять; все высотой примерно в семь футов, простой конической кладки. В центре каждой стоял высокий столб из пальмовой, видимо, древесины, и от него, как ленты от майского дерева, расходились семь связок крепко сплетенных пальмовых ветвей, натянутых, как канаты, и закрепленных в земле. На вершине этой шаткой конструкции покоилась большая шапка из сложенных в несколько слоев пальмовых листьев. Спереди она нависала над конструкцией, так что ее можно было обвязать с краю, чтобы освободить проход. Хижины в первом кольце предназначались для ночного сна; оплетка придерживала с внешней стороны плетеные пальмовые циновки размером примерно пять футов на три. Внутри же хижины были пусты, в них пахло сухой травой и грязью. Размера они были немаленького, и, по моей оценке, в каждой могли свободно разместиться двое взрослых с двумя-тремя детьми.
Хижины во втором кольце – точнее в полукружии, которое некрепким объятием охватывало сзади спальные помещения, – были такого же размера и конструкции, но в отличие от тех, что в первом ряду, использовались как склады. Первый склад был мясной. Когда одна из женщин оттуда вышла, я сунулся внутрь и увидел, что там выкопан весь пол, футов на десять в глубину, и нижняя часть раскопа выложена слоями темных, сверкающих листьев. Деревенские жители сделали из грязи примитивные ступени, ведущие в глубину ямы, и, спустившись вниз, я потрогал один из свертков – прохладный, тяжелый, наполненный чем-то плотным, но податливым. Поднимаясь обратно, я поскользнулся и ухватился за листья, которыми был полностью покрыт пол. При этом я почувствовал, что земля подо мной колеблется, тихо, плавно, и, просунув руку между листьями, чтобы разобраться, в чем дело, я понял, что они докопались до подземного ручья, который приспособили для охлаждения мяса.
В следующих трех хижинах хранились сушеные продукты, многие из них – на тесемках, пересекающих пространство как рождественские гирлянды. Я обнаружил череду вуак, зацепленных своими несчастными безволосыми хвостами, с ввалившимися туманными глазами, и другую веревку, тяжелую от веса сушеных манам, чья некогда младенчески гладкая кожа затвердела и покрылась морщинами, и еще одну с манго, от которых по-прежнему исходил насыщенный сладкий запах. Там были и другие объекты, которые я опознать не смог: что-то вроде плоской ящерицы с мерзкой смертной ухмылкой на клыках цвета жженого сахара; пухлые сигары в пыльно-серебристом лиственном кожухе, с виду полые, но такие тяжелые, что веревка провисала под ними почти до самой земли; полупрозрачные янтарные треугольники с щетиной черных волос. В корзинах у стен я обнаружил те самые шишки (неожиданно тяжелые и пушистые, как боровики), стручки разной длины и ширины, грибы разной формы и разных горчичных оттенков, а одна очень плотно сплетенная корзина была доверху наполнена чем-то, что выглядело как обрезки ногтей, но, приглядевшись, я понял, что это все хуноно.
Только в пятой хижине обнаружились люди, три женщины, но, взглянув на меня, они сразу же вернулись к своей молчаливой работе. Две связывали свежие зеленые пальмовые листья в веревки, третья рвала длинные листья на отрезки покороче. Для косички нужно было три куска, каждый примерно четырех дюймов в ширину. Центральный кусок брался из центра листа, где проходил черешок; остальные два – из более мягких и податливых весел. Листья были довольно длинные, футов восьми, и когда женщины превращали один листок в косичку, они цепляли его к другой косичке короткой веревкой из витого, курчавого растения, напоминавшего тилландсию. Вокруг них на полу лежали аккуратные витки, сверху свисали арканы этих веревок разной степени высушенности, разной длины и толщины. В двух хижинах рядом с этой были еще веревки и покрывала для хижин и другие вещи из пальмового каната: петли (для вепрей, предположил я) с длинными поводками, сплетенные в три косицы толщиной, стопка циновок из пальмового листа по плечо высотой и длинные отпиленные куски пальмовых стволов с заостренным концом, которые можно воткнуть в землю и построить вокруг них хижину.
В следующей хижине никто не сидел, но это тоже явно была какая-то мастерская, потому что в центре, где кто-то должен был сидеть, находилось углубление, а рядом большой камень с плоским стесанным верхом, очевидно использовавшийся в качестве стола. Слева и справа от него лежали очередные куски пальмового дерева, потоньше, чем в предыдущей хижине, из которых некоторые были вычищены и заострены, и я понял, что здесь делают копья[36]36
Деревенские жители тщательно следили за состоянием своих запасов; даже позже, когда внешний мир стал более напористо проникать в их общество, и времени, как и желания, охотиться у них стало меньше, они всегда заботились о том, чтобы запасов еды им хватило как минимум на целый сезон. (Никто не отвечал за выполнение этого задания; скорее, к каждой из складских хижин был приставлен человек, отвечавший за ее наполнение; эта обязанность переходила к очередному взрослому жителю деревни каждую о’ану.) Но хотя поддержание запасов было делом постоянным и круглогодичным, большая часть работы – сбор ягод и плодов, копчение, сортировка, охота на дичь и так далее – в реальности происходила в течение лили’уаки, сезона «маленького дождя». Нортон, разумеется, прибыл в конце этого периода и видел, соответственно, свежие запасы, накопленные в течение предыдущих трех месяцев.
[Закрыть].
Я заметил, что восхищаюсь деревней, восхищаюсь даже ее простотой. Да, это примитивная жизнь, но здесь витало уютное ощущение довольства, и все потребности – еда, жилье, оружие – были тщательно продуманы и обеспечены, жизнь была обнажена до основания и при этом удобно наполнена. Сколько сообществ могут сказать, что они поняли, что именно им нужно, и позаботились обо всем? Здесь была пища, и источник воды, и оружие для самообороны, и все это не просто доступно, а с запасом. Вот, с одобрением подумал я, место, у которого нет ни в чем нужды и поэтому нет ни в чем недостатка.
Так что последняя хижина, девятая, поставила меня в тупик. В отличие от остальных построек, она была облечена не одной, а двумя накидками, и внутри пол тоже был покрыт накидкой. На полу лежала пальмовая циновка, но, в отличие от спальных циновок, которые я уже видел, эта была шире, как будто предназначалась для двух человек, а не для одного. Хижина отличалась от всех остальных и еще по одной причине: только здесь имелось нечто вроде украшения. К поддерживающему столбу был привязан, как я догадался, панцирь опа’иву’экэ, отполированный так тщательно, что каждый из его костяных щитков сверкал даже в сером полумраке. Она, эта хижина, оказалась загадкой, особенно на фоне явного практического предназначения предыдущих, и я даже поднял угол ковра, чтобы посмотреть, не скрывается ли под ним какая-то разгадка: тайная комната, например, или подземное хранилище. Но там ничего не было, только земля, и, покинув хижину, я все равно ее чувствовал, словно она существовала для единственной цели – напоминать, что мои упорядоченные теории о простоте местной жизни могут оказаться ошибочными.
Только завершив изучение хижин, я понял, что проголодался, и снова подошел к костру.
Здесь мне следует прерваться и пояснить, что одна из причин, по которым деревня представлялась совершенно миролюбивой – несмотря на вездесущих вепрей, на копья, на то, что меня никто не приглашал, – заключалась в том, что она была очень маленькой. От одного края деревни до другого я сделал шагов восемьдесят, и, кроме вепрей, все в ней казалось миниатюрным: хижины низкие, люди низкие, даже языки огня в вечно горевшем костре были низкие.
Я стоял у самого огня и ждал, что кто-нибудь предложит мне поесть. Вокруг кипела работа: группа из пяти женщин отбивала камнями большой неуклюжий кусок неопределенного сорта мяса, другая группа из шести человек разбирала горку плодов манамы – побитые и неживые они разрезали вдоль на тонкие круги, а те, что колыхались от хуноно, клали отдельно. Троица, которая раньше занималась шишкоподобными овощами, передвинулась к горке чего-то похожего на сосиски, небольших толстых чурок молодой зелени, и на моих глазах они расщепляли их пальмовым стеблем и выкидывали семена, видом вроде почки и размером с мой большой палец, в мраморных сиренево-персиковых разводах. Они разговаривали друг с другом, но не все время и коротко: одна говорила что-то, а остальные издавали низкий, свистящий одобрительный шум, так что между высказываниями мерещилось, будто наверху колышется рой ос.
Справа от костра сидели мужчины, числом девятнадцать человек, включая деревенского вождя; короткими, крепкими, заостренными по бокам листьями они полировали и оттачивали свои копья. Я придвинулся ближе и увидел, что в центре их кружка стояли две миски из разделенных пополам раковин но’аки и в каждой была лужица чего-то желеобразного, цветом как разбавленное молоко. Обработав наконечники своих копий, мужчины двумя пальцами зачерпывали вещество в миске и смазывали им древко оружия, повторяя это действие несколько раз. В отличие от женщин, мужчины поддерживали неумолкающий разговор, который перехлестывался монотонным эхом, больше похожим на песнопение, чем на речь.
В тот момент, как потом нередко бывало, мне хотелось знать у’ивский язык, но тут я услышал, как меня зовут по имени, и в поле зрения ввалилась Эсме.
– Пол хочет с нами поговорить.
Она сказала «Пол», снова подумал я, не «Таллент»; его имя, произнесенное ею, звучало насмешкой; я развернулся, чтобы последовать за ней обратно в лес. Уходя, я оглянулся, но за нашим удалением никто следить не стал.
– Интересное было утро? – спросил меня Таллент, когда мы приблизились к нему. Я заметил, что он выглядит усталым. Сновидцев нигде не было видно.
Издевается он? Я не понимал.
– Да, – сказал я. – Я видел нечто странное. – И рассказал ему про блюдечки со странной мазью, в которую мужчины погружали руки, радостный, в надежде, что я, возможно, открыл для него что-то новое.
– А, ага, – сказал Таллент, разминая лоб кончиками пальцев. – Это, должно быть, животный жир. У’ивцы добывают его, чтобы полировать копья. – Он вздохнул. – Но, конечно, интересно, что здесь они тоже так делают.
– Угу, – сказал я. Мое открытие никаким открытием не было. Естественно, они делали именно это – как можно было не понять? Я не решался взглянуть на Эсме, потому что не мог перенести ее триумфа, ее радости при виде очередной демонстрации моей наивности.
– Садитесь, садитесь, – сказал нам обоим Таллент, и мы послушно сели. – Голодные? – Он вытащил из-за спины связку желтых, как желток, бананов. Длиной она была не меньше трех футов, но каждый банан был крошечным, трехдюймовым, хотя идеальной формы и слегка изогнутый, как кинжал. – Фа’а их срезал недавно, – сказал он. – Попробуйте, очень вкусные.
Это была правда: хотя вкус у них был явно банановый, ничего мучнистого или крахмального в них не чувствовалось – они оказались сочнее, чем можно было предположить, и такие сладкие, что обжигали язык.
– Я попросил проводников отвести остальных к ручью, чтобы с вами поговорить, – продолжил он. Прежде чем снова заговорить, он съел несколько бананов. – Положение у нас тут деликатное, и я вам должен его разъяснить с предельной четкостью. – Эсме приняла серьезный вид, я тоже попытался. – Хотя мы можем остаться – ну, точнее, пожалуй, будет сказать, что из гостеприимства нас готовы терпеть, – есть определенные правила, которые нам надлежит соблюдать, постоянно и неукоснительно.
Он перечислил нам эти правила. Мы можем наблюдать за жителями деревни, но не должны начинать разговор, если вождь нам не разрешит. Мы ни в коем случае не должны прикасаться к вепрям и к копьям мужчин; мы не должны считать, что их еда предназначена для нас тоже, хотя, конечно, если ее предложат, угоститься можно. Мы должны придерживаться их режима, то есть спать почти все утро, потому что мы, как и они, будем бодрствовать поздней ночью (смысл этого правила был мне не вполне ясен). Нам следует оставаться вне поля зрения жителей, в глубине леса, если нас не позовут. И самое главное – нам ни в коем случае нельзя приводить в деревню сновидцев. Не только ради деревенских жителей, но и ради них самих.
– А почему? – спросила Эсме.
– Точно не знаю, – признался Таллент. – Но могу сказать вот что: вчерашние переговоры в основном крутились вокруг сновидцев, и именно их присутствие больше всего тревожило жителей деревни.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































