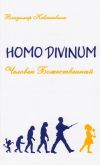Текст книги "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания"
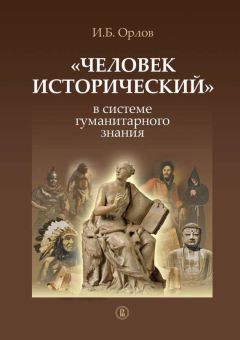
Автор книги: Игорь Орлов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Глава 3
«Новые истории»: от междисциплинарности к претензиям на статус парадигмы
Мировая историческая наука переживала на рубеже ХХ–XXI вв. противоречивый и болезненный период, связанный как с накопившимися проблемами ее внутреннего развития, так и с ломкой культурной парадигмы, подтолкнувшей пересмотр эпистемологических основ социогуманитарного знания. «Эпистемологическая революция», в которую история вовлеклась позже других социальных и гуманитарных наук, поставила ее перед необходимостью активного переопределения своих методологических и содержательных оснований и переконфигурации исследовательских полей. Сегодня, когда историческая наука фактически «рассыпалась» на разные отрасли, в ней растет число направлений, представители которых все меньше понимают друг друга. Причины этого многообразны. С одной стороны, мы наблюдаем кризис исторической профессиональной корпорации, с другой – размывание единого исторического языка, терминологии и научного стандарта [Копосов, 2001. С. 192– 193]. В этом корни конфликта между «традиционными» историками, считающими многие современные подходы «неисторическими», и их оппонентами, наоборот, рассматривающими себя «истинными историками». В литературе отмечается крах идеи возможности охвата прошлого в рамках одной, официальной истории или «большого нарратива», под который могут быть «подведены» остальные «более мелкие нарративы» [Мегилл, 2007. С. 461].
Историческое сообщество в последней четверти ХХ столетия оказалось подвергнуто «атаке» ряда дисциплин. В частности, ведущую роль в ряде отраслей исторического знания стали играть математические науки, которые, помимо социальной и экономической истории обрели прочные позиции в источниковедении, текстологии, истории повседневности и т.д. Более того, нередко звучат утверждения, что без количественных методов нельзя считать научным ни одно историческое исследование.
Не менее активно в пространство исторической науки вторглась филология, с которой связан «лингвистический поворот» 1970-х годов; его основоположниками считаются французский философ и семиотик Ролан Барт, британский философ и историк Квентин Скиннер (р. 1940) и немецкий историк Райнхарт Козеллек (1923–2006). Суть «семиотического вызова» заключалась, в силу вербальной природы исторического факта, в отождествлении исторического познания с литературной критикой. По сути, «лингвистическая модель эпистемологии» приближается к структуре «реальной ментальной жизни», ограничивая историка пределами языка [Parthen, 1986. P. 95]. Тем самым проблема извлечения информации из источника подменяется филологическим анализом текста, раздробленным на универсальные семантические матрицы. Именно из такого подхода вытекают различные теории исторического повествования, когда способы описания событий выводятся не из прошлого, а из языка историков [Toews, 1987. P. 882]. С одной стороны, «лингвистический поворот» в гуманитаристике позволил обратить внимание исследователей на проблемы знака и его интерпретации. Но с другой стороны, поставив вопросы об адекватности языка историка прошлому и его восприятию читателями, превратил изучение истории в процесс соотношения источника, сочинения историка и мыслей читателя.
Еще одним индикатором кризиса исторической науки стала «постмодернистская атака» 1970-х годов на принципы извлечения информации об исторической реальности. «Постмодернистский вызов», стирающий грань между историей и литературой, поставил под сомнение понятия исторической реальности и объекта исторического познания, которые стали понимать как сконструированные языком, дискурсивной (речевой) практикой и идентичностью историка феномены [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 245–246].
Для постмодернистов исторический факт, отраженный в письменном источнике (нарративе), искажен в большей или меньшей степени в зависимости от осведомленности автора текста, его субъективности и тенденциозности, преднамеренной лжи или искреннего заблуждения. Все эти искажения нарастают при интерпретации текста историком, выступающим своеобразным «соавтором» текста. Отсюда вытекает отрицание прошлого, сводимого к представленному в дискурсе информационному полю, а фактом становится знание об историческом событии. История превращается в операцию «создания вербального вымысла», а ее роль сводится к поиску значения событий [White, 1978. P. 11, 82].
Американский философ и арт-критик Артур Данто (р. 1924), который ввел понятие «идеального хроникера», предложил считать заслуживающими практически полного доверия все свидетельства современников [Danto, 1985. P. 148–149]. Очевидно, что постмодернизм подменяет изучение реальной истории исследованием вторичного исторического продукта – субъективно трактуемого дискурса. Одним из основных постмодернистских терминов стал «пастиш» («свободный полет» или «лоскутное одеяло») – коллаж, состоящий из идей и взглядов и включающий противоположные элементы дискурса [Ушакин, 1996. С. 132].
Конечно, постмодернизм со своим отрицанием даже потенциальной возможности изучать объективно существующие явления и процессы нанес удар не только по истории, но по социогуманитарному знанию в целом. Но больше всего «пострадала» история, под влиянием постмодернизма превращаясь в литературный жанр[50]50
К примеру, Х. Уайт избрал своей методологией теорию литературных тропов, понимая ее как теорию преобразования и дискурсивного построения сюжета. Анализируя исторические труды XIX в., он выявил три стратегии, применяемые авторами для получения «эффекта объяснения», и четыре способа артикуляции для достижения этого эффекта. Именно комбинация этих типов, по мнению ученого, формирует историографический «стиль» историка.
[Закрыть] и набор интеллектуальных упражнений. Впрочем, традиционная историческая наука устояла, в том числе в силу отсутствия ярких постмодернистских конкретно-исторических исследований. Более того, постмодернизм после бурного подъема 1980-х годов в 1990-е годы несколько утратил свои позиции. В итоге была сформулирована позиция «третьего направления»[51]51
К «средней позиции» себя отнесли Л. Стоун, Р. Шартье, Дж. Иггерс, Г. Спигел, П. Бурдье (см.: [Болебрух, 2006. C. 9]).
[Закрыть], признающего труднопознаваемость истории, но при этом сочетающего прошлое как объективную реальность и дискурс как независимый исторический фактор (см.: [Филюшкин, 2002]). Другими словами, было признано, что опыт несводим к дискурсу, а перед историей ставилась задача выявления способа наделения смыслом практик и дискурсов. В рамках новой филологии в качестве ответа постмодернизму был поднят вопрос о возможности реконструкции правил создания текстов (подробнее см.: [Nichols, 1990. P. 1–10; Wenzel. P. 11–18; Fleischman. P. 19–37]).
Английский историк Лоуренс Стоун (1919–1999), бывший сторонником использования методологии антропологии и социальных наук для изучения истории, полагал, что к полезным обобщениям о различных исторических периодах может привести использование количественных методов. Но при этом он выступал против исторических «законов» и в противовес социальной истории, требовавшей анализа исторических процессов, склонялся в пользу повествовательной истории. Особое внимание он обращал на изучение ментальностей [Past and Present, 1992. P. 194–192].
Кроме того, выход из постмодернистского тупика видится в решении проблемы опосредования путем изучения иерархии дискурсов. В этой логике история, все проявления которой культурно детерминированы, представляется историей культуры, оторванной от социального мира. В силу этого выдвигается задача изучения социальной логики текстов путем анализа социального пространства, которое они занимают, и анализа дискурсивного характера текста. И наконец, Ф. Анкерсмит обратил внимание на ошибочность вывода о том, что текст является конечной инстанцией. Для Анкерсмита прошлое «не умещается» в тексте, а чрезмерное внимание к дискурсу ведет к подмене отношений между словами и вещами отношениями между словами и словами [Ankersmit, 1998. P. 206, 208–209].
В итоге взрыв интереса к истории, характеризующийся постановкой новых проблем, оплодотворенных привлечением идей из смежных дисциплин (мощным двигателем нововведений в исторической науке стала школа «Анналов»), изменил дисциплинарное пространство истории. Во-первых, анализ экономики и общества расширился за счет исследований материальной культуры, цивилизаций и менталитета. Во-вторых, политическая история вплотную подошла к изучению механизмов власти. В-третьих, использование количественных методов создало более надежную основу для развития демографических, экономических и культурологических исследований. В-четвертых, пределы истории расширились за счет неписанных свидетельств, включая археологические находки, образные представления и устную традицию. В-пятых, «хлебом историка» стал человек как целое – его тело и пища, язык и представления, технические орудия и способы мышления [Стоун, 1994. С. 158]. Объектами изучения историков пост-постмодерна становятся образы, а не события, в силу чего исследователи стали все больше значения придавать источникам, отражающим человеческую субъективность [Маловичко, 2008. C. 38]. В частности, в историографии ширится интерес к изучению различных форм проявления исторического сознания человека, в том числе исторической памяти [Савельева, Полетаев, 2003. С. 31].
Развитие исторического знания в последней трети ХХ вв. показало несостоятельность попыток решения проблемы нового синтеза путем прямых междисциплинарных заимствований из антропологии. Со второй половины 1980-х годов налицо комбинация двух познавательных стратегий – исторической антропологии и социологизированной истории. Одновременно наметился поворот от социальной истории к истории социокультурной, связанный с распространением методов культурной антропологии, социальной психологии, лингвистики и с формированием устойчивого интереса к микроистории. Первоначально в рамках «новой социальной истории» одним из пространств исторического синтеза признавалась сфера ментальности (что, впрочем, не исключало изучение разных аспектов социальной истории, например, категорий опыта и переживания), затем понятийный аппарат синтеза был дополнен новыми культурологическими концепциями. В частности, речь идет о концепциях политической культуры, культурного доминирования и присвоения культурных традиций, теориях взаимоопосредования социальной практики и культурных представлений, идеях конструирования социальных и культурных идентичностей. Тем самым происходит переориентация исторического познания от социальной истории культуры к культурной истории социального, предполагающей конструирование социального бытия посредством культурных практик. Здесь новые перспективы в описании, объяснении и интерпретации динамики социальных процессов разных уровней открывает аналитический потенциал концепции «постоянно конкурирующих репрезентативных стратегий» Роже Шартье. Понятие «репрезентации» позволяет артикулировать «три регистра реальности»: коллективные представления (ментальности), символические представления (формы навязывания обществу социального положения или политического могущества) и закрепление за «репрезентантом» социального статуса и властных полномочий. Однако период конца 1980-х годов стал не только пиком усилий историков по интеграции исторического знания, но и временем очередного критического поворота, поставившего под вопрос научный статус исторического знания [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 242–244, 248, 250].
На рубеже 1980–1990-х годов в мировой гуманитаристике появились новые философско-исторические направления. Одним из таких направлений стала историческая синергетика, понимающая историческое развитие как хаос, т.е. целостность, объединяющую многофакторность проявлений и многоаспектность проблем [Гомаюнов, 1994а. С. 99–106; Хвостова, 2000. С. 10]. Кроме того, синергетический подход, востребованный постнеклассической системой мировидения, включает принцип многомерности с его уравниванием понятий части и целого [Алтухов, 1992. С. 59–72; Попов, 2008. С. 206, 210]. Вытеснение биологии с ее структурами воспроизводства и возвышение физики заставило гуманитариев (в том числе историков) осваивать новые понятия, такие как энтропия, диссипация и бифуркация, чтобы объяснить явления самоорганизации и возникновения качественно новых социальных структур. Кроме того, для историков этот полидисциплинарный подход открыл перспективы для анализа проблемы альтернатив исторического развития (см.: [Абдеев, 1994. С. 197; Гуревич, 1996; Эмар, 1995. C. 21] и др.).
Именно в рамках исторической синергетики был предложен композиционный метод исторического познания, суть которого заключается не в синтезе различных подходов к изучению исторического процесса, а в их композиции, «развертывании» навстречу друг другу [Гомаюнов, 1994б. С. 7, 21, 54]. Подобный подход, с учетом общей тенденции к интеграции социогуманитарного знания, представляется перспективным.
* * *
Как уже было отмечено, рост специализации различных научных дисциплин совпал со стремлением к ликвидации внутридисциплинарной деривации, отказом от дисциплинарной чистоты и попытками интеграции с иными дисциплинами. В последние десятилетия заметно желание ученых понять смысл гуманитарной науки как некой органичной целостности. При этом поиск новых смыслов гуманитарного знания заставил обратиться к определению «новая». В частности, французская «новая история» (или «новая историческая наука»), только отчасти связанная со школой «Анналов», возникла из интереса к человеческой деятельности и решительно поставила вопрос о значении социального, в котором многие историки увидели преимущественно культурную сторону. С «новой историей» в науку вошло видение предметного поля исторических исследований как пространства, вбирающего в себя изучение всего, относящегося к «проявлению социальности человека» и охватывающего разнообразные сферы его практики в их «системно-структурной целостности и социокультурном единстве» [Ястребицкая, 1998. С. 23].
Заметим, что школа «Анналов», начав с провозглашения человека важнейшим предметом исторической науки (Марк Блок), затем абстрагировалась от мотивов поведения людей, идеологии и политики, а в лице Э. Ле Руа Ладюри пришла к формуле «истории без людей». В отличие от школы «Анналов», «новая история» (Жак Ле Гофф и Пьер Нора) расширила свою проблематику за счет изучения демографии и религии, истории искусства и климата, «концептуальной истории» и пр. [Коломийцев, 2001. С. 138–141].
Очередной расцвет школы «Анналов» совпал с расколом на несколько весьма сходных направлений, производных от основных принципов «новой исторической науки» (см. рис. 3.1). Отличаясь в предмете исследования и исходя из национальной традиции употребления того или иного термина для названия отдельной субдисциплины[52]52
Если во французской историографии различают историческую антропологию и историю ментальностей, то в Германии процесс дробления зашел еще дальше: здесь выделяют в отдельное дисциплинарное пространство историческую антропологию, микроисторию и историю повседневности.
[Закрыть], все эти направления объединены тем, что в фокусе их внимания находится человек как производная и источник исторического процесса. Но при этом, с постмодернистской точки зрения, «новые истории» не до конца порвали с модернистской историографией, так как в их основание были положены те же самые идеологические и интеллектуальные «ориентации», что и в основу историографических достижений XIX столетия, представленных герменевтической, номологической и марксистской традициями [Iggers, 1985. P. 31–41].

Рис. 3.1. Основные принципы «новой исторической науки»
Действительно, общими чертами всех «новых историй» стали: смещение фокуса исследования от события как результата целеполагаемого действия людей к факторам, обусловливающим это действие; использование для исторической интерпретации теоретических построений; убежденность в схожести истории с социальными науками в плане изучения человеческих обществ; попытки постичь «тотальную» целостность истории; «социальный детерминизм», ограниченный признанием независимой человеческой витальности; вера в прогнозирующую способность истории; культурный и моральный релятивизм[53]53
По этому вопросу см.: [Bailyn, 1992. P. 1–24; Benson, 1972. P. 1; Bogue, 1987. P. 329–342; Clausen, 1988. P. 197–215; Kousser, 1989. P. 13–20; Landes, Tilly, 1971. P. 9; McCloskey, 1990. P. 289–304; Rusen, 1989. P. 116; Олабарри. С. 182–184] и др.
[Закрыть]. Впрочем, при ближайшем рассмотрении отдельных направлений и региональных вариантов становится ясно, что развитие междисциплинарных и полидисциплинарных связей дает более сложную и не столь однозначную картину.
Так, у ряда историков нового направления противопоставление истории естественным наукам сменилось убеждением в их принципиальной общности. Усвоение междисциплинарных методов, методов социальных и отчасти естественных наук было провозглашено магистральной линией ее обновления. Вместе с выходом «новой исторической науки» на новую тематику изменилась и методика исторического исследования, базовыми элементами которой стали количественный анализ и междисциплинарный подход.
«Дисциплинарный кризис», корни которого следует искать в изменившихся взаимоотношениях между историей и социальными науками, охватил прежде всего социальную, культурную и политическую историю. Тогда как «когнитивный кризис» затронул интеллектуальную историю и философию истории, концентрируясь в первую очередь в месте пересечения истории и литературы [MacHardy, 1990. P. 5]. Интерес к анализу языка (письменного и устного, символов и жестов, репрезентации и молчания, источника и историка) в рамках «лингвистического поворота» так или иначе затронул все области «новой истории» (подробнее по этому вопросу см.: [Rorty, 1992. P. 371–374]). Но и это влияние неравнозначно: в наибольшей степени «лингвистический поворот» отразился на интеллектуальной истории, в наименьшей – на социокультурной и рабочей.
Кроме того, как указывалось выше, на этот двойственный кризис в историографии большое влияние оказали постструктурализм и постмодернизм. Наибольшую угрозу «новой истории» на рубеже XX–XXI вв. представляли различные постструктуралистские течения (прежде всего, деконструктивизм Жака Деррида, герменевтика Ганса-Георга Гадамера, символическая антропология Клиффорда Гирца, литературная критика Стэнли Фиша и Тони Беннетта, «новый историцизм» Стефена Гринблатта), ставящие под сомнение не только различие между вымыслом и реальностью, но и факт существования любой внетекстуальной реальности (см.: [Jay, 1990. P. 77– 86; MacHardy, 1990. P. 12–26; Stone, 1991. P. 217–218]). Более того, идея деконструкции лишает историю внутренней согласованности, превращает ее в летопись или хронику.
Следует учитывать и ряд факторов, связанных с развитием собственно исторического знания и изменением механизмов и форм его взаимодействия с другими гуманитарными и социальными науками. Например, нарастающая специализация деятельности историков способствовала потере связей между ними и, как следствие, отказу от реконструкции «тотальной» истории. И наоборот, усиливающиеся междисциплинарные связи вели к смычке исторических направлений с наиболее близкими социальными или гуманитарными науками, что еще больше увеличивало барьеры между отдельными историческими субдисциплинами. И это при том, что все большему сомнению подвергались старые общие установки, объединявшие все социальные науки, и прежде всего – научные концепции объяснения человека, общества и окружающего мира [Олабарри. С. 186–187]. Очевидно, что историография не только имеет свою логику развития, но и испытывает влияние философии. Другой разговор, что существует временной лаг между периодом процветания теории и ее воздействием на историографическую практику. Кроме того, обращение историков к теории или философии избирательно, поэтому достаточно сложно отнести то или иное направление «новой истории» к модернизму, постмодернизму или пост-постмодернизму в чистом виде.
Существуют и национальные особенности развития «новых историй». Так, в США «новая историческая наука», во многом под влиянием количественных методов, охватила прежде всего экономическую, политическую и социальную историю. Но наиболее влиятельным направлением стала «новая социальная история», организующей логической цепочкой которой стала последовательность: социальная структура – социальный конфликт – социальные изменения. В Англии, наоборот, в становлении «новой исторической науки» главную роль сыграло влияние методологии социологии, демографии и особенно социальной антропологии. Наибольшие трудности в формировании «новой истории» наблюдались в Германии, где сложилась устойчивая идеографическая традиция. Только в 1960-х годах предметом научного исследования стало общество и происходящие в нем социальные процессы. Но при этом в немецкой «социальной истории» сохранились многие элементы старого историзма с его подчеркиванием политических факторов и значения деятельности выдающихся личностей (cм.: [Историческая наука второй половины XX века]). Еще больший методологический и предметный разброс демонстрируют «отраслевые» направления «новой исторической науки», которые мы рассмотрим ниже.
* * *
«Новая социальная история» как аналитическая междисциплинарная наука, в центре которой оказался «человек в обществе», пришла на смену доминировавшей до середины ХХ столетия «гуманистической истории» с социально-экономическим уклоном [Репина, 1998. С. 9].
Если до 1960-х годов социальная история была оттеснена политической историей, то затем, поставив во главу истории человека и перейдя к исследованию низовых слоев и институтов с привлечением новых источников и методов ряда других социальных дисциплин (социологии[54]54
Нередко новую социальную историю определяли как «социологию, обращенную в прошлое».
[Закрыть] и демографии, антропологии и этнографии, психологии, филологии и др.), она превратилась в одно из доминирующих направлений западной исторической науки. При этом, получив определение «новая» и доведя «разрешающую способность исторического мира до размеров прейскурантов, нотариальных актов, приходных книг и торговых архивов» [Фуко, 1996. С. 81], чтобы обнаружить за ними подлинную историю, в которой слиты воедино важное и неважное, она стала претендовать на всеобъемлющий характер. Эта идея превращения социальной истории в «тотальную историю» была сформулирована еще в начале 1960-х годов британским историком Г. Перкиным: «Социальная история не есть часть истории, она есть вся история с социальной точки зрения» (цит. по: [Историческое знание в Великобритании…]).
Сохраняя на Западе ведущие позиции до конца 1970-х годов, «новая социальная история» подняла такие вопросы, как социальная мобильность и условия существования людей; женская и рабочая истории, локальная история и иммиграционные процессы. Наибольшее влияние на становление этого направления оказали британская марксистская историография (особенно работы историка и журналиста Эдварда Томпсона), французская школа «Анналов» и обращение к наследию Макса Вебера. «Новая социальная история» не только сконцентрировала в себе основную проблематику исследований «новой исторической науки», но и актуализировала поиск «нового исторического синтеза».
Постепенно она сосредоточилась на исторической демографии, трудовой, городской, а с конца ХХ в. и сельской истории. При этом в ней социальное изменение рассматривается как процесс, который включает не только структурную дифференциацию и реорганизацию человеческой деятельности, но также и «реорганизацию умов» – изменения в ценностях и понятиях [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 254]. Интегральность ее базовой категории «общество» и заявленные глобальные задачи обусловили тот факт, что «новая социальная история» постоянно вбирала в себя и перерабатывала различные части гуманитарного знания (см. рис. 3.2).

Рис. 3.2. Междисциплинарная модель «новой социальной истории»
Рассматривая в качестве основы истории обыденную жизнь обычных людей, «новая социальная история» перенесла акценты в изучении исторической жизни на уровень анализа невербальных, иррациональных аспектов жизни. Уделяя все меньше внимания материальным мотивам поведения людей, представители данного направления сосредоточили внимание на национальных и культурных воззрениях, религиозных верованиях, моральных ценностях, образовании, возрастных особенностях и половой специфике тех или иных групп.
Постепенно в рамках обширной по тематическому охвату отрасли исторической науки в отдельные субдисциплины выделились: «новая рабочая история», история семьи и детства, этнических меньшинств и женского движения, медицины и религии, образования и преступности, городская и сельская история. Кроме того, в России в 1990-е годы именно под крышей социальной истории достаточно широко распространилась история повседневности, хотя в Германии эти два течения формировались как антагонисты.
Кризис «новой социальной истории» в конце 1970-х годов сместил внимание историков от изучения социального поведения, активности человека в группе и коллективных представлений к исследованию индивидуального сознания, поведения и его мотивации. В свою очередь, задача конструирования культурного мира человека актуализировала исследовательские возможности локальной истории и микроистории. И самое главное. Разрастание «новой социальной истории» и размывание традиционно понимаемой «социальности» привели к «мутации» социальной истории в «новую культурную историю» (см. раздел ниже) [Историческое знание в Великобритании…]. Но при этом социокультурная история осталась социальной, так как в содержании ее базовой категории «общество» была закреплена идея целого, доминировавшая над принципом стратификации.
Преждевременными оказались и разговоры о конце социальной истории. Конечно, за последнее время изменилось не только это направление, но и место, отводимое ему среди других сфер исторического исследования. Трудности, испытываемые социальной историей, вызваны не только появлением у нее новых «соседей», перетянувших на свою сторону молодое поколение историков, но самой эпохой постмодерна с ее отказом от социального обобщения и разочарованием в работе с универсальными понятиями (см.: [Бойцов, 1999. С. 17–41; Спигел, 2000. С. 125–164]). Это обусловило сначала обращение к истории ментальностей, а затем – к микроистории и изучению локальных «сетей». Еще одной новацией стало переформулирование проблемы соотношения концепта и реальности, привнесенное «лингвистическим поворотом». Применительно к социальной истории это означало, например, что социальная группа не только (и не столько) порождает определенные термины, язык и способы восприятия, сколько сама является порождением языка. В этом ряду и всплеск интереса к проблеме исторической памяти (см.: [Уваров, 2001]).
Сегодня, в связи с качественным изменением самого понятия социального, предметом анализа «новой социальной истории» стали сложившиеся традиции и важнейшие тенденции развития социума, а также основные достижения и трудности социального анализа прошлого. Новые возможности перед социальной историей открылись в точках пересечения разных исследовательских перспектив: истории структур и деятельности, условий и представлений, личного и вещного, индивидуального и коллективного, частного и публичного, микро– и макросоциальной истории (подробнее по этому вопросу см.: [Репина, 2009]). При этом, однако, значительная часть представителей данного направления сохраняет убежденность в широких интегративных возможностях «новой социальной истории».
* * *
Если социальная история исследовала вопрос о том, какие группы населения активно участвовали в историческом процессе, то культурную историю традиционно интересовало, какие новые идентичности формировались при этом. «Наша история есть наша идентичность», – эта формула Анкерсмита была призвана подчеркнуть влияние исторического опыта на идентичность [Анкерсмит, 2003а. С. 14] (об историческом опыте см.: [Ankersmit, 2003]). Мысль о том, что под культурой понимается все, что мы делаем, о чем думаем и говорим, историография переняла от американского социолога и антрополога Клиффорда Гирца, понимавшего под культурой «сплетение значений», создаваемых людьми, и считавшего человека существом, «вплетенным» в культурную ткань. В силу того, что культура состоит из знаковых систем, предлагалось все события, учреждения и процессы рассматривать с позиций культуры. Американский культурный антрополог, представитель неоэволюционизма М. Салинс ввел в свои работы понятие исторической перспективы, показав, как меняется культура в ходе истории. При этом он подчеркнул важность понимания того, какие значение имели те или иные действия, с какими знаками и символами были связаны отношения между людьми. То есть менталитеты и образы жизни, дискурсы и идентичности истолковываются не извне, а изнутри культуры. При этом согласно теориям, применяемым в культурной истории, идентичности создаются при отделении «своего» от «чужого». Как и в истории повседневности, в культурной истории в центр поставлен человек и его толкования, а точкой пересечения между историей повседневности и культурной историей служит концепция «жизненной среды», которую немецкий историк Р. Фирхаус определил как воспринятую, «созданную обществом, оформленную культурой и символически истолкованную действительность» (см.: [Обертрайс, 2004. С. 8–10]). Российская традиция, благодаря работам Ю.М. Лотмана, далека от культурной истории в западном ее варианте. Ведь «культурный контекст» Лотман тесно связывал с вещами и бытом, в чем был близок к истории повседневности [Лотман, 1994. С. 5–16]. Тем не менее в интересе Лотмана и других представителей тартуской школы к «текстам» можно увидеть общий с культурной историей интерес к важной роли языка.
Собранные под общим названием «культурная история» исследовательские подходы и направления исторической науки получили распространение в Западной Европе и США еще в 1960-е годы. Но бурное развитие культурной истории связано с «третьим поколением» школы «Анналов», которое с начала 1970-х годов предложило образец для культурно-исторических исследований в области методики культурной истории и истории менталитета, ставший одним из опознавательных знаков «новой истории». Что касается Великобритании, то здесь культурно-исторические подходы утвердились с основанием в 1964 г. Бирмингемского центра современных культурных исследований. В объединении культурных исследований и исторической науки значительную роль сыграли работы британского историка-марксиста Рафаэля Самуэля (1934–1996) [Циманн, 2004. С. 328–329].
История культуры ныне обрела вторую жизнь, сместив фокус внимания с социальной истории культуры на культурологическую историю общества. А в конце 1980-х годов вследствие заимствования методов культурной и символической антропологии возникла «новая культурная история», акцентирующая внимание на дискурсивном аспекте социального опыта и анализе символических систем, и прежде всего лингвистических структур, посредством которых люди прошлого познавали и объясняли окружающую их действительность. Постепенно сложилась ее предметная область, состоящая из исследования социокультурных форм, процессов и коммуникаций, культурных значений, коллективных представлений и символов, а также различных стилей мышления в историческом прошлом. По существу, в современной версии культурной истории реализуется комплексная программа развития трех направлений: истории интеллектуальной жизни, истории ментальностей и истории ценностных ориентаций. «Новая культурная история» «отменяет» сложившееся в предшествующей историографии жесткое противопоставление народной и научной культур, производства и потребления, создания и присвоения культурных смыслов и ценностей. Тем самым человеческая субъективность представлена в ее целостности [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 251, 253, 271]. «Новая культурная история» («культурная история социального», или «социокультурная история», или «другая социальная история») обратила внимание на проблему динамичности процессов в истории и неоднозначной интерпретации прошлого. А базовым стержнем ее концепции стало соотношение между нормами, представлениями (репрезентациями) и практиками.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.