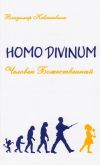Текст книги "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания"
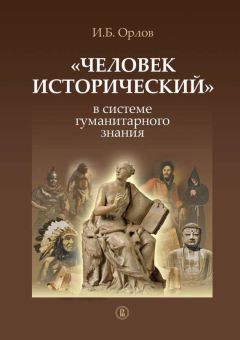
Автор книги: Игорь Орлов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
В работе «Философия символических форм» немецкий философ Эрнст Кассирер представил собственно человеческую деятельность как символическую («человек символический»), а в книге «Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры» подверг критике представления о том, что именно разум служит выражением человеческой сущности. Обращение к «символической Вселенной» человека призвано было, по мнению ученого, дать целостное воззрение на человеческое бытие. Животные не способны сформировать идею возможного, для божественного духа нет различия между реальностью и возможностью, а в человеческом интеллекте, благодаря символическому мышлению, наличествуют и реальность, и возможность («животное, создающее символы»). Идеи разума из регулятивных становятся конститутивными, т.е. созидающими мир принципами, которые Кассирер назвал «символическими функциями», представляющими высшие ценности, связанные с «божественным» в человеке [Кассирер, 1988. С. 24, 26–30].
В современной литературе отмечается связь символа с генетическим кодом человечества. При этом символический ряд содержит базовые символы, характеризующие основные ценности человека. Например, «круглый стол», олицетворяя Великий круг и Солнце, представляет собой идеальный символ совершенства. Середина Древа жизни отражает мир людей и животных, а Крест имеет огромное число символических значений, включая возрождение. Книга является символом знания, которое, в свою очередь, выступает атрибутом силы. А знание плюс сила в сумме дают власть. В языческой традиции человек как подобие Божие изображался в виде треугольника, стороны которого обозначали части человека – материю, энергию и дух. Пентаграмма символизирует человека или сверхчеловека, испускающего из себя таинственный свет. При этом любое «цивилизованное» общество построено в виде пирамиды с заложенным в ней принципом иерархии [Климович, 2009. С. 5, 30, 44, 48, 55, 65, 73, 83, 94, 226]. Даже используемые в быту вещи образуют своеобразный «код» исторического времени, маркируют его ментальные нормы, представления о красоте, богатстве, стыдливости и т.п. Место личности в общественной иерархии определяют татуировки, ордена и одежда. Вообще выбор внешнего вида – достаточно активное выражение социальной ориентации человека [Лебина, 1999. С. 205].
«Человек играющий» является, с одной стороны, проявлением «человека творческого», а с другой – «человека символического». Нидерландский историк и культуролог Йохан Хейзинга (1872–1945) считал феномен игры первичным и необходимым условием человеческой культуры. Полагая, что наименования «Homo sapiens» и «Homo faber» мало подходят для определения сущности человека, Хейзинга вводит новое понятие «Homo ludens» – человек играющий (см.: [Хейзинга, 1997. С. 19–20]).
Одним из вариантов «Homo ludens» выступает способность человека «играть за партнера» или строить воображаемые альтернативные миры, которая является основой языка и отвлеченного мышления. В свою очередь, эта способность выводится из зародившейся у приматов «техники обмана», основанной на способности ставить себя на место другого, мысленно моделируя его реакцию на ситуацию (см.: [Человек, 1993. С. 96]).
В коллективной монографии под редакцией Р.И. Соколова, наряду с вопросами генезиса, сущности и форм властных отношений в обществе, рассматривается становление новой политологической категории «политический человек» в сопряжении с проблемой ценностной легитимации власти [«Технология власти», 1995]. Первую попытку обосновать теорию «политического человека» как индивида, избирающего политику в качестве главной сферы деятельности и стремящегося к власти как средству преодоления своей заниженной самооценки и удовлетворения потребности доминировать над другими людьми, предпринял американский социолог и политический психолог Гарольд Лассуэлл (1902–1978) (cм.: [Lasswell, 1934; 1948]). В его работах, представляющих собой попытку соединения психопатологии и прикладной политической науки, человек выступает как «живая форма, наделенная самым сложным комплексом интеллектуального оборудования». Весьма показательна в связи с этим мысль Лассуэлла о том, что, если раньше «эволюция человеческого вида проходила вслепую, т.е. без сознательной цели или политического плана», то «с появлением генной и компьютерной инженерии становится возможным возродить мечту о том, чтобы взять эволюцию в свои собственные руки» [Lasswell, 1977. P. 467].
В литературе подчеркивается, что мотивацией агентов политического производства является не представительство и защита интересов тех или иных социальных групп, а производство политического капитала. Поэтому современные политические поля существуют не в режиме «обслуживания интересов общества», а в режиме самовоспроизводства специфических политических, социальных, идеологических и иных отношений. В частности, анализ символических взаимосвязей раскрывает связи, определяющие воспроизводство политических позиций: навязывание информационных схем и практик различения участвует в поддержании политического доминирования (подробнее см.: [Качанов, 1997. C. 3–12]).
Введенный Фридрихом Ницше в работе «Так говорил Заратустра» образ «сверхчеловека» рассматривался философом как смысл истории человеческого вида, олицетворение средоточия витальных аффектов жизни и, самое главное, как творец, воля которого направляет вектор исторического развития. Согласно Ницше, на пути становления сверхчеловека необходима трехкратная трансформация сущности человеческого существа. На начальной ступени человеческий дух символизирует верблюд, навьюченный грузом из многочисленных выхолощенных заповедей, утративших смысл традиций и мертвых авторитетов. На второй стадии – превращения верблюда во льва – человек освобождается от пут, связывающих его на пути к сверхчеловеку, и завоевывает себе свободу для создания «новых ценностей». Заключительная метаморфоза – превращение льва в ребенка – представляет собой положительный этап появления сверхчеловеческого типа [Ницше, 1997. С. 8–11, 19].
Постепенно сложился целый ряд трактовок ницшеанского «сверхчеловека»[65]65
Существует много вариаций образа: «сверхчеловек» и «богочеловек», «человеко-бог» и «человек Христа», «соборный», «совершенный», «высший», «грядущий», «последний» и другие вариации образа сверхчеловека.
[Закрыть]:
• во-первых, религиозно-христианская (русский поэт-символист и философ Вячеслав Иванов считал Сверхчеловеком Иисуса Христа);
• во-вторых, культурологическая (философ, культуролог и филолог Михаил Блюменкранц охарактеризовал идею «сверхчеловека» как «эстетизацию волевого порыва»);
• в-третьих, расовая [Можейко, 2002. С. 931–933];
• в-четвертых, символическая (для Андрея Белого сверхчеловек – это символ, «наименование») [Белый, 1994. С. 180–181, 185];
• в-пятых, эсхатологическая (Владимир Соловьев видел цель человечества в преодолении смерти, а не вечности, как Ницше). Для философа не может быть сверхчеловека как представителя особой породы людей. Поэтому «если сверхчеловек не Христос, то он антихрист» [Соловьев, 1988. С. 632–634].
Близка к идее «сверхчеловека» концепция «технологического» (или «техногенного») человека информационного общества, в качестве главной особенности которого выделяется вытеснение из его поведения всего чувственного, интуитивного и иррационального. Это подавление духовного происходит с «человеком историческим» и на индивидуальном и на родовом уровне, превращая его в Homo rational как некий системно-информационный комплекс. Этот «постчеловек» (гуманоид, гуманный и антигуманный одновременно) выступает в пользу развития технического прогресса любой ценой[66]66
Критику этой «формы» человека см.: [Кутырев, 1993. С. 25–27]. Правда, у автора этот «технологический человек» противопоставлен «человеку историческому», синонимом которого выступает термин «традиционный». Другими словами, «техногенный человек» рассматривается как переходная стадия от собственно человека к «постантропологической форме разума» – «разумному интеллекту».
[Закрыть].
Очевидно, что, несмотря на «растаскивание» человека по отдельным дисциплинам или попытки его междисциплинарного описания, вне зависимости от методологического подхода или приверженности тому или иному научному направлению, все настоятельнее пробивает себе дорогу идея «целостного человека». С учетом этого все представленные выше (и не представленные в силу их многообразия) «ипостаси» человека в историческом измерении так или иначе пытались и пытаются нащупать «ядро» этой целостности. На это нацелены и различные формы междисциплинарного взаимодействия, о которых будет сказано ниже.
* * *
Все вышесказанное позволяет уловить, каким образом на стыке понимания сущности человека в истории формируются различные модели взаимодействия гуманитарных, социальных и естественных наук. Так, российский философ А.М. Ковалев выступил с единой концепцией исторического процесса, включающей цивилизационную концепцию британского историка Арнольда Тойнби (1889– 1975), формационную теорию Карла Маркса, исследования английского экономиста Томаса Мальтуса (1766–1834) и сторонников географического направления. Введенный автором концепт «способ производства общественной жизни» объединил совокупность человеческого потенциала, социальных условий и природной среды [Ковалев, 1996. С. 97–104].
Л.П. Репина заметила, что понятие междисциплинарности, отражая смену эпистемологических ориентиров, постоянно меняет свое содержательное наполнение: от «интердисциплинарности» – через «поли/мультидисциплинарность» – к «трансдисциплинарности». Так как многие выделившиеся субдисциплины имеют общий теоретический и методологический арсенал, демонстрируют общий тренд развития и различаются только по предметной области, это создает возможности для их будущей реинтеграции. В частности, ситуация первого десятилетия третьего тысячелетия демонстрирует процессы переопределения внутридисциплинарной иерархии и роста междисциплинарных связей в исторической науке, а также переход интердисциплинарности в трансдисциплинарность. В перспективе, по убеждению Л.П. Репиной, можно говорить о формировании наддисциплинарных областей социогуманитарного знания [Репина, 2008. С. 233; 2010. C. 12, 13].
Впрочем, в литературе высказываются и не столь оптимистические прогнозы. В частности, отмечается односторонность междисциплинарных связей, в силу того что историки не научились «брать культурно» методологические идеи, разрабатываемые в науковедческих дисциплинах. И самое главное, что они не ориентированы на рекультивацию заимствованных интеллектуальных источников. Для исторического цеха характерно погружение в интеллектуальные смыслы и контексты «взятого», но этот профессиональный социум не формирует интеллектуальное поле, в которое могла бы быть втянута общая науковедческая проблематика. Отчасти это объясняется «комплексом неполноценности» историков как ученых по отношению к естественным и точным наукам, а также комфортностью пребывания в ситуации вторичности по отношению к этим наукам [Портнова, Чернов, 2010. С. 175–176]. Кроме того, междисциплинарный подход, принесший в изучение истории множество методик гуманитарно-социальных наук, еще больше способствовал фрагментации истории и созданию целого ряда дисциплин, слабо связанных между собой или вовсе не связанных. Более того, демаркация исторической дисциплины на «старую» и «новую» разрушает историю как целостную научную дисциплину.
Показательно, что междисциплинарные заимствования могут использоваться для сохранения дисциплинарной частоты. К примеру, историк М.А. Чешков в свое время предположил, что «вторжение» в сферу теоретического исторического знания различных общенаучных дисциплин (например, систематики, синергетики, диатропики и др.) будет способствовать отделению теории истории от философии истории. В свою очередь, философ Ю.К. Плетников связал синтез историко-теоретического знания с плюрализмом познавательного подхода, включая неомарксизм, наработки школы «Анналов», структурализм, герменевтику и проч. [Актуальные проблемы теории истории, 1994. С. 51, 66–67].
Необходимо учитывать, что генезис и совершенствование научных подходов обусловлены в первую очередь целью исследований. По степени полноты познания окружающего мира все подходы можно свести к четырем основным видам: дисциплинарному, междисциплинарному (интердисциплинарному), мультидисциплинарному (полидисциплинарному) и трансдисциплинарному. Так, дисциплинарный подход делил окружающий мир на отдельные предметные области. Если же решение проблемы выходило за рамки возможностей отдельной дисциплины, то считалось, что оно находится «на стыке научных дисциплин». Однако стремление сохранить дисциплинарную чистоту нередко превращало «стык дисциплин» в непреодолимую преграду между отраслями знания. Постепенно маркерами дисциплинарности становятся: «имя» дисциплины, ее проблемное поле и методологический арсенал, место в «дисциплинарном семействе» наук, состояние научного сообщества и самоидентификация исследователей. Но при этом в цикле развития дисциплин выделяются «пики агрессии», характеризующиеся активным воздействием на иные области знания [Попова, 2008. C. 44, 51]. Выход из замкнутости дисциплин был первоначально найден в расширении области применения дисциплинарной методологии, что, в свою очередь, привело к появлению меж-/интердисциплинарных и мульти-/полидисциплинарных подходов.
Междисциплинарность представляет собой разнообразные формы взаимовлияния различных дисциплин. Это понятие получило распространение в связи с возникновением быстро развивающихся пограничных дисциплин и одновременной дифференциацией областей науки, опирающихся на различные традиционные отрасли знания и их методы. Особенностью междисциплинарного подхода следует считать допущение прямого переноса методов исследования из одной научной дисциплины в другую при сходстве предметных областей. В результате и появляется «междисциплинарная дисциплина», чаще всего бинарная, например социальная антропология. При этом для сохранения границ отдельных дисциплин всегда присутствуют «ведущая» и «ведомая» дисциплины, когда полученные результаты интерпретируются с позиции дисциплинарного подхода «ведущей». В силу этого интердисциплинарный подход предназначен прежде всего для преодоления концептуальных и методологических трудностей решения дисциплинарных проблем. Междисциплинарность «подразумевает <…> именно методологическую гибкость, а не множество объектов изучения» [Анисимова, 2010. С. 118].
Ярким примером междисциплинарного подхода служит «новый историзм», возникший в начале 1980-х годов в рамках американского литературоведения, а точнее – в недрах университетской дисциплины «Английская литература XVI–XVII вв.». Не секрет, что история постоянно разрывается между наукой и искусством. Это напряжение пытаются снять, или усиливая научную сторону (в частности, за счет уменьшения художественного вымысла), или подчеркивая художественный компонент истории, или называя это противостояние надуманным [Мило, 1994. С. 185].
«Исторический поворот» в литературоведении был вызван кризисом одного из самых влиятельных американских направлений середины ХХ в. – «новой критики», – использовавшей формалистический подход к изучению литературных текстов. Внимание было сосредоточено на изучении структуры текстов, тогда как исторический контекст в большей степени игнорировался, так как, по мнению представителей этого направления, лишал произведение искусства его сути. «Новые историки» обозначали свое отношение к истории как литературному произведению и тексту («текстуальная история», по определению Х. Уайта). Нежелание видеть в исторической реальности причинные связи объяснялось прежде всего пониманием реализма как части репрезентации, кажущейся наиболее приближенной к реальности. Репрезентация, в свою очередь, трактовалась как конструкция, представляющая реальность структурированным образом в определенных целях. Поставленная в центр теоретических построений теория мимесиса Аристотеля толкала «новый историзм» на признание литературы частью реальности. Еще одним «брендом» направления стало использование теории и методологии «дискурсивного поля» М. Фуко, в рамках которой дискурс понимался не как совокупность знаков, а как практика, систематически формирующая объекты, о которых дискурсы говорят. То есть вполне можно говорить о подмене в рамках «нового историзма» истории литературы на «литературную историю» [Анисимова, 2010. С. 11, 16, 25, 30, 36, 42].
Хотя существует мнение, что «новый историзм» представляет собой не шаг назад к литературной истории, а очередное проявление радикально историцистской установки постмодернистской историографии «с намеренно эклектичной амальгамой разнообразных подходов» [Lutzeler, 1990. P. 66].
Кроме того, «новый историзм» как проект «эстетизации истории» особое значение придавал ассоциативной вовлеченности историка в историческую действительность и изучению авторского замысла («интенциональности»), создающего актуальный историко-культурный фон. Проверяя «подлинность» текста через представления о личных амбициях и стремлениях его составителя («подлинность» автора), «новые историки» интересовались не точностью, а ошибками в официальных документах. Тем самым историческая методология «нового историзма» предваряла вопрос «как было?» вопросом «как было записано?» [Анисимова, 2010. С. 46–48, 104, 102]. Тем не менее плодотворным можно считать подход «нового историзма», согласно которому человек может быть понят только через историю, а не как некая абстрактность. Именно этим обусловлена задача синтеза различных подходов к изучению истории.
Несмотря на заявления о принципиальной новизне «нового историзма» и методологическую точность в выделении характерного для исторического периода проблемного поля, вполне очевидно воздействие на это направление целого набора исследовательских практик (см. рис. 4.3).

Рис. 4.3. Междисциплинарное пространство «нового историзма»
Так, «новые историки» переняли у «новой критики» идею «отрезанности» от прошлого и существенно расширили ее через категорию «историческая дистанция». Есть у «нового историзма» общая методологическая установка и с «литературоведческим феминизмом» – критическое отношение к устаревшим ценностям западной культуры. Близок «новому историзму» «культурный материализм» английского исследователя Р. Уильямса, рассматривающего культуру как поле социальной борьбы. Из культурной антропологии К. Гирца в это направление пришла проблема различия между исследовательским сознанием и сознанием человека изучаемой культуры. Свое влияние на формирование «нового историзма» оказали и зародившиеся в 1950-е годы в Великобритании в рамках литературоведения (а к началу 1980-х годов получившие распространение в США) «культурные исследования» (cultural studies), изучающие культуры ХХ столетия [Анисимова, 2010. С. 68–70, 83, 89, 116, 121]. Кроме того, исследователи обратили внимание на ряд заимствований из трудов российских ученых. В частности, С. Гринблатт перенял ряд методологических принципов («социально-историческая активность человека» и «структура поведения определенной исторически и культурно конкретной группы») у Ю. Лотмана и технику рассмотрения «народной» культуры в «официальных» текстах у М. Бахтина (cм.: [Зенкин, 2001. С. 72–77; Козлов, 2000. С. 5–12]).
Сдвиг литературоведческих исследований в сторону изучения культуры, понимаемой как своеобразное выражение «реальности» и антипод литературы, обусловил концептуальную специфику нового междисциплинарного направления, которую характеризуют такие понятия, как «представление» (Б. Томас), «практика обмена» и «контекст» (К. Прендергаст), «круговорот социальной энергии» (П. Хохендаль) и «циркуляция смыслов в культуре» (С. Гринблатт) (см.: [Ankersmit, 2003. P. 253–270; Goldman, 2001; Pieters, 2001; The new historicism, 1989. P. 37–49; Thomas, 1991]). В свою очередь, рассмотрение культуры с точки зрения литературности актуализировало проблему ее текстуальности и исторического контекста. Культура стала восприниматься как «единое текстуальное поле», а идея контекста получила новую интерпретацию в виде понятия «перспектива настоящего» [Анисимова, 2010. С. 12, 41, 43–44, 67, 90, 92].
В итоге этого «культурного поворота» в рамках «нового историзма» наметился целый ряд специфических исследовательских направлений и практик, повлиявших на разные течения «новой истории»:
1) изучение культуры в местах ее наибольших «разломов», когда «канонические» тексты воспринимаются как результат «языковой борьбы» политических сил;
2) исследование сознательных и бессознательных «фрагментов» культуры;
3) теория «ниспровержения/сдерживания», т.е. наличия в культуре сдерживающих механизмов, позволяющих управлять явлениями хаоса;
4) маргинальность как характеристика определенного этапа развития культуры и «демаргинализация» как осознание подсознательного человека;
5) «борьба с небытием»: введение и исследовательское поле из «небытия» таких понятий, как «женское» или «визуальное»;
6) музей или другое место, связанное с индивидуальной или коллективной памятью, как альтернатива архиву;
7) образ историка в культуре [Анисимова, 2010. С. 71–72, 74, 76, 97, 142–143].
Но пути расширения междисциплинарного диалога лежат в сфере не только «качественной», но и количественной (квантитативной) истории, испытавшей на себе в 1970–1990-х годах резкие подъемы и падения. После длительного периода спорадических применений количественных методов в социальной и особенно экономической истории, в 1970-е годы в США возникло направление в исторической науке, получившее название «социальная научная история» (подробнее об этом направлении см.: [Бородкин, Селунская, 1978]). В перспективе речь шла о концепции истории как науки, активно применяющей количественные подходы и математические модели. В частности, в школе «Анналов» квантификация изменила подходы французских историков к изучению ментальностей[67]67
Смещение интереса историков от экономики к культуре во многом шло под влиянием внедрения количественных подходов в качественный анализ. Оказалось, что такие проблемы, как доступ широких слоев населения к чтению и письму или отношение к смерти, можно изучать с помощью статистических методов и диаграмм (см.: [Эмар, 1995. C. 17]).
[Закрыть], а в ФРГ в рамках «историко-социальных исследований» впервые математико-статистические методы стали использоваться не для статистических иллюстраций, а для проверки выдвигаемых гипотез. В СССР становление направления, связанного с применением количественных методов в истории происходило примерно в те же годы, что и на Западе (cм.: [Бородкин, 1991; 1997]). Впрочем, справедливости ради следует заметить, что более широкое распространение математические методы получили не в истории (здесь они в большей степени охватили вспомогательные исторические дисциплины), а в социальных науках, и прежде всего в экономике и социологии, а чуть позже – в политологии.
Ситуация изменилась в 1980-е годы в связи с вызовом, брошенным истории из среды литературных критиков и теоретиков, выступивших за ее перевод в вид литературных занятий. «Новый историцизм» с постмодернистской литературной теорией о центральной роли языка и его «непрозрачности», интересом к герменевтике и семиотике перенял и антропологические концепции культуры как «символической сети значений». В ходе «парадигмального сдвига» часть третьего поколения школы «Анналов» переключилась на историческую антропологию, а итальянские микроисторики, отказавшись от изучения типичных явлений в пользу индивидуальности, стали игнорировать статистический подход. То есть столкновение двух «новых» подходов – количественных и постмодернистских – способствовало образованию еще одной линии разлома внутри самого исторического знания, связанного с отказом, в том числе от методологии естественнонаучного и точного знания[68]68
На расщепленность исторической науки как отражения расщепленности истории в середине 1990-х годов обратила внимание В.Г. Федотова (см.: [Федотова, 1996. С. 61]).
[Закрыть]. Под флагом противодействия превращению истории в разновидность точных наук под влиянием «наивного сциентизма» постмодернисты отдавали приоритет интуитивному «поэтическому мышлению» (см.: [Анкерсмит, 1996. С. 157–158; Ильин, 1996. С. 204]). Спад авторитета генерализирующего подхода (и соответственно расцвет индивидуализирующего подхода) в конце ХХ столетия, по убеждению И.Н. Ионова, был вызван разочарованием в возможностях создания рациональной схемы мировой истории (постпозитивизм) и объективного познания культур прошлого как систем (постструктурализм) [Ионов, 1996. С. 61].
Наряду с появлением новых ракурсов в тематике работ историков одним из негативных итогов воздействия постмодернистских концепций, по мнению Л.И. Бородкина, стало сужение поля междисциплинарных подходов в современных исторических исследованиях [Бородкин. Квантитативная история…]. Возможно, что в рамках пост-постмодерна с его ориентацией на «новую научность» мы станем свидетелями нового взлета квантитативной истории. Правда, остается проблема «перевода» математических понятий (как, впрочем, общенаучных понятий и понятий других наук) на язык истории и выработки нового категориального аппарата. И при этом встает вопрос о научной интеграции без потери профессионального суверенитета отдельных отраслей социогуманитарного знания. Нельзя забывать и о том, что такая интеграция не является самоцелью, а должна способствовать взаимовыгодному сотрудничеству и накоплению знаний о человеке.
Полидисциплинарность связана с поисками «междисциплинарного синтеза» и сфокусирована уже не на унификации результатов и сведении их к единому дискурсу, а на анализе разнообразных «комментариев» социальных объектов, на «сличении» специфических для каждой дисциплины языков и толкований. Речь идет об изучении конкретного гуманитарного феномена средствами различных наук, т.е. о единстве гуманитарного знания.
При мультидисциплинарном подходе переноса методов исследования из одной дисциплины в другую, как правило, не происходит. Подход основан на рассмотрении обобщенной картины предмета исследования, по отношению к которой отдельные дисциплинарные картины предстают в качестве частей. К примеру, человек рассматривается как сложный объект, отличающийся от других объектов рядом особенностей – анатомическими, психологическими, психическими, физиологическими и т.п. А для изучения этих особенностей применяются соответствующие дисциплинарные подходы и методы. Но сопоставление результатов дисциплинарных исследований позволяет найти сходства исследуемых предметных областей, что, в свою очередь, приводит к появлению новых мультидисциплинарных дисциплин, например, таких как историческая экология. Полидисциплинарный подход оправдывает себя в ситуации, когда для решения дисциплинарной проблемы требуется учесть множество факторов, являющихся предметом исследования других дисциплин. Но в силу того, что интерпретация полученных результатов производится с позиции «ведущей» дисциплины, мультидисциплинарный подход (как и междисциплинарный) не способствует выявлению общих закономерностей и механизмов их взаимодействия внутри предмета исследования.
Показательно в отношении возможностей методологического синтеза такое направление как историческая урбанистика. Сознательный отказ от узконаучного подхода диктует рассмотрение «урбанизированного перехода» как единого процесса, имеющего свою логику и закономерности. Обеспечивая «стереоскопический» взгляд на объект исследования, историография направления представлена работами не столько историков, сколько представителей других научных дисциплин – географов, экономистов, архитекторов, градостроителей, демографов, социологов и философов. Но при этом наработки смежных дисциплин выступают «сырьем» именно для истории. Широкий исторический фон, сочетание цивилизационного, стадиального, конкретно-исторического и историко-теоретического и других подходов, дополняются единством внутреннего и внешнего измерения процесса перехода от традиционного сельского общества к городскому. Не обошел стороной историческую урбанистику и «культурный поворот». Составной частью исследований, где исходными понятиями выступают категории «исторический процесс» и «урбанизация», становится социокультурный аспект проблемы, в том числе городские традиции. Урбанизация рассматривается прежде всего как «территориальная концентрация человеческой жизнедеятельности», ведущая к ее интенсификации и дифференциации. Оставаясь в целом на «историцистских» позициях, один из ведущих представителей данного направления А.С. Сенявский выступает категорически против телеологической трактовки исторического процесса, понимая последний как «продукт столкновения “воль и интересов” (в пределах возможностей, заданных природными и социальными ограничителями)» [Сенявский, 2003. С. 4, 7, 9, 16, 22–24, 32, 35].
Впрочем, возможен и иной подход к полидисциплинарности, когда исследовательской точкой отсчета выступает некоторый объект, чьи предметные области столь многообразны, что могут быть исследованы только комплексом разноплановых дисциплин. В частности, подобной рефлексии требует категория «учебная повседневность» (подробнее см.: [Орлов, 2011. С. 28–30]). История повседневности в числе прочего призывает к воспроизведению «всего многообразия личного опыта», изучению «человека в труде и вне его». Например, современные социогуманитарные исследования повседневности советской эпохи сосредоточены в том числе на изучении студенческой повседневности, рассматриваемой через призму бытовых практик и различных форм творчества. Активный поиск путей новой интеграции знания позволяет по-иному взглянуть на повседневные стороны советской системы образования.
Общие принципы изучения производственной повседневности могут быть востребованы, если определять учебную повседневность как часть и специфическую форму повседневности производственной. Особенно это актуально в связи расширением предметного поля учебной повседневности за счет включения в число объектов изучения преподавателей, администрации учебных заведений и учебно-вспомогательного персонала (см. рис. 4.4). Причем вне отрыва от студенческой или школьной аудитории, что позволяет оставаться в пространстве учебной повседневности. Тогда как категория «студенческая повседневность» (или аналогичные субъектные подходы)[69]69
Например, ученик средней школы, учащийся профтехучилища или техникума, студент вуза, аспирант или докторант, слушатель ИПК или курсов различного профиля.
[Закрыть] в центр исследования ставит студенчество, а не учебную повседневность как таковую.
В центр учебной повседневности ставится понятие «учебный процесс», включающее наряду с аудиторными занятиями практики, стажировки, учебные походы, экскурсии и проч. Кроме того, составной частью учебной повседневности выступает самоподготовка учащихся, протекающая как в стенах учебного заведения, так и за его пределами (библиотеки, занятия с репетиторами и самостоятельные занятия дома). Специфической областью учебной повседневности, лежащей на стыке собственно учебного процесса и самоподготовки, является сессия.
Определенные особенности учебной повседневности обусловлены формой учебного заведения и их типовыми особенностями (например, обычная школа или вечерняя школа рабочей молодежи, университет или ведомственный вуз).

Рис. 4.4. Предметные области учебной повседневности
Свою специфику на учебную повседневность накладывает форма обучения (очная, заочная или вечерняя), а также связанный с этим контингент учащихся и, зачастую, преподавателей. Очевидны и различия между столичными и провинциальными учебными заведениями, во многом определяемые наличной учебно-производственной и кадровой базой. И наконец, учитывая государственный характер советской системы образования, значимым фактором учебной повседневности была политика (в том числе ведомственная) в области образования. Источниками реконструкции, помимо официальных регламентирующих документов и материалов прессы (в том числе студенческих и педагогических журналов), могут служить архивы учебных заведений, художественная литература и советские фильмы. Вспомним хотя бы такие картины, как «Приключения Электроника» и «Чучело», «Большая перемена» и «Доживем до понедельника».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.