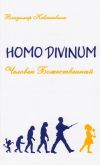Текст книги "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания"
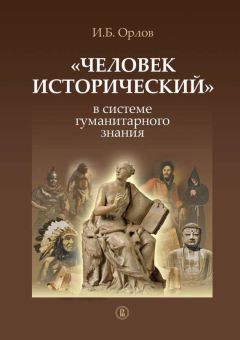
Автор книги: Игорь Орлов
Жанр: Социология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
С 1970 по 1989 г., до появления сборника американского историка Линн Хант [Hunt, 1989], «новая культурная история» развивалась в оппозиции против двух социально-теоретических подходов, игнорирующих человека как осмысленно действующего субъекта – ортодоксального марксизма и структурно-функциональной теории общества американского социолога Талкотта Парсонса (1902–1979). В теории Парсонса индивидуум и любая социальная единица расчленялись на четыре основные функции, которые необходимо было всегда выполнять в каждой социальной «роли», «позиции» или «системе» – адаптация, целенаправленность, интеграция, сохранение латентной структуры[55]55
На уровне общества это членение представлялось как экономика, политика, социальная структура и культура.
[Закрыть]. То есть Парсонс делал из человека «марионетку» объективных системных структур. В этой модели общество было превращено в «социальный аппарат», в котором игнорировались комплексные «наделения смыслом» и «образцы восприятия» людей [Циманн, 2004. С. 333–334].
В противовес этому «новая культурная история» с самого начала настаивала на способности создания смысла, характеризующей человека как существо, активно выступающее навстречу миру и осознанно придающее ему значение. В оппозиции ортодоксальному марксизму и структурному функционализму культурная история развивалась как история социальных способов использования смысловых форм, символов и механизмов действия, связанных с символами. Близка этому в качестве культурной теории герменевтика Гадамера, понимающая смысл как основную операцию «культурного» историка. В частности, в немецкой историографии «новая культурная история», пытающаяся охватить все сферы человеческой жизни и обращающая внимание на отношения между группами населения, которые имеют символы, в течение 1990-х годов взяла верх над историей повседневности, исследующей жизнь «маленьких людей» и их реакции на «большую» политику.
Сегодня под вывеской «новой культурной истории» собрана «смесь» из самых различных культурно-теоретических подходов, таких как постструктурализм, критическая теория, «феминистские исследования» и постмодернистская культурная критика. Кроме того, в последние годы наметилась тенденция снятия оппозиции между структурно-функциональным анализом общества и символически ориентированной культурной историей. К этим попыткам можно отнести три подхода: теорию структурирования английского социолога Энтони Гидденса (р. 1938), теорию габитуса и поля французского социолога Пьера Бурдье, системную и коммуникативную теорию немецкого социолога Никласа Лумана (1927–1998). Очевидно, что при всех различиях эти теории имеют общую тенденцию к устранению застывших дихотомий из структуры и события, структуры и образования смысла, структуры и действия [Там же. С. 328, 334–335, 337, 341–342].
Под влиянием Бурдье «другая социальная история» ориентируется на анализ межиндивидных и групповых взаимодействий, а также локальных интерпретаций социальной структуры и государственной системы. Один из ее представителей Жак Ревель в качестве главной проблемы исследования выдвинул определение «способов производства институтов» или процедур согласования между собой социальных институций и норм, с одной стороны, и действий индивидов – с другой. В свою очередь, понимание социальной структуры как складывающейся совокупности правил, ролей, отношений и значений, в которых люди рождаются и которые воспроизводят мыслью и действием, получило название «методологического структуризма» [Репина, 2010. C. 21–23].
Немецкий историк Мартин Дингес предложил собственный вариант социокультурного исторического анализа – программу «культурной истории повседневности» на основе теории «стилей жизни» [Дингес, 2000. С. 96–124]. На наличие в повседневности инсценированных жизненных форм[56]56
Понятие «жизненной формы» как психологической установки сформулировал в начале ХХ в. немецкий культуролог, философ и психолог Эдуард Шпрангер (1882– 1963). Однако Л.Г. Ионин полагает, что идеальным является понимание жизненной формы, сложившееся в Средние века: способ удовлетворения жизненных потребностей, институты и установления совместной жизни, поведение по отношению к «чужим» (см.: [Ионин, 1997. С. 222]).
[Закрыть] и культурных стилей опирается модель описания этих многообразных форм и стилей Л.Г. Ионина, в основе которой лежит способ удовлетворения жизненных потребностей в еде и питье. Затем следуют нормы внутригрупповых отношений, далее – язык группы, за ним – культурно-пространственные характеристики среды общения и, наконец – отношение к «чужим» и вообще к социальному окружению [Ионин, 1997. С. 224–225].
При этом «новая культурная история» открыто выказывает свою приверженность методологической и концептуальной эклектике под общим названием «культурный подход», в процессе своего становления усваивая методологию социальной и культурной антропологии, исторической психологии, психоанализа, социолингвистики, семиотики и информатики и др. (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3. Мультидисциплинарность «новой культурной истории»
В 1970–1980-е годы изучение народной культуры включало не только историко-бытовые ее аспекты, но, главным образом, предполагало социокультурный анализ содержания внутри– и межгрупповых отношений, нормативного и ненормативного поведения индивидов в семье и локальном сообществе, труда и досуга, морали и преступлений. Это ориентировало «новую культурную историю» на использование инструментария микроистории и локальной истории. Кроме того, перенесенное из социологии в «новую культурную историю» понятие «гендер» позволило изучать био-социокультурную взаимообусловленность полов и их культурные взаимосвязи в историческом контексте. Еще одной приоритетной областью стала история ментальности, которая начала употребляться «культурными» историками при изучении коллективных представлений, верований и стереотипов сознания в историческом прошлом. И наконец, широкое толкование границ интеллектуальной истории как истории не только сознания, но и невысказанных предположений, незаявленных верований и установок, скрытых мнений и чувств, позволило «новой культурной истории» интегрироваться с «новой интеллектуальной историей», о чем будет сказано ниже. Этому во многом способствовало использование познавательных процедур, заимствованных из новой литературной критики, лингвистики и семиологии [Историческое знание в Великобритании…].
* * *
Первоначально интеллектуальная история ассоциировалась с «историей идей», но уже в 1970-х годах интерес исследователей обратился к истории интеллектуалов и социальной истории идей, в которых акцентировалась роль социального контекста. В переосмыслении истории идей ведущую роль сыграли история ментальностей и социальная история идей, определившие поворот от истории «великих идей» к истории фактически всех идей. Тем самым «новая интеллектуальная история» включила самые разные составляющие: историю идей и идейных систем, естествознания и техники, общественной, политической, философской и исторической мысли. Кроме того, в рамках интеллектуальной истории принципиальным становится учет взаимодействия между движением идей и их исторической «средой обитания» – социальными, культурными, политическими и религиозными контекстами. Сегодня интеллектуальная история мыслится как исследовательское поле, лежащее на стыке разных дисциплин, включающих историографию, социальную историю, историческую и культурную антропологию, современные науки о человеке. Ведь феномен возрастающего интереса к проблемам интеллектуальной истории хорошо вписывается в антропологический поворот современной историографии.
Первоначально в основу «новой интеллектуальной истории» была положена «новая» философия истории Анкерсмита [Анкерсмит, 2003а. С. 18]. На рис. 3.4 представлена схема факторов формирования этого направления. «Второе рождение» интеллектуальной истории было связано не только с историей идей, но и с анализом способов и контекста их появления. Отсюда интерес к творческим личностям и межличностным отношениям в интеллектуальной среде. В частности, расцвет жанра интеллектуальных биографий историков стал совмещением традиций социально-интеллектуальной и персональной истории в особом предметном поле «истории историографии в человеческом измерении» [Репина, 2001. С. 103].

Рис. 3.4. Источники формирования «новой интеллектуальной истории»
В плане изучения научных сообществ, школ и поколений сложилась устойчивая методологическая схема, включающая выявление внешних формирующих факторов (прежде всего, взаимоотношений с властью), показ изменения социального статуса ученого, исследование роли научной традиции и механизмов научной коммуникации и реконструкцию научной повседневности.
Время становления проблемного поля современной интеллектуальной истории на рубеже XX–XXI вв. совпало с процессом трансформации исторического знания при переходе от постмодерна к пост-постмодерну. Если в условиях постмодернистской раздробленности знаковую функцию выполняла микроистория, то в новой ситуации оказалась востребованной история осознанного и целостного освоения человеком пространства культуры [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 268, 270; Румянцева, 2010. С. 187]. С одной стороны, разнородные составляющие современной интеллектуальной истории до сих пор сохраняют свои «родовые» субдисциплинарные черты. С другой – в домене интеллектуальной истории все больше территорий попадает под суверенитет рассмотренной выше «новой культурной истории».
* * *
Поэтому одной из исходных предпосылок современной интеллектуальной истории становится учет взаимодействия между движением идей и их исторической «средой обитания». Именно в связи с этой междисциплинарной и интегральной исследовательской установкой возник проект «новой культурно-интеллектуальной истории», в рамках которой в качестве одного из подходов принят широкий контекстуализм, т.е. взаимосвязь окружающей культуры и текстов. В этом варианте сливаются воедино культурная история, фокусирующая внимание на мифах, символах и языках, в которых люди осмысливают свою жизнь, и интеллектуальная история, накладывающая на эту основу творческое мышление интеллектуалов [Маловичко, 2008а. C. 40; Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 271]. В этом плане роль интеллектуальной истории заключается в приоритетном изучении рефлективного и когнитивного аспектов прошлого человеческого опыта. В исследовательское поле активно включается анализ разнообразного мыслительного инструментария, конкретных способов концептуализации окружающей природы и социума, изучение всех форм, средств и институтов интеллектуального общения, а также их усложняющихся взаимоотношений с «внешним» миром культуры. Если представить социальную реальность в качестве троичной системы (социальной, культурной и системы личности), то сферой новой интеллектуальной истории становится культура в целом. Кроме того, делая заявку на интеллектуальное «измерение» истории, «новая интеллектуальная история» стремится «выйти» в сферы философии истории, социологии и политической науки. При этом мерилом качества взаимоотношений человека с миром предлагается культура текста. Первостепенной проблемой становится определение способов конструирования исторических текстов как культурно-исторических артефактов, связанных с текстуальным историческим контекстом [Интеллектуальная история сегодня]. Можно отметить, что в настоящее время, во многом под влиянием «культурного поворота», расширяются контакты между различными направлениями интеллектуальной истории.
* * *
Сегодня в исследованиях на первый план выходит историческое сознание как категория, формирующая отношение человека и общества «разного пространственного масштаба» к прошлому и настоящему[57]57
Понятие «локальной истории» как разновидности истории «тотальной» обсуждалось в следующих статьях: [Stone. P. 26; Aymard, 1990. P. 274–275].
[Закрыть]. На пространственный масштаб истории, помимо «новой интеллектуальной истории» и «новой культурно-интеллектуальной истории» (cм.: [Репина, 1991. С. 5–12; Репина, 2001а; Экштут, 2002. С. 12–23; Зверева, 2002. С. 45–54]), претендует и «новая локальная история», в рамках которой «исторический ландшафт» не задан, а должен быть построен историком самостоятельно. Историко-культурный подход, переносящий акцент с линейного исторического метанарратива на локальные социокультурные пространства и их включенность в глобальное пространство, акцентирует внимание на феномене «глокальности» (глобальной локализации) как связи «внутреннего» и «внешнего» [Маловичко, Мохначева, 2006. С. 25–26; Маловичко, 2008а. С. 142–143, 145]. Это, в свою очередь, позволяет уловить обусловленность человеческой деятельности изменениями «исторического масштаба».
* * *
Социально-культурное влияние проявилось и на оформившейся на Западе в конце 1970-х – начале 1980-х годов междисциплинарной гендерной истории, ключевой категорией анализа которой стал гендер. Заметим, что в отличие от пола, гендерные статусы, иерархия и модели поведения не задаются природой, а предписываются институтами социального контроля и культурными традициями. Другими словами, гендерный статус выступает одним из конституирующих элементов социальной иерархии и системы распределения власти, престижа и собственности. В трактовке американского историка Джоанн Скотт гендерная модель исторического анализа состоит из четырех взаимосвязанных комплексов: культурных символов, нормативных утверждений, социальных институтов и организаций, и самоидентификации личности [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 255–257]. Наработки данного направления фокусируют внимание еще на одном аспекте социальности, раскрывающем многообразие человеческой деятельности.
* * *
В свою очередь, «новая политическая история» выросла из традиционной политической истории, оплодотворенной политологией, геополитикой, политической социологией, политической антропологией и др. (см. рис. 3.5).

Рис. 3.5. Междисциплинарное пространство новой политической истории
Новое рождение политической истории совпало по времени с кризисом социальной и культурной истории к началу 1980-х годов. В числе прочих причин падение интереса к социальной истории было вызвано разочарованием в квантификации как методе исторических исследований. Несмотря на очевидные успехи в ряде отраслей социогуманитарного знания (например, в экономике и демографии), объяснительный потенциал клиометрики оказался весьма ограниченным (подробнее об этом см.: [Smith, 1987. P. 26–27]). Не говоря уже о боязни потерять за цифрами собственно человека.
Помимо этого, причинами упадка социальной истории и соответственно оживления истории политической стало почти полное пренебрежение изучением государственной власти и политики как процесса, идеологии и религии. Оставив в стороне государственную политику и государственные структуры, социальные и культурные исторические исследования лишились центра притяжения. К примеру, «новая культурная история» с ее интересом к ментальности и изучению выражения культуры в частных ритуалах и публичных проявлениях таила опасность приписывания персонажам истории мыслей и идей, которых у них в действительности не было. Кроме того, было осознано, что власть и политика представляют собой нечто большее, чем просто ритуалы, символы и слова [Стоун, 1994. С. 162–163].
Несмотря на сохранение основ «старой» политической истории, и прежде всего хронологии политических событий и биографий политических деятелей, новое поколение историков в большей степени увлеклось социальным анализом, семиотикой и поиском пружин власти. В силу этого сфера политики стала рассматриваться как арена социальных, культурных, экономических и прочих конфликтов. В новых условиях политическая история из «станового хребта» истории постепенно превращалась в ее «ядро», но при этом, в условиях междисциплинарности, она не могла претендовать на автономию [Ле Гофф, 2001. С. 417–418]. Хотя и делались попытки (особенно усилиями историков консервативного и умеренно-либерального направлений) создания всеобъемлющей «новой старой» истории, которая бы объединяла вокруг «ядра» политической истории элементы социальной, интеллектуальной и экономической истории. Тезис о том, что «все есть политика» призван был закрепить ведущее положение в историческом знании и сообществе именно этой научной дисциплины.
Приметами «новой политической истории» стало не только расширение тематики исследований (символика власти, политические ритуалы и церемонии), круга источников (в частности, использование изобразительных материалов), но и обновление терминологии («политическая культура», «дискурс», «репрезентации власти») и поиск новых подходов к изучению феномена власти в истории [Кром. Новая политическая история]. Кроме того, политическая история стала областью активного применения количественного анализа, прежде всего избирательных кампаний на протяжении длительных исторических периодов. При этом приверженцы «новой политической истории», применяя психологические бихевиористские модели, стали активно прибегать к анализу «политического поведения» разных групп избирателей [Историческая наука второй половины XX века]. Другими словами, «новая политическая история», существенно расширив понятие политического, продемонстрировала готовность к адаптации наработок социальной, культурной и интеллектуальной истории.
* * *
В последней четверти ХХ в. расширилось и поменяло конфигурацию пространство применения биографического метода. Например, в «новой биографической истории» наиболее ярко была поставлена ключевая методологическая проблема соотношения макро– и микроанализа, что наряду с размахом реконструкции коллективных биографий привело к росту числа индивидуальных жизнеописаний обычных людей. Родилось даже новое направление – персональная история, основным исследовательским объектом которой стали персональные тексты, а предметом – история одной жизни во всей ее уникальности и полноте (cм.: [Бессмертный, 2000. С. 23]). В рамках «новой биографики» речь идет о концентрации внимания на частном и уникальном в конкретных человеческих судьбах и изначально заданной принципиальной установке на выявление специфики и вариативности разноуровневого социального пространства. С одной стороны, внимание исследователей сосредоточилось на культурном принуждении и понятиях, с помощью которых люди представляют мир. С другой стороны, ставилась задача выявления активной роли действующих лиц в истории и специфического для каждого социума способа, которым индивид «творит историю». Тем самым в фокусе биографического исследования оказывается внутренний мир человека, его эмоциональная жизнь, отношения с родными и близкими, как в семье, так и вне ее. Кроме того, в «новой биографической истории» особое значение придается выявлению автобиографической составляющей разного рода документов, анализу автобиографии в широком смысле слова [Репина, Зверева, Парамонова, 2004. С. 264–267].
Социально-ориентированную биографическую историю иногда называют «цементом» социальной истории, так как она позволяет реконструировать малоизвестные факты и события и тем самым способствует сбору и обобщению обширной и панорамной информации. В данном случае речь идет о направлении биографической истории, нацеленной на реконструкцию социального опыта и его смысловых структур, в том числе коллективного исторического сознания [Биографический метод.., 1994. С. 5–7].
Тем не менее биографический метод имеет свои ограничения, к примеру, в отношении определения значимых связей индивида или соотношения между историей и повествованием. В частности, Пьер Бурдье отмечал опасность «биографической иллюзии», состоящей в том, что историк ограничивается моделями, которые ассоциируются с упорядоченной хронологией и цельной, сложившейся личностью. Бурдье полагал необходимым реконструировать контекст, «социальную плоскость», на которой действует индивид, и которая в каждый отрезок времени состоит из множества «полей». В свою очередь, Марсель Мосс подчеркнул разницу между социальным индивидом и его личностным самовосприятием, когда индивид не только выступает частью группы, но и обладает чувством собственной неповторимости. В целом кризис биографического жанра в ХХ в. был вызван попыткой поставить в центр исследования не очевидные, а предположительные свойства объекта (см.: [Леви, 1996а. С. 191–196]).
Взаимодействие индивида с социумом, его функционирование в общественном контексте может быть раскрыто только посредством сложной и многоступенчатой иерархии исследовательских процедур, включающей:
1) анализ ординарной и неординарной ситуации, задающей условия и ограничивающей возможные направления деятельности;
2) реконструкцию истории индивида, и прежде всего его предшествующего жизненного опыта, который определяет индивидуальное восприятие социокультурной традиции;
3) выяснение психологической предрасположенности индивида к тому или иному образу действий;
4) описание действий индивида, включая их мотивацию, процесс принятия и реализации решений;
5) позитивные или негативные последствия реализованного решения;
6) переход от единичного к массовому с демонстрацией наличия совокупности аналогичных или альтернативных решений, закрепленных в новом поведенческом стереотипе и инкорпорированных, таким образом, в коллективный опыт;
7) анализ произведенных структурных социальных изменений (подробнее об этом см.: [Персональная история, 2001]).
Современное состояние «новой биографической истории» определяется совокупностью разнообразных подходов (см. рис. 3.6).

Рис. 3.6. Современные биографические подходы
В частности, под просопографией чаще всего понимается направление в исторической науке, нацеленное на изучение статуса, социальной, политической и культурной жизни и судеб определенных страт посредством некой коллективной биографии или совокупности биографий отдельных представителей. То есть индивидуальные биографии призваны иллюстрировать модели поведения, присущие социальным группам. Модальная биография, имеющая немало общего с просопографией, описывает не неповторимую личность, а индивида, вобравшего в себя наиболее характерные черты своей группы.
Что касается «контекстной» биографии, предлагается два способа решения проблемы контекста. С одной стороны, частный случай вписывается в рамки общей культурной практики для понимания того, что на первый взгляд является необъяснимым. С другой стороны, восполнение лакун в источниках достигается путем сравнения изучаемого индивида с другими персонами, чья жизнь позволяет проводить те или иные аналогии. Однако такой контекст служит, скорее, неподвижной «декорацией» биографии, не учитывая обратное воздействие людей на контекст. Кроме того, задачи общебиографического контекста требуют реконструкции, помимо основной, целой группы «смежных» биографий и изучения особенностей социальных связей и контактов индивидуума. В свою очередь, создание общеисторического контекста должно способствовать раскрытию причинно-следственных связей явлений и поступков, объяснению поведения человека исходя из исследования его ментальности и жизненного опыта в условиях определенной страны и эпохи. А это актуализирует проблему исследовательского контекста, так как биография рядового человека мало что говорит вне связи с более общим историческим контекстом [Журавлев, 2000. С. 103–106, 175].
В «пограничной» биографии контекст рассматривается сквозь призму крайних, пограничных случаев или форс-мажорных ситуаций. Зачастую пограничные ситуации заменяются драматическими, когда объектом исследования выступают судьбы авантюристов, бродяг или чудаков. Но и здесь не снимается проблема застывшего социального контекста, чьи рамки очерчены пограничными случаями, а персонажи теряют связь с нормальным обществом. Тогда как в «герменевтической» биографии биографический материал становится дискурсивным и диалогичным, отражая коммуникацию между людьми и культурами. Но и здесь скрывается опасность смыслового релятивизма [Леви, 1996а. С. 197–201].
Автобиографистика исходит из невозможности обойтись без познающего и создающего субъекта, вербализирующего и интерпретирующего знания и представления о прошлом. В частности, современный историк науки В.П. Визгин трактует образ «идеального историка» в качестве «нейтрального по отношению к той или иной метатеории как предустановочному горизонту» [Визгин, 1998. С. 98]. В силу этого автобиография историка, каждая работа которого по-своему автобиографична, выступает особым исследовательским жанром и способом самопознания и самопрезентации. При этом для «профессиональных» автобиографий в большей степени характерны особый интерес к статусным и профессиональным сюжетам и подчинение сюжетов личного характера общественным [Сальникова, 2001. С. 278–279, 283, 285].
Вместе с тем все перечисленные выше направления обходят молчанием некоторые «неудобные» вопросы. В первую очередь изучение противоречий между нормой и ее различными преломлениями в жизни оставляет за кадром проблему связей между нормами внутри данной социальной системы. Требует отдельного рассмотрения тип рациональности, приписываемый автором герою биографии, и прежде всего возможность наличия избирательной рациональности у героев, не направленной исключительно на максималистскую выгоду при принятии решений. И наконец, зачастую преувеличение важности группы снимает вопрос об отношении группы и индивида [Леви, 1996а. С. 202–204]). Тем не менее, несмотря на все сказанное выше, исследовательский потенциал различных направлений «новой биографической истории» востребован в рамках других исторических (и не только) дисциплин.
* * *
В начале XXI в. отчетливо проявились две тенденции. С одной стороны, можно говорить о расцвете микроисторических исследований. С другой стороны, очевиден интерес к макроперспективе глобальной истории, ориентированной на изучение экологических, демографических, культурных и интеллектуальных последствий развития и глобальных взаимосвязей. Но мы имеем дело с новым пониманием глобальной истории, подразумевающим наличие множества локальных вариантов и траекторий развития. Для современного этапа развития исторического знания очевидно стремление к взаимодополняемости макро– и микроисторических подходов, к макроперспективе, ориентированной на изучение многообразных последствий развития глобальных взаимосвязей. В итоге была сформирована новая дисциплина – глобальная история, опирающаяся на представления о когерентности мирового исторического процесса. Становление глобальной или транснациональной истории во многом связано с постнеклассической научной парадигмой, стимулировавшей новую концепцию универсальной истории человечества, отражающую синтез гуманитарного и естественнонаучного знания, макро– и микроподходов, модернизма и постмодернизма, структурализма и постструктурализма [Высокова, Сосновский, 2007. С. 186; 2005а. С. 3–19; 2008. С. 235; 2010. C. 10–11]. Подобное смещение исследовательского фокуса затронуло и другие научные направления, о чем пойдет речь ниже.
* * *
Одновременно под влиянием «культурного» (или «культурологического») поворота конца ХХ в., через который прошли гуманитарные и социальные науки, была выдвинута задача раскрыть культурный механизм социального взаимодействия. При этом сравнительно-исторические исследования все больше смещаются в интердисциплинарную сферу, пытаясь не только преодолеть европоцентризм, но и акцентировать внимание на контрастах и различиях. В связи с процессом «глокализации» (регионализации, являющейся реакцией на глобализацию) важной задачей становится проблема диалога культур и цивилизаций в ее историческом изменении. Из нового понимания компаративистики, ориентированной на разнообразие исторического опыта, акцентирования контрастов и различий локальных контекстов и культурных традиций, выросла «новая компаративная история» («перекрестная» или «переплетенная история»), связанная с переходом от каузального объяснения в контекстуальному [Репина, 2008. С. 236– 237, 240, 243–245]. Сегодня компаративистику сложно представить без широко контекстуализма, учитывающего взаимосвязь окружающей культуры и текстов [Маловичко, 2010. С. 76]. Ведь, по определению Ю.Л. Троицкого, если нарратив тяготеет к описанию исторических событий, то компаратив – процессов [Троицкий, 2010. С. 32].
* * *
Происходившее в историографии рубежа ХХ–XXI вв. движение в направлении новой концептуализации социально-исторической реальности опиралось в значительной степени на социологическую «теорию структурации» английского социолога Энтони Гидденса, согласно которой структурные свойства социальных систем являются одновременно и средством, и результатом практики. То есть структура предстает как совокупность «правил», «ресурсов» и «процедур» и реализуется только в повседневной социальной практике исторических акторов (cм.: Репина, 2004. С. 25–31]. Таким образом, отправным пунктом социально-исторического анализа становятся исторические практики.
«Прагматический поворот», ориентированный на комбинацию микро– и макроанализа и содержащий механизмы индивидуального выбора, вывел на первый план действия исторических акторов в их локальных ситуациях, в контексте тех социальных структур, которые одновременно и создают возможности для действий, и ограничивают их. В частности, в социологии и истории смысл «парадигматического сдвига» заключался в переносе акцентов на анализ приватных практик, биографий и повседневных отношений. В целом «теории практики» сегодня направлены на синтез социальной и культурной истории, макро– и микроанализа, объяснения и понимания, объективных и субъективных компонент деятельности исторических акторов (cм.: [Репина, 2008. С. 245–247, 249; Спиридонова, 1997. С. 33–34]).
Следуя прагматизму американского философа и математика Чарльза Пирса (1839–1914) и американского философа и психолога Уильяма Джеймса (1840–1910), теоретики и последователи «прагматического поворота» обратились прежде всего к процессам. Например, французский социолог Люк Болтански (р. 1940) и французский экономист и социолог Лоран Тевено (р. 1948) обратили внимание на практики проверки, установления доверия и оправдания в человеческом сообществе [Boltanski, Thevenot, 1991]. Второй характерной чертой данного «поворота» стало внимание к вещам, часто физическим, на которые опирается «тест» реальности происходящего. И наконец, третья черта – отказ от критической позиции и смещение акцентов с критической социологии к социологии критических способностей [Хархордин]. Эти принципы оказали существенное влияние на современную историческую науку. Просто сторонники «прагматического поворота» в исторических исследованиях идентифицируют свои труды прежде всего с социокультурной историей, обозначая следующие методологические предпочтения: ориентацию на синтез социальной и культурной истории, макро– и микроанализа, объяснения и понимания [Репина, 2010. C. 33].
В последние годы исследователи заговорили о «визуальном повороте», переживаемом науками, занимающимися прошлым: историей, социальной антропологией, социологией, географией и «культурными исследованиями» (cultural studies). Во многом под влиянием постмодернистской методологии любое созданное когда-либо изображение становится предметом пристального рассмотрения в контексте дискурса. В связи с этим делаются попытки сформировать отдельное исследовательское направление – визуальную антропологию, предметом которой провозглашается «изучение визуального при помощи этнографических методов» [Романов, Ярская-Смирнова, 2009. С. 7; Ссорин-Чайков, 2009. С. 19]. Впрочем, как уже отмечалось, анализ визуальных источников не является прерогативой какой-то одной отрасли социогуманитарного знания. Вопрос состоит лишь в том, какие место и роль отводить визуальности в репрезентациях социальности.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.