Текст книги "Футуризм и всёчество. 1912–1914. Том 2. Статьи и письма"
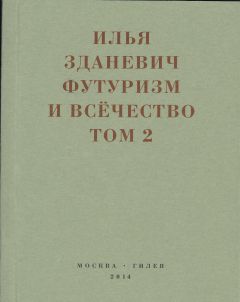
Автор книги: Илья Зданевич
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Михаил Ларионов
Эссе
Ничего не поймёте, доколе, отрезав свои уши, не повесите их на скворешню. Пока проветриваться будет розовая галиматья, с высоты сорвётся колокол неувядаемого индюка, фонтаном выстругает глаза живописцев, выметет красоту спущенным крылом, возгордится, как мать пятнадцатого ребёнка, и поскачет пестун33 по головам вытаскивать пробки из оскоплённых ушей. Кленк рукамхач щупаерай. Макракун, бирбрибага и вжачий. Это Михаил Ларионов – неувядаемый индюк.
Забудьте, что вас учили и вы были молоды. Дрожите, пока не согреетесь, кровь повалит паром из ушей, а вещи запотеют новым смыслом. Разучивайте наизусть сопатые34 песни, разварившись, поползут они обратно затопить мир таким маслом, что картам выдумают новый океан. Глядите, и глаза, перевернувшись, защекочат ресницами вьющийся мозг. Прислушайтесь и – кавлягач мукавлой, ляпарый инши наперий – уши скатятся обратно и, присев на голову, захлопают от восторга. Прогуляйтесь под Ларионовым.
Я знаю всё. В девятьсот восьмом году, заеденный насекомыми декадентами, колонизовавшими все станки, я прыгнул сквозь холст и бежал прочь. По ту сторону холста открывалась невероятная лань. Я купался в воде прозрачней дерева и насыщенной изумрудами. Люди из сурика – сдивинутые бегали взапуски за рыбами из охры перекошенными, все созданные много проще Ветхого Завета.
Ни глаз, ни боков, ни хвостов, ни ног у них не было, чтобы можно было сказать, чем они были. Я развернул своё тело, как простыню – шппжышкаламаркуайгавыйзвунор и весила35. Ларионов взялся за стирку. Выкрахмалил наоборот спиралью и так раскрасил меня, что потом сам не сумел найти.
Юхару баляра ырырень юпавый. На хвосте ослином развёл вишнёвые рощи. Качаясь на ветках, мы шлёпнулись снова в воду, вслед за обмершим ослом. И, когда опустились до глубины, где сдавленная вода затвердела и высохла, то очутились на дне, усеянном холщёвыми зонтиками, Ларионов раскрывал зонтик за зонтиком, и зонтики упрощались в большие бесцветные плоскости, обрастая малыми цветными. Потом плоскости оживали, дрались, ломались, прятались, вырывались с холстов птицами, оперялись, пели: Юлале хаарей хюй-гон ю яяяя. И несли плоские яйца.
Мир стал выставкой пиленного сахара. Залопотали кубики: крыкыч каракыч. Но вот в воду пролился глиняный дождь – рассыпалась ветхая живопись. И сахарные грани растаяли, обратили океан в сироп. Ларионов закинул удочку, всё воспламенилось, повисло в пространстве, сколоченное из лучей. Мир перестал быть осязаемым, стены домов надёжными. Температура солнца возросла, люди тщетно пытались укрыться и горели. Из глиняной земля стала лучистой, вместо рек потёк сырой шёлк. Жюажель клаку вастамлен лучож. Зонтики стали бесплодным. А солнце зонтиком от солнца.
Бан, ван, дан дуралан. Четыре года прошло. Людям осталось жить ещё два, ревел Ларионов, глядите, молодеют они как. Вёдрами лил краску себе на клюв, палил гребень утюгом. Поползли по голове узоры вдогонку за пудрой, дивясь прихоти вождя. Мы выскочили в города. Тополи36 бежали по улицам к нам, рушили дома, вытаптывали парки. Замечали и глаза зацветали нарывами, лопались, выпадали из них верблюжьи кальсоны. Пена била из ноздрей, выходили из пены баталионы афро диток. Скрежетали – крбзлир кнхгин, кржззн – пытались задушить, так тянулись, что руки вытягивались в телеграфные провода и жужжали. По проводам австрийцы грозили Белграду. Обезьяны рыдали, не могли больше любить, чуяли продолжительный сон мущин. Пытались облокотиться и навсегда падали. Ларионов распорядился: точка опоры вовсе перестала существовать.
Который раз тщетно допросите о причинах войны четырнадцатого года – кафляпупа бибжоба, рапапити пустапаета. Потом, почему сломанное нельзя починить, отчего слова стали бумажными и катится рукомойник по вешалкам, откуда привередни красного удобрения, пока не станете на восток. Презрение к обязательствам и съеденный бублик с оставшейся дыркой, Архимед, подавший в отставку со свиньёй поперёк лба, и какое блаженство встают оттуда. Россия выдумала скотобойню и рай земной, зачала и который год давит на брюхо мира. А кто насильник. Если поминаете Жана и Жака, говоря о Робеспьере и девятнадцатом, то помнить должны Ларионова. Ларионов виновник войны и отец всех зол.
Мясорубки поныне славят лучи: оле вле нарань зазыняня, жерили, верили карой. Северные платят невнимательной к ним земле. Начали со смут, обвешенных самозванцами, палили леса, рассевшись на листьях, мнились лакированным Китаем, репеторы благополучия. Копили в дуплах дрянь невозможного, а в нос вдевали сапоги. Учились, как открывать глаза и напротив восхищению. Засучили губы, строили лестницу ни вверх, ни вниз вылить с последней ступени отбросы переработанного духа. Ларионов – эти отбросы тысячестолетней кухни. Спрессовал живописцев, поэтов, театр и лязганье так, что усыновил всё искусство. Попыталось спрессованное сено поддаться в некуда. И мир убежал молоком.
Взял меня на небо художник показать содеянное. Материки перегородились ямами, и летели огненные пригоршни встречные, тошнило их взрывами на колючки, где дезертиры оставили впопыхах клочья пяток. В глотки вползал святой хлор, развести в желудке зелёную весну. Уцелевшие запели от счастья высушить на солнце окрашенное сукно. И – вуа37, куаа38, вупи соои – голосила бубушка <так!> новопреставленной революции. А виновник, сошедший с небес, беспроволочно кривил миром, сдохший мир продолжал падать вверх. И готово возвращение путешествующего Ларионова в Москву. Вижу толпы, претворённые в камни и облака верхом. Ни один господин не видал такого триумфа.
Приходите же глазеть, как я цвету в Париже. Кабинетишки здешней художественной жизни, бездарной вверх ногами не забавят меня. Не отыщете у меня книг, не свячу я себя грязью, не увидите картин – где вырылось искусство. Но за отрезанные уши щедро вознагражу. В скворешнике моём сидит неувядаемый индюк – клоц, клагагац, юньейо бубубу – и кричит благим матом. Приходите же, дам услышать Ларионова. Ради его крика я переплыл земли и состарился. [Лучшего и желать невозможно.]
Гончарова и Ларионов
К выставке их работ
Для нашей эпохи, творческой по преимуществу, характерно обилие творческих факторов огромной важности, остающихся часто без достаточно<го> внимания и изучения. Оно и понятно. Позже, когда героический период, нами переживаемый, будет закончен, настанет пора систематизации и планомерного изучения этих явлений, которые сейчас успевают быть воспринятыми лишь эпизодически в быстрой смене творческого калейдоскопа наших дней. Гончарова и Ларионов в этом отношении разделяют судьбу больших живописцев нашей эпохи. Несмотря на размеры их художественных дарований, богатство их вклада в искусство живописи и влияние, оказанное ими на современников, их творческие личности остаются неопределённо очерченными и скорее героями устной легенды, весьма мало отражённой и разобранной художественной критикой. Многочисленная литература, им посвящённая, разбросана в периодических изданиях всего мира и в каталогах выставок, повсеместно ими устраивавшихся, представляя калейдоскоп случайных, отрывочных и недостаточно продуманных, хотя подчас удачных мнений. Между тем, последняя выставка их работ, организованная в New-York’e, лишний раз показывает, насколько их творчество заслуживает обстоятельной и подробной критики, которая должна бы была привлечь необычайно обширный материал, чтобы определить их истинное положение и размеры их дела, так как, кажется, в истории живописи не было живописцев, матерьялы к пониманию которых должны отыскиваться в столь различных местах, и в столь неожиданных местах можно найти следы их влияния. Мировая политика – так можно определить живописную концепцию их творчества. В этом они связаны с духом времени, и их искусство отражает экономические и политические концепции века. Этот дух всеприсутствия не в смысле сюжета и темы, как об этом учили футуристы, а со стороны самой структуры творчества, необычайно присущ им. Эти люди – не эрудиты, только они не то что знают всё, что совершается в мире, нет, они чувствуют всё, и эта чувствительность ко всем явлениям мира в целом составляет замечательную и отличительную черту их. В этом смысле, трудно представить себе мастеров более современных. В них мировой день синтезирует<ся>, как в газете, выражаясь преломлённым и истинно синтезированным, а не собранным только в агломерат. Так создаётся новая чувственность и новая психол<ог>ия, столь от<ли>чные от механического эклектизма вчерашнего дня. И можно <так!> к этим людям нового дня подходить со старыми критериями и мерами. Но не один этот универсализм отличает наших художников. Логические выводы, ими порождённые и явившиеся, в свой черёд, причиной нового пониманья живописи, которое принесли наши художники, не менее достойны внимания.
Новая чувствительность художника заставляет его по-новому относиться к его живописным средствам. Итальянское Возрождение в течение ряда эволюций привело к торжеству реалистического понимания живописи. Это понимание отвергло закономерность условного канона, которая господствовала <до>днесь. Так, от школы Джотто через Учелло к Леонардо восторжествовала идея воспроизведения или подражания природе. Живопись должна была отражать то, что видится. И все последующие направления были коррективами предыдущим на этом пути.
Современный художник естественно вернулся к признанию канона с добавлением признания его очевидной условности. Так он вернул живопись к её самодовлеющим задачам, что тотчас отразилось на ней.
Гончарова и Ларионов в этом смысле самые передовые художники. Обладая самой острой новой чувствительностью, они естественно возвысились до наиболее абстрактного понимания живописи. И прежде всего они вернули ей то, что она потеряла благодаря идеям того же Возрождения – цвет, свою истинную основу39.
Импрессионистическое отношение к цвету мы можем игнорировать из-за реалистической основы. Гончарова и Ларионов первые признали, что живопись есть цвет и прежде всего цвет. И их работы, их творчество, начиная от примитивов и до районизма, есть апология и победа цвета. И её всё растущее влияние в Европе прежде всего должно быть понято как победа цвета над тенденциями постсезанновской живописи и кубизма. И благодаря им этот кубизм пережил в последние годы решительную эволюцию, поселившую в нём взаимноборющиеся и обессилившие его концепции.
Первые бои, начатые нашими мастерами за их понимание живописи, падают на 1908 год. Выставки «Голубая Роза», «Бубновый Валет», «Ослиный хвост», «Мишень» и «№ 4»40 и др., последовательно устраивавшиеся ими, ставшими во главе новаторского течения русской живописи в течение периода с этого времени по 1914 год, представляют последовательное развитие их творчества на пути к его современной конструкции. Отечественное влияние преимущественно народной живописи – лубка, вывески (Ларионов) или иконы, Алекс<андра> Иванова (Гончарова), ими испытанное, соединяется ими с влиянием французов-постимпрессионистов, ими испытанным. Но они всякий раз преображают эти влияния, давая ряд замечательных произведений, сразу выдвинувших их в ряд передовых представителей современной живописи. Воспринимая кубизм, орфизм, футуризм, они не забывают создавать ряд своих манер, преображая западные каноны согласно своему пониманию. Особое внимание к задачам цвета и самодовлеющим частям картины – структуре и фактуре – отличает их. В 1914 году Гончарова и Ларионов устраивают свою первую выставку в Париже41. Другие следовали в 1918 и 191942. Влияние, оказанное этими демонстрациями на парижскую живопись, ещё привлечёт не одного исследователя.
В 1914 году наши художники переносят свои таланты в театр. Их сотрудничество в Русском балете доставляет им мировую известность. Их работы преображают художественную ценность балета и, делая театр вдруг популярным, привлекают к нему внимание ряда передовых представителей современной французской живописи. Но французы, не отрешившиеся ещё от своего староевропейского понимания живописи, делают механическую пересадку своей живописи в театр, не меняя её принципов. Их занавесы, их декорации – это просто куски их больших картин. Театральная живопись им не удаётся, им не хватает театральной декоративности. Между тем, абстрактность живописного понимания Гончаровой и Ларионова наряду с их знанием плоскостной живописи и вниманием к задачам живописи, как таковой (внимание к фактуре и структуре полотна, превращённое во внимание к фактуре и структуре декорации и <к> постановке), создают не простую пересадку живописи на сцену, а новое декоративное искусство. Творчество в этой области, оригинальность которой была более доступна, чем особые отличия их станковой живописи, привело к исключительному триумфу русских мастеров.
“<Le> Coq d'or”43 Гончаровой и “Soleil de minuit”44 Larionova <так! >, показанные в Париже в Опере в 1914и 1915, сразу обнаружили эти качества художников. Необычайное разнообразие цветов в оранжево-малиновой гамме, необычайно полнозвучной и примирённой, составляют основу того праздника освобождённой живописи, каким был “<Le> Coq d'or”. Дальнейшие постановки Гончаровой «Литургия»45 (танцы без музыки под аккомпанемент топанья ног, с белым пеньем в паузах). Две испанки46 Альбениса и Равеля были продолжением этой манеры построенья необычайного декоративного разнообразья, исходя от того или иного специально созданного для случая канона. Это использование всех живописных средств в пределах, заранее себе очерченных, создавало исключительную необходимость действия и декорации, подчинявшей себе зрителя.
Работа Ларионова в этом направлении осложнилась для него той реформаторской ролью, какую он сыграл в самом театральном действе, в балете как таковом. Чтобы сильнее оттенить всемогущество своей живописи, он порывает с абстракцией классического балета и, давая живописи полную независимость, оттеняет танец воссозданием жизненных жестов. Походки людей и животных, манеры и движенья военные, фабричные и рабоче-полевые, игры и действия культа, действа, предписанные обычаями, дают ему свой матерьял. Так он создаёт свой первый “Soleil de minuit” и, через “Conte<s> russes”47 и “Histoire<s> naturel<les>”48, идёт к своему “Chout”y49, поставленному в 1921 году, представляющему наиболее ясное и яркое приложение этих реформ.
Таковы пути, которыми идут эти заслуживающие исключительного внимания русские мастера. Эти пути продолжают расширяться и расти, так как годы их говорят, что ещё половина дела у них впереди.
И американская публика получает возможность обозреть работы этих мастеров, в которых она сможет подме<ти>ть черты этих мастеров, о которых вскользь мы упомянули в этих строках, считая своим долгом воздать хвалу этим исключительным талантам.
Эли Эганбюри
19/11/22
Гончарова и Ларионов
Основная ошибка, допущенная в Европе при оценке творчества русских художников Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова была та, что они получили известность и были признаны преимущественно как «художники-декораторы». Этот взгляд, объяснимый отчасти тем, что они начали деятельность за пределами России как сотрудники «Русского балета»50, отчасти, быть может, пригодившийся для удаления с поля парижской живописи влиятельных соперников, продолжает держаться без достаточных оснований. Конечно, они подняли художественную ценность балета и возбудили особое внимание к театру. Но в широком масштабе, как Гончарова, так и Ларионов, должны рассматриваться как «станковые» мастера прежде всего, сыгравшие уже важную роль в судьбах современной живописи.
После долгого периода верности традициям академии Александр Иванов, великий русский художник середины XIX столетия, был первым недовольным, вдохновившимся в вопросах живописи поисками реализма, утраченного вовсе академической школой. Тремя десятилетиями позже, то же понимание цвета привело во Франции к импрессионизму, Сезанну и сезаннистам, добивавшимся «учёного реализма». Передать жизненную правду так же стремился Э. Мане и не больше. Тот же принцип, якобы принцип Джотто и Греко, преследовал и Поль Сезанн, на самом деле не пошедший дальше Веронеза, искавший в природе основы построения формы и всё же остававшийся её учеником. Теми же реалистами были и кубисты, лишь упростившие видение мира до геометрии и принимавшие творчество за синтезирование натуры. Немало глубокомысленных примеров было приведено ими, чтобы подкрепить реалистическую правильность их выкладок. Так же рассуждали и итальянские футуристы, добиваясь найти стиль движения. Их первый манифест, трактующий о двадцати ногах лошади в движении, защищает подобное построение ссылкой на физиологические свойства сетчатки. И главные их усилия направлены на поиски того, что должен видеть человек, лишённый музейных предрассудков. Осталось невыясненным, почему они не изображали всех предметов вверх ногами, как их видит ребёнок в первые дни жизни своей.
Каждое из этих направлений требовало для себя артистической монополии, доказывало своё избранничество и реалистическую ложь других. А когда зритель наивно спрашивал, неужели художник «так видит», приводились сложные хитросплетения, чтобы убедить, что видеть должно именно так. Это всегда и было слабым местом новаторов. По мере того как количество решений вопроса о живописной правде росло, стали встречаться мастера, менявшие направления одно на другое. Тенденцию в этом роде обнаружил и Пикассо.
Гончарова и Ларионов выросли на отечественной почве под поветрием импрессионизма, Сера и Сезанна. Но ни одна из западных форм не была им присуща органически. Русские вливали эти формы в своё творчество из-за достоинств и новизны. Поэтому «кубизм», «футуризм», «орфизм», противоборствовавшие на западе, были воспринимаемы ими в равной степени и присоединены к своим манерам – «лучизму», «лубку» и т. д. Так впервые в Европе, пятнадцать лет тому назад, Гончарова и Ларионов поняли живописные направления как манеры. И притом как манеры абстрактные, чуждые всякому реализму или художественной правде.
Это новое, «всёческое» понимание живописи (я уже писал о нём в 1913 году в книге «Гончарова и Ларионов», изданной в Москве) было закономерным и имело важные последствия. Оно освобождало живописные манеры от присущей им реалистической узости («плоскостной кубизм» Гончаровой), вводило имитирующие приёмы («живопись состояний» и «лучизм» Ларионова), синтетировало манеры или приводило к одновременному использованию их на одном холсте. Из области передачи цвета или материала центр тяжести был перенесён русскими ещё задолго до французов в область творчества картины как таковой. Благодаря этому усилилось внимание к фактуре и структуре картины, что в свою очередь вызвало введение в неё новых материалов и средств и создание станковой пластики, столь характерной для русской школы. Европа до сих пор не знает случаев применения столь разнообразных красочных материалов, как это делал Ларионов в 1910–1914 годах.
Характерную перемену испытал на русской почве «кубизм». Французский кубизм наивно стремился к передаче трёхмерных объектов, их объёма и материала, игнорируя цвет. Гончарова обошлась с кубистической манерой чрезвычайно своеобразно. Она ввела его плоскостное – двухмерное, прямолинейное и криволинейное понимание. Эта декоративная тенденция замечательно оживила кубизм и открыла новые горизонты. Теперь эти открытия целиком восприняты Парижем, и можно утверждать, что только благодаря работам Гончаровой и Ларионова кубизм, завершающий свой круг, не сошёл со сцены до войны. С другой стороны, особого внимания заслуживают оригинальные русские манеры, выросшие в среде московской художественной молодёжи и получившие название «всёчества». Факт их возникновения и развития доказывает, что «всёчество» не было отнюдь эклектизмом51, бессильным агломератом манер, каким оно позже сделалось в Европе, не дающим ни прогресса, ни творчества. Я упомянул о «живописи состояний» (1907–1910) и о «лучизме» (1911)52 Ларионова, которые стали известны Парижу по выставке 1914 года53. «Живопись состояний» есть синтез манер, с целью имитации универсальных состояний вещества – стекла, дерева, мяса и т. п. Генезис лучизма также в имитации реализма. Это допущение понимания вещества, как комплекса лучей, столкновение и соотношение которых строит предметы. Но цель его – создание беспредметной живописи, основанной на
структуре и красочной фактуре. Ученики Ларионова развили «лучизм» в «супрематизм» (в России) и «экспрессионизм» (в Германии)54. Изучение этих оригинальных манер ещё впереди. Но применения их во Франции, вероятно, придётся ждать недолго.
В разгар проповеди Маринетти против старого искусства, русское понимание живописных манер быстро стёрло начинавшее было прививаться деление искусства на старое и новое. Возник острый интерес к забытым формам, к русским иконам, к вывеске, к искусству дикарей. На выставке «Мишень» (1913), устроенной группой Ларионова, подобные материалы даже преобладали над современными полотнами. Гончарова особенно сумела воспользоваться различнейшими мировыми факторами и, впервые в истории живописи, установила преемственную связь не с родными предшественниками, а с самыми разными культурами, независимо от времени, их разделяющего. Это уничтожение времени и восприятие различнейших живописных культур как абстрактных манер и есть то новое, что, выкристаллизовавшись в России, через творчество Гончаровой и Ларионова перелилось за границу.
Выступления Гончаровой и Ларионова в «Русском балете» в Париже и Лондоне в 1914–1916 годах (“Coq d’or” et “Contes Russes” – Opera et Châtelet55), о роли которых в судьбах театральных декораций писалось не мало, не могут сравниться с ролью, сыгранной выставками работ этих художников, устроенными в Париже в 1914, 1918 и 1919 годах56. Хотя количество представленных на них работ и было ограничено, и далеко не все манеры были показаны, толчок, данный тогда, продолжает поныне чувствоваться в Париже, много уясняя в судьбах современной художественной жизни. Важным фактом надо считать влияние, оказанное русскими мастерами на театральные постановки Пикассо.
Первый уклон в своём развитии творчество Пикассо испытало в 1913 году под влиянием итальянцев, в частности, Боччиони. Переход Пикассо к футуризму обнаружил в нём склонность к переработке стилей, однако более узкую и эклектическую, чем у Гончаровой и Ларионова. Под кистью Пикассо футуризм потерял свою основную черту – стремление к стилю движения, превратившись в средство статических построений, и этим Пикассо подготовлялся к русскому пониманию. Но только после войны он приобретает нынешние черты. Его композиции обогащаются цветом, рвущим с кубической традицией, в его построениях постепенно проступают плоские и декоративные формы. Русское влияние идёт по двум направлениям – применения «всёчества» и пересадки русских приёмов. Пикассо пишет женщин с грузными формами, вспоминает старых итальянцев, постепенно расширяя круг материала, пока, наконец, творчество его не приобретает свойств ясного «всёчества».
Русское влияние, испытанное Пикассо, передалось отчасти и через него остальному Парижу (в том числе Глезу и Леже). Неосознанное, но повальное всёчество становится темой дня. Всевозможные стили и культуры попадают в поле зрения, и ими пользуются. Но то, что было закономерно для Гончаровой и Ларионова, ибо русской культуре подобная переработка была близка, то, будучи пересаженным на западную почву, оказалось пагубным для здешней ясности и определённости. Всёчество здесь обращается в простой эклектизм. И целые направления, как посткубизм и живописная пластика, например, тщетно пытающиеся добиться синтеза форм, испытывают общую судьбу. Упадок творчества, поощряемый обильем материала, делает художников неспособными к его переработке. В результате манеры меняются случайно, остаются необогащенными, а очевидными источники настроений. Не умея справиться со вселенским пониманием искусства, бессильный вновь оплодотворить завершившийся круг, «кубизм» терпит кризис и пытается, закрыв глаза на пройденный путь, вернуться к простейшему реализму.
Е. Эганбюри
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































