Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2020"
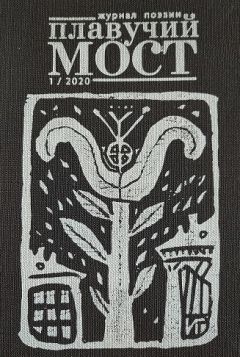
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
«В сердце моём пребудь – и пребудь вовне…»
От перемены слагаемых спасла перемена мест.
Вместе мы можем больше, чем ожидала сумма.
Нам не дано знать, где завершится квест,
эту историю нам не дано додумать,
дано – дожить.
Мы пробуем на ходу,
для нашей игры нет правил. Исчёркав себя, исчерпав,
ни ты не пойдёшь, ни я к тебе не приду.
Есть ещё слово «тонуть». Есть ещё слово «меркнуть».
И каждый день, проваливаясь под наст,
ударившись – майна! – ошпаренно рвёмся: вира!
Но если не эта ось, то не будет нас.
А если не будет нас, то не будет мира.
«Только любя, становлюсь настоящей…»
В сердце моём пребудь – и пребудь вовне.
Милых вещей обмолвки – глагол времён:
в старый буфет гляжусь, как в своё лицо,
но не своё, а деда, отца. Стоит,
сам себе лар и капище, жертва, бог,
сам себе жизнь, движение, личность, вещь;
мёртвый хозяин приподнимал стекло,
и отпечаток пальца окаменел.
Я научусь, учую, замру, усну —
там никакой пустоты и в помине нет:
жесты, касанья сложены, стопки в ряд,
плотно лежат движения, но без рук:
руки в могилах тлеют, гниют, горят,
шушера, мусор, ленточка, завиток,
честной земли обноски – серая пыль,
лёгкий остаток – домысел, сух как пух.
Что там и где как сладилось, где руда,
и перегной мгновений вносить – куда?
Лувр
Только любя, становлюсь настоящей.
Только летая, могу ходить по земле.
Раньше уйду. Говори обо мне почаще.
Я подожду тебя в залетейской мгле.
Право на жизнь тебе отдаю. Не сетуй,
Будто тяжёл скованный мною доспех.
Ярко блистает радостный меч рассветный,
Словно статуя, найденная в песке.
«Лента, шурша, отслаивается от рамы…»
Королевский дворец распялен скучным каре
против готической церкви в скульптурном уборе.
Прихожанам не время. Рыскает во дворе
единственный голубь, внимателен и проворен.
Дорожка к арке тщательно подметена
и безлюдна. Газон безотрадно зелен.
Чтобы дополнить картину всеобщего сна,
в ложе своём, обленившись, полощется Сена.
Бывало и здесь веселье.
Тогда ещё жил король.
Потолки умножали отзвуки менуэта.
А теперь на одном этаже – изваянья: уже не камень, ещё не боль.
На другом летит, спустившись с небес,
получеловек-полукомета Сасетты.
Вечереет. Арка темна. Пустовато вокруг,
нет бы пустить авто или хотя б карету.
Барон Осман до того не любил лачуг,
что заподозрить впору каприз фортуны – по Фрейду.
Отмотав века – полтора оборота назад —
увидим на месте газона ветвистые улочки, пыль, домишки рабочих.
Запах жареной рыбы. Бельевые верёвки висят.
Мелочные лавчонки лепятся вдоль обочин.
В одной из халуп уважаемый мэтр Ренуар
снимает мерку с клиента. Время идёт к обеду.
В воскресенье маленький Пьер-Огюст отправится на базар
посмотреть, как идёт торговля у гончара-соседа.
А в будни, когда во дворце наступает полуденная тишина
и тянет соснуть – мальчишки галдят под окнами. Ах, хулиганы!
Королева, стесняясь, выглядывает из окна
и кидает оборвышам конфеты и марципаны,
чтоб замолчали гамены, дали покой,
или хотя бы вели себя чуть потише.
Но барон ненавидел лачуги. Теперь над рекой
ни конфет, ни Её величества, ни мальчишек.
«Я знаю – ты. Но я тебя не знаю…»
Лента, шурша, отслаивается от рамы.
Знак, что пришла пора смены змеиной шкуры.
На месте клумб образуются водоёмы
и в серых сугробах плавают тротуары.
Кровь еле бегает – бледная кровь горожанки.
Кожа также наводит на сходство с рептильим классом.
По утрам жалостливо подрагивают коленки,
а юбки сложили оружье в битве с излишним весом.
Сил никаких. Февраль бесплоден, март безысходен.
Говорят, есть где-то склады небес лазурных.
Пока они скрыты, ряд разнородных виден
Определений, и все, как одно, нецензурны.
«Ни поделиться радостью…»
Я знаю – ты. Но я тебя не знаю
и шаг за шагом робко узнаю.
И чем настойчивей к тебе шагаю,
тем неподвижней и смирней стою.
Внутри себя, как будто сфинкс на взводе,
торчу на месте – кошка на цепи.
Кинь денежку, гляди, вот киска ходит:
то песню ноет, то стихи скрипит.
А по ночам учёнейшая мурка
монетки извлекает из нутра,
шепча тихонько: «Мука. Тоже мука».
И складывает в столбик до утра.
«Я буду ездить и смотреть в окно…»
Ни поделиться радостью,
ни крикнуть —
всё тайно, прикровенно,
всё внутри.
Душа, тихонько
разминая крылья,
всё соблазняет:
«Улетай со мной!
Воздушны, невесомы, бестелесны,
скорей туда, где всем беззвучным
песням
внимает мироздание одно!»
Простор узилища благословляю,
да будет славен замкнутый объём,
чем крепче путы,
тем прозрачней стены —
уже лечу:
незримый окоём
невидимый полёт не остановит,
и всё слышней наивный голос
крови,
и всё свободней дышится лучу…
И в час, когда
удушье наступает
и жизнь сожмёт
до острия иглы,
закрыв глаза,
безгласна и бессильна,
я здесь летаю.
Полетишь со мной?
«Только, пожалуйста, будь со…»
Я буду ездить и смотреть в окно
и наблюдать явления природы:
акт первый – пробуждение лесов.
Вот роща зацветает постепенно.
Второго акта душная жара
и третьего умильная прохлада…
Не буду ездить и смотреть в окно.
Теперь мне ездить никуда не надо.
Теперь на взгляд из моего окна —
окно соседское и угол дома.
Картина так продуманно ясна
и так успокоительно знакома.
Мир только отражается в окне.
И, отражённая, пребуду
неодушевлённой…
«Передышка. Ночной асфальт тащится кое-как…»
Только, пожалуйста, будь со
мною.
Стрелок
где-то там, в непонятной дали,
поднимает лук.
И стрела летит,
и я слышу надсадный звук
и вижу
точку в пространстве.
Всё ближе.
Но стою недвижно.
Вера или упрямство —
не важно:
стою
и держу её взглядом.
Урок
отрабатывать надо,
иначе
песня пойдёт не впрок
и никто не заплачет.
Но цель —
чтобы слёзы лились,
потому что больше нечем отмыть
чумазую жизнь,
нужно стоять, не дрогнув,
глаз не сомкнув,
не ныть,
даже если вот-вот голова
с плеч…
А ещё у Вильгельма Телля была
дочь.
Новелла
Передышка. Ночной асфальт тащится кое-как,
намотавшись за день под шинами и ногами.
Утомлённый воздух рвётся, сбивая такт,
и, ленясь протереть глаза, фонари мигают.
Рано утром шоссе сверкнёт от счастья – реванш:
позади километры слабости и безделья.
Выходя на взлёт, озирает себя пейзаж,
обвивающий мир разномастной своей куделью.
Как струна, объятье дорог в напряженье сил
завлекает, жмёт, таща ходоков куда-то.
Интервал в любви, сжатый до то точки «си»,
переходит в молчание невозврата.
«в этом лесу…»
Ах, ну что за работа.
Поди разгадай тебя, человече!
Что я, Шерлок Холмс какой?
разве что доктор Ватсон,
казус, ребус, я умоляю, ляпсус,
даже не модус
и вот уж совсем не люпус…
Чушь какая-то лезет в голову,
просто глупость.
Мозг кипит – отчего?
Кожи границ не чую,
растворяюсь, кружусь,
будто в сказку чужую
я попала
и вот теперь
не дотяну до финала.
Или смерть моя —
это финал и будет?
Что ж, вперёд, моритури.
В этой игре не судят
никого. Победитель ли, проигравший —
правил нет.
Играя, не сходят с круга,
как бы соло ни выглядело убого.
Отказавшийся точно знает,
что там стреляют
прямо в сердце, навылет,
и всё же кусает локти.
Тем, кто остался цел,
до кишок завидно,
игроку пеняют
на причудливый внешний вид, но
втайне алкают
сомы, нектара, кьянти.
Не дождаться, увы,
ни совы,
ни голубя, ни тем паче
аиста.
Засосала старуху проруха.
Дай мне руку, пожалуйста.
Дай мне
руку.
в этом лесу
мы с тобой
одно дерево
Василий Нацентов
Из каменностепных песен
Родился в 1998 г. в Каменной Степи Воронежской области. Поэт. Эссеист. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник», «Юность», в «Литературной газете» и др. Лауреат Международной премии им. В. Аксёнова «Звёздный билет», финалист и обладатель специального приза премии «Лицей» им. А.С. Пушкина от журнала «Юность». Член Союза писателей Москвы.
«Разве что-то останется…»«Нащупать спинку стула…»
Разве что-то останется?
Господи, хоть бы осталось.
Что мне для этого сделать?
Шорох дерева зимнего
на самом краю дороги, съеденной солью.
Там, где она начинается, и живёт чудо:
радуга ждёт лета,
драгоценные камни нарастают, как иней,
и пахнет хлебом.
Выразить это, конечно, почти невозможно,
но кое-что бледно мерцает:
звёзды, глаза вдалеке, приснившиеся под утро.
Я не слышу музыку,
я не вижу стучащие ветки.
(От мороза, от ветра, из-за вращенья земли…)
Но что там, что там
сжимается до человека, крестика, пикселя —
и исчезнуть не может?
«Нет, ничего, и страдание снега недолго продлится…»
Нащупать спинку стула.
Облокотиться.
Дождь среди ночи будто бы невозможен —
потому что невидим,
потому что зимний.
И всё же он есть,
слушай его, слушай.
Как ты перед Богом,
маленький и холёный,
так дождь, ломая коленки,
перед тихой землёй январской:
сказать – страшно, промолчать – не имеешь права.
«темнота стоит по углам…»
Нет, ничего, и страдание снега недолго продлится.
Грузный выдох январский,
непролазный и грузный, почти опустился
на шапку, на плечи.
Всё, что потеряно, стынет в руках ненадёжных
и вот-вот потеряется снова.
Я выхожу каждый вечер лишь только за этим.
Память чужая чугунна, бескровна. Где проявитель?
Это бегут по полям виртуальные дети
к каким-то безумным открытьям.
Нет, ничего не исправить, не выдумать слова,
птицы бессмертные мокнут под временным снегом,
под снегом картонным.
Их подбирают и плачут.
Всё повторится. И полные ветра карманы
потянут к земле или лопнут от свиста.
(Спокойствия и не хватает на свете, а тревога напрасна.)
Нет, никого не забудут —
потому что вовек не простят —
всенародно, построчно.
Родина только на вид равнодушна.
«Только и делаю, что собираю чужое —…»
темнота стоит по углам
чтобы прятать фамильный хлам
охранять свет
там зверьё и птицы на все лады
для небесных трав и во льду воды
нет не то что смерти —
прощенья нет
мы сидим за тихим большим столом
на столе бокалы с сухим вином
на столе свеча запечённый лещ
вот закусим и тоже придётся лечь
как на противень на кровать —
снега ждать
мой последний мой вещий мой вечный сон
на равнине русский старик вийон —
за спину голубые руки
он обвит по горло сухим плющом
невесом не-высказан не-прощён
между рам комариный трупик
«о-кажется не скажешь и полслова…»
Только и делаю, что собираю чужое —
в корзину плетёную, в рвущийся старый ягдташ,
в карманы, набитые пылью, —
не-бывшие, может быть, долгие ночи и дни:
ворох бумаг, на которых исчезли чернила.
Душа моя, этого не было с нами!
Я, выросший в провинциальном уюте,
стеснительном и неумелом,
боюсь, что не хватит картошки,
что закром затопит весной,
и нечего будет сажать.
Проснусь и шепчу: неужели и солнце, и утро?
А время неровное, с запахом тёплой пластмассы,
воздушных путей мешковатые пухлые ямы.
Тень ласточки их зашивает упрямо,
и дуется небо обиженным толстым ребёнком,
и после обеда большой собирается дождь.
Я знаю, всё где-то хранится, я видел,
во сне проявляются серые мыльные вещи,
но мало вмещается в гордую пригоршню, мало.
«И если нам, живущим, говорить…»
о-кажется не скажешь и полслова
о ветке дерева
и дрогнет целый лес
простимся!
нам столько места дали для разлуки
с чугунной ласточкой на память в уголке
1
И если нам, живущим, говорить,
то лишь о том, что снег пошёл,
что снег растаял. Странно и светло.
Когда я детскими руками синицу хоронил,
кругом вода стояла и принимала небо полной грудью,
уставшей кроны чёрный круг в саду.
Я знаю, как на самом деле было,
как птицы волокли листву чудную,
проворно собирая на лету,
в какую-то иную темноту,
как бы в карман прохожего.
И мир не знал плохого и хорошего
и поздней осенью не ждали никого.
Казалось так всегда: от первых птиц,
бессонных и стремящихся куда-то:
за слово и полёт, как тень, расплата,
как судный день, молчанье настаёт.
2
«Проститься можно утром…»
Что снится дереву, где листья сочтены? —
сплошное убывание повсюду,
прислушаешься – страшно тишины,
но у листвы – любое слово чудо,
любое слово – чудо у листвы
в моём саду, который сад и суд,
где тени птичьи мокрый снег несут,
взметнувшиеся тени,
а я лежу – рассыпан и растерян,
как бусы на полу
или синица в страшном тёмном царстве.
И не бывает в жизни хорошо.
Я говорю о том, что снег пошёл.
О том, что он растаял скажут после.
«Смотреть на снег. Теперь так мало снега…»
Проститься можно утром,
чтобы дня хватило
в порядок привести дела
и дневники из тайника достать.
Пока ты дочку мне не родила,
мы можем быть беспечными и грустными
и ссориться два раза до обеда,
а к вечеру мириться только раз.
Потом, лишившись выбора, мы будем
мы будем счастливы.
Я говорю тебе.
«Ты проснёшься тихая, смешная…»
Смотреть на снег. Теперь так мало снега.
Вот правда: и не выпросить его.
Да и зима не та, не та.
Нет света. Голубого света.
Как будто изменилось вещество,
как будто самый воздух изменился,
и темнота сочится между веток,
и заполняет мешковатый двор.
Как выдержать немую эту сцену,
натянутую леской рыболовной: кто там,
на том конце циклона?
Антониони, Господи прости!
Слеза на санках едет с небосклона,
слеза, как шар, катится по пятам
и знает цену себе, покою.
Так сердце колет:
лежишь в сосновом
лесу просторном —
и тепло и тихо:
иголки мёртвые летят на грудь.
Наверно, лечат.
Лежишь и ждёшь, когда засыпет снег,
когда засыпет снег, и станет легче.
жене
Ты проснёшься тихая, смешная,
и лениво скажешь: «Вот ночное
солнце!..»
и покажешь на бумагу.
Жизнь меняю страстно, добровольно:
лучики вяжу в пучок сердитый,
ставлю в вазу – в кляксу на углу.
Спи, земная, ни о чем не думай.
Страх волною по реке проходит,
чуть качает утку, как ресничку,
и рябит в прибрежных камышах.
Я стою, держу в руке подснежник,
потный кулачок вперёд протянут,
носик вздёрнут смирным рядовым.
До утра, до наволочки мятой
стриженые волосы ершатся,
губы мёрзнут, шёпота стыдясь.
Алексей Смирнов
Солнечный конверт
Алексей Евгеньевич Смирнов родился в Москве (1946). По окончании Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева (1970) поступил в Институт кристаллографии АН СССР (позже РАН), где вел исследования в области физики прочности и пластичности материалов. Поэт, писатель, историк литературы, переводчик. Автор десяти поэтических сборников, в том числе «Спросит вечер», 1987; «Дашти Марго», 1991; «Кораблик», 2007; «Зимняя канавка», 2012; «Избранное», 2016. Автор-исполнитель цикла передач «Звезды поэзии на музыкальном небосклоне» (музыкальное радио «Орфей»). Постоянный автор журналов «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы», «Кольцо “А”», «Литературная учеба», «Мурзилка». Лауреат Литературной премии имени Чехова.
«Когда не с почтальоном, а само…»Маме
Колыбельная Иисусу
Когда не с почтальоном, а само
из синевы, назначенной высотам,
мне спустится бумажное письмо,
чьи клеточки подобны частым сотам;
когда сближая нынче и вчера
в послании своём высокогорном,
его унижет почерком узорным
не пасечник, а певчая пчела,
я восприму тот солнечный конверт,
как сотворенный Флорою подарок,
как ею адресованный привет
в листочках клейких вместо пестрых марок.
Гений места
Ветер перышки ерошит, забираясь под крыло.
Спи, мой мальчик, спи, хороший, спи, пока не рассвело.
По пшенице в карауле ходит-бродит кот-шатун,
он следит, чтоб все уснули, и в усы шипит, шептун.
Кач-кач, кач-кач, кот ругач, как жук-рогач.
Звёзд просыпался горошек на притихшее село.
Спи, малыш, усни, хороший, спи, пока не рассвело.
Завтра будет день отрадный, он развеет сладкий сон,
а тебе соткёт нарядный белый к празднику хитон —
кач-кач, кач-кач – паучок – проворный ткач.
Колыбелька – лодка в Божий мир, рука моя – весло.
Спи, мой мальчик, спи, хороший, спи, пока не рассвело.
Спи, пока не народился вестник солнца – скарабей.
Спи, пока не снарядился до назначенных скорбей.
Кач-кач, кач-кач, ночь вокруг черней, чем грач.
От ступней и до ладошек зацелованный светло,
спи, малыш, усни, хороший, спи, пока не рассвело.
Подберёт заря-тихоня златокудрые власы
и унижет край хитона чистым бисером росы.
Кач-кач, кач-кач, спи, пока молчит трубач,
и не мчатся кони вскачь по степи… Спи.
Исихия
Обычная вещь – потрясенья судьбы для всех, привыкающих к ним.
У Гения места неслышный полёт, и путь его неуловим.
Он свяжет балтийский закат и рассвет, он с ночью сольется дневной,
И будет у серых гранитов кружить, снижаясь над самой Невой.
Трещат барабаны. Качается дым. Уключины трутся, скрипя.
Он души прохожих пронижет собой, в их сердце оставит себя.
Был некогда город такой – Петербург, поднесь его шпили видны,
Но смыло несчастных его горожан приливом осенней волны.
Был некогда город такой – Ленинград. Он тоже сумел устоять.
Но смыло несчастных его горожан волной, обратившейся вспять.
И если теперь мы по тем же торцам пройдём Петербургом Вторым,
То место увидим, а Гения – нет: он смертен и неповторим.
Живет он не только в замшелых камнях, в клубящемся сумраке ниш,
Но в душах исчезнувших тех горожан, а их-то и не повторишь.
Какие пришельцы в каких пришлецах его воскресить бы смогли,
Покуда встревоженной пены морской теснятся «барашки» вдали?
Ока
Юность – говорливая стихия,
Я освободил твое жильё.
Здравствуй дочь покоя, Исихия,
Вольное молчание моё.
Всё, что надо, сказано и спето.
Всё, чем жил, переговорено.
Мне теперь на смену слова-света
Чуткое безмолвие дано.
Меньше малых, в миг почти случайный
Я узнал про то, как, Небо, ты
Каждого, кто причастился тайны,
Наделяло даром немоты.
Так благословенно и влюблённо
Шли волхвы к подножию холма.
Так творилась Троица Рублёва,
Музыка Давидова псалма.
Затворю уста и – тише, тише —
В слух преображаюсь, не дыша,
Чтоб могла услышать голос свыше
И Ему покорствовать душа.
Лучшее из наших утешений —
Чистого безмолвия печать.
Слово – благо, но еще блаженней,
Преклонившись, слушать и молчать.
Наташе
Венеция
Речной волны песчаный шорох,
Оки просторный поворот,
И над водой ворон тяжёлых
Горластый, бреющий полёт.
Прошелестит в стволах отвесных
Упругий ветер, уходя,
И тянет стая в клювах тесных
Косую кисею дождя.
Она ложится складкой первой
Нам сверху на плечи с тобой,
И хорошо под этой серой,
Под этой старой кисеёй.
Когда еще, в каком столетье
Нам возвратят счастливый час,
Чтобы вот так могли смотреть мы
На все, что связывает нас —
На поворот Оки широкий,
Теченья темную струю
И на спадающую в ноги
Дождя сырую кисею…
Троица
Я знаю, в этом городе должны
Жить только те единственные тени,
Чьи дни при жизни были сочтены,
Как в воду уходящие ступени,
Где серая когорта январей,
Лагуны ветром от моря гонимых,
Проходит, как цепочка фонарей,
По низким берегам неисцелимых.
Что делать мне под хмурою стеной
С моей веселой памятью о солнце?
Одиннадцать столетий за спиной
Блестят, как крошки золота на донце.
Ночной прилив поднимет до плеча
Морских огней мерцающие бусы,
А в полдень ниспадает, как парча,
Стоячий плеск воды зеленорусой.
О, праздник света, пёстрый карнавал,
Смешенье красок, шум, столпотворенье!
Большой канал похож на интеграл,
Изображённый в третий день творенья,
Изборождённый стрелами гондол,
В которых мавр везёт гостей из Гавра,
А догаресса, приподняв подол,
Уже ступает на борт «Буцентавра».
Завалены товарами мосты,
Запружены игрушечные пьяцца,
И чайками разубраны кресты
Под звон колоколов и смех паяца.
Венеция – подобье райских кущ,
Они, и вечны и неугомонны,
Так почему охватывает плющ
Укутанные бархатом колонны?
Зияют окна чёрные кругом.
С кем город-призрак борется в тумане?
Кто и когда с кормы косым веслом
Захлопнет ставни на дворце Гримани?
Ещё не вся искуплена вина,
Ещё не все оплаканы потери.
Зачем же бирюзовая волна
Стеклянные оплёскивает двери?
Смелее, Адриатика, входи
В свой ветхий дом, в забытые покои
И хороводы зыбкие води,
Покачивая белые левкои.
Теперь я не забуду твой напев,
Над площадью гнедых коней квадригу
До той поры, пока крылатый лев
Не дочитает мраморную книгу.
Лене Смирновой
Ночь Рождества
Храм затрушен свежею травой,
Весь увит весенними цветами.
Кажется, что Иисус живой
С улицы вошёл сюда за нами.
Мы ещё не видим в темноте
Как стоит Он тихо за спиною,
Чуткою своею немотою
Прикасаясь к нашей немоте.
Солнечный, спустившись с хоров, луч
Тьму разнял и сделал пыль прозрачной.
Что он осветил, как альт, певуч,
В этой душной полночи чердачной?
Лика материнского овал?
Детство, проступающее в грёзах?
Запах трав и дух сухих берёзок —
Троицы душистый сеновал.
Друзья оглашали вечернюю тишь,
Гуляя, как прапор в каптёрке,
И чёрную корку за кружкой, как мышь,
Гоняли по смятой скатёрке.
Ты помнишь тот флигель на спуске к Трубе,
Пронзительный голос трамвая?
Я в зиму распахивал окна тебе,
Счастливый билет отрывая.
Умел нам сочельник снежку натолочь,
Проглянул и месяц-разбойник,
Когда головами в раскрытую ночь
Клонились мы за подоконник.
Греми же, вагон, закусив удила,
Срывайся под горку ретиво,
Пусть, снег по бокам прожигая дотла,
Безумствует рыжая грива.
Высоко-Петровский молчун-монастырь
Поодаль чернеет устало.
Рождественской ночи оконная ширь
Его не признала устава.
Скажи мне, душа, как занес тебя Бог
В столицу метельного стана
Оттуда, где Лия сплетала венок
Над светлой струей Иордана;
Оттуда, где каперсом дышат холмы,
Где месяц встает над оливой,
В морозные хрусты московской зимы —
Далекой и самой счастливой?
Безбожница, старая сводня Москва,
Гремящий под окнами коник.
Любовью объятая ночь Рождества
И белый, в снегу, подоконник.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































