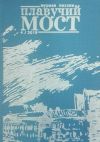Текст книги "Плавучий мост. Журнал поэзии. №1/2020"
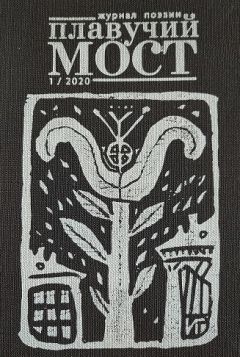
Автор книги: Коллектив авторов
Жанр: Журналы, Периодические издания
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Емельян Марков
Поэт за окном
Александр Радашкевич. «Реликварий ветров» Избранная лирика.
«Алетейя», Санкт-Петербург, 2020.
Хорхе Луису Борхесу нравилось описывать некую небывалую страну, ее народ, нравы, нюансы ее языка, – создавая иллюзию исторической достоверности, но – с достоверным же элементом фантастичности. Этот достоверный элемент фантастичности и оказывается реализмом Борхеса.
Перед нами книга стихов Александра Радашкевича, охватывающая большой период его творческой работы, – «Реликварий ветров» (избранная лирика).
Много сил автор отдает воссозданию констатаций и гиперчувственной атмосферы Галантного века, богата география сборника, сильна родовая гравитация родных мест, особенно Уфы («я полюбил / обратную Уфу») и Петербурга
(«Вспухнет сизая Нева в пыльных парапетах, / и от глаз моих глаза / отведут портреты»), внимательно сфокусированы хроники повседневного Парижа («меж / коченеющим от счастия Парижем / и подошвой облачных миров»; «Какой дотошный / дождь в Париже. Он голым / бегает по крыше»; «Упражняйтесь жить в Париже»; «бессмертен каждый / жест в Париже»). Но – почему мы начали здесь с отношений с реальностью Борхеса? У Радашкевича сама реальность мира подтверждается его же иллюзорностью, а иллюзорность, обратно, – предметностью. И у Радашкевича, и у Борхеса, и всегда в искусстве – существенно оригинальное подтверждение реальности. Причем, почему-то важно, чтобы оно было обязательно оригинальным. Подтвердить ее вторично в чужом тоне – это уже достаточно пустое занятие. В подтверждении бытия надо быть всегда первопроходцем. Как же это получается у Радашкевича? Подтверждаемая им реальность проблематична: и в аспекте времени, и в аспекте пространства; а главное – в аспекте покоя как свойства и цели искусства («А небо белое в глазницах, а алое в груди»; «Писать надо просто и страшно, / Писать по вину и воде»).
Обратная перспектива времени соответствует самой хронологии стихов в соотношении с биографией. Эта перспектива имеет два плана. Один привычный – закономерное становление поэта и индивида; но другой – такой, что становление как бы идет вспять, то есть автор как бы предчувствует свои ранние стихи в последующих, и при этом в ранних стихах осведомлен о будущих заранее. Это выставляет Радашкевича за границы эпохи. Его стихотворения 70-х годов трудно назвать характерными для того времени. Скорее, ощущения
70-х найдешь в стихотворениях уже 21-го века (Наш / воротник из чебурашки, в кармане / шиш, но нараспашку чело, и / взор неуязвим»). Эта особенность – словно какая-то пещерная река, втекающая сама в себя, если такая, конечно, существует. В физической природе встречные течения образуют водоворот, но у Радашкевича будущее втекает в прошлое беспрепятственно, потому что образует небывшее, которое, в свою очередь, встречается с бывшим, и тогда возникает возможное; оно уже встречается с невозможным, и только тут с поэтом Радашкевичем можно заговаривать о реальности.
не было тебя в твоём углу / за чаем, но и меня не очень было…
Или:
…Вагон
над Сеной
пятится
вперёд.
За то, что
поспеваю торопиться, опять просо —
бираюсь опоздать. Помилуй мя,
Или такое:
Писать с приставками
глаголы, чтоб ветер их
передразнил. Болеть лишь
тем, чего не будет, а будет —
небылью крестить.
Если же стихотворения Радашкевича читать как детектив, живо представляя их действие, то это занятие будет, что называется, не для слабонервных. Часто эти стихи создают атмосферу размеренного кошмара, который даже и не разрешается событийной катастрофой, как у Эдгара По. Представьте, насколько страшнее были бы новеллы По, если бы они в финале не констатировали какую-нибудь катастрофу? А Радашкевич доводит читателя до этой критической точки ужаса и вдруг снимает реальность.
За арками из возлетающих крон курчавый
затылок королевы Гортензии в савойском
Экс-ле-Бене, глядящей с мёртвым пуделем
в амфитеатр синих грёз и отболевших далей,
за раму в раме преданного сада, где крупы
идиллических коров и дамы, подобные
мраморным музам, и, может быть, закатный
променад в розарии влюблённой Жозефины,
в элизии всех статуй и колонн, по
адресу, что ветер нашептал.
Снимает, и сам это осознает:
где всё одно, где я не я и ты не ты, где так желательна погибель, я не вошёл в тот долгий взгляд и из него уже не вышел.
Это можно еще сравнить с пробуждением после ночного кошмара.
где так легко и так непоправимо / ничто не названо ни именем своим, ни местом всеземного обретанья; / под непробудный бой часов, чьи гири сорваны, а стрелки пляшут, / несомым краем выморочной яви любителям сновиденного зренья, / читателям моих стихов.
Но ведь у Радашкевича нет и самого пробуждения. Проблему реальности он оставляет открытой. Он выводит читателя из зоны комфорта и не возвращает обратно. Что остается читателю? Ему может показаться, что это игра не по правилам. Ему остается разве что с великодушной помощью автора создавать, или воссоздавать, уже свою собственную реальность. А это ведь задача не из легких. Может быть, традиция русской поэзии, и самого чтения русской поэзии, в свое время отдала предпочтение Пушкину перед Баратынским как раз потому, что Пушкин позволяет читателю остаться в безвыходной сказке в ожидании скорого пробуждения Мертвой Царевны («Ах, как долго я спала!»), а Баратынский – нет, его смиренные строки понуждают читателя к одинокому напряжению воли, творческой воли. В стихах Радашкевича есть этот элемент. Но у него другой призыв, нежели у Баратынского, у него читатель должен сориентироваться более ситуативно, причем, без промедления. У Баратынского над строкой есть время поразмыслить, Радашкевич такого времени не предоставляет: ты должен совершить какой-либо выбор здесь и сейчас, немедленно принять решение. Но – какое решение? Какое решение может быть приятно в достоверной мнимости и мнимой достоверности? Барататынский все же что-то подсказывает, а Радашкевич предлагает разве что всё забывать, но – забывать не забывая, а как это возможно в такой краткий срок, какой его поэзия отпускает на принятие решения? И читатель оказывается в неведении относительно самого себя. И это неведение сохраняется в экзистенциальном остатке, который оживляет действительность и сбивает с пути в сторону какой-то нови, но без каких-либо гарантий какого-либо, даже экстремального, комфорта. Причем «слишком человеческое» не разряжает ситуацию, оно просто сосуществует вместе с этим. Я имею в виду – ностальгию («Русская судьба, / без спроса, без толку, безмолвьем подарила»; «Полночи промолчали о России, но ни / одна свеча не потекла»), боль утрат
(«утрачен ржавый ключ от / тающей аллеи»; «и чья от порога дорога, / как дым, не срывается вспять»; «Нет форточки, в / которую юность / смотрела в полночь») и недовольство уродливой современностью («кто прячет / проигравшие глаза / и носит обезьяну на плече в те дни, когда / не носит попугая»). Ни то, ни другое, ни третье не дает равновесия читателю, не удовлетворяет его в окончательной оценке содержания этих стихов. На таких чувствах и оценках тут нельзя с автором «порешить». Он все равно укажет в календаре какой-то день без числа, а на карте дом без номера.
В поиске традиции и аналогий можно обозначить, в чем-то гумилевское, освоение квазиисторической экзотики, священное мальчишество на уровне действа одинокой игры на берегу утонувшего гербария.
где на троне, в короне из замши, / почивает с открытым глазом половинка зелёной змеи, истекая / смарагдовой кровью, о заблудшем охотнике-принце в опрокинутом / взгляде лани…
Это – хождение вокруг да около дома по другим планетам. Бережное отношение к собственному призыву («и живые живое допьют»); правда: «у прозрачного дома, / где они непробудно / живут». То есть и здесь романтичное детство упирается в актуализированную мнимость, в игры на сновиденческом полу в приснившиеся игрушки, поэтому прослеживается особое великодушие сна (ведь сны все-таки великодушны). И вот тут можно представить себе некое четвертое измерение, в котором только и обретается покой. Поиск этого четвертого измерения, его нахождение и можно оставить себе как авторскую гарантию.
Молодой Лев Толстой учился писать, наблюдая за происходящем на улице через открытое окно. Окно Радашкевича может быть открытым, может быть закрытым и наглухо занавешанным, важно, что за окном находится сам поэт и его четвертое измерение, причем, оно же – в просторном отражении стекол его окна.
Я стал заряжен в тёмный ствол / Аллеи…
–
И в ночь иль день, / когда воронка звёзд иль сини из плоти вытянет…
–
Дали зеркальные в тысячи цинов…
–
лишь синь да ласточек, целующих грядущие / дожди…
–
за ветром мраморным любви…
–
у нас ещё всё позади…
Примечание:
Марков Емельян Александрович. Прозаик, поэт, драматург, критик. Родился в Москве в 1972 г. Член Международного ПЕН-клуба.
Сергей Ивкин
Война за душу
(Три взгляда на поэтическое слово)
Поэты Первой мировой. Германия, Австро-Венгрия / сост., пер. с нем. А. Чёрного. – М.: Воймега; Ростов-на-Дону: Prosōdia, 2016. – 264 с.: ил. Поэты Первой мировой. Британия, США, Канада / пер. с англ.; сост. А. Серебрянников, А. Чёрный. – М.: Воймега; Ростов-на-Дону: Prosōdia, 2019. – 284 с.: ил. – (Поэты первой мировой).
Данный двухтомник предполагает продолжение, но станем говорить о нём как о состоявшемся проекте. Второй том открывается цитатой из Уилфреда Оуэна: «…меня совершенно не заботит Поэзия. Мой предмет – Война и сострадание Войны». Однако открывают книгу стихотворений именно в поисках Поэзии. Даже если это – агитка, проплаченное или самообманывающееся враньё. Поэзию у всех народов пытаются сопрячь с пользой. Редкий случай её признания на государственном уровне – выражение публичной скорби по жертвам войны. Муза получает карт-бланш: пацифистские строки идут в дело, подвиг пишущего и подвиг умирающего становится единым. Даже в постсоветской культуре тема Первой Мировой не любима: со стороны Российская империя выглядит дезертировавшей из окопов, совершившей самострел, обернувшейся другой страной, возглавленной выходцем из лона врага. Тем интереснее сейчас читать эти книги, проливающие свет среди прочего на русскую историю и литературу.
Первая антология, полностью переведённая и составленная Антоном
Чёрным, удивляет и восхищает неожиданной цельностью представленного материала, общий свод стихотворений видится высококачественным гипер-текстом (со множеством перекличек между лично не знакомыми авторами), а разрушенная (традиционная для немецкой культуры) музыкальность – именно ранами на теле культуры. Да, подавляющее большинство написанного составил агитационный мусор, но на пляж вечности волны национального подъёма выбросили и настоящие сокровища. Хотел бы, отстраняясь от таких имён как Райнер Мария Рильке, Герман Гессе или Стефан Цвейг, рассказать о собственных открытиях.
Для русского читателя образ Поэта на войне (на уже другой войне) сформирован Александром Твардовским. Поэт-певец Василий Тёркин – персона эпическая, даже архетипическая: автоматически в любой иной культуре мы ищем ему родственника. Лирический персонаж книги Теодора Крамера «Трясинами встречала нас Волынь» (1931) предвосхищает и строгую форму русского эпоса, и эмоциональную нарративность, и панорамную документальность любимой поэмы:
И поддались вперёд под ураганом / безропотные волны серых спин, / как на манёврах. Жутким барабаном / бил в уши вой взрывающихся мин. /
Пока одни сжимали карабины, / готовились к рывку, примкнув штыки, / другие среди мусора и глины / уже лежали, закатив зрачки.
Классик немецкого символизма Стефан Георге на русский (как и большинство авторов обоих томов) переведён впервые. Державшийся стороны в Швейцарии, в 1917 году он выпустил отдельной книгой поэму «Война».
При её чтении мои глаза невольно поднимаются на книжную полку, выискивая том стихотворений Максимилиана Волошина, его поэму «Путями Каина». Часть поэмы Волошина писалась в те же дни, и раньше. Время одним голосом говорило и с художником в Крыму, и с затворником в Швейцарии:
Не столь дивит, что многое погибло / Сколь дивно, что живое всё же есть. / Кто с веком в ногу · зрит одно смятенье. / Кто глуп · твердит:
«Ты этого хотел» / Все и никто – таков ответ короткий. / Кто лжёт · утешит: «Подлинно грядёт / Эпоха мира». Лишь зачёркнут срок: / Ещё брести и вязнуть по колено / В кровавом сусле мировой давильни…
На общем фоне судьба издателя и военврача Вильгельма Клемма выглядит счастливой: прожил долгую жизнь обеспеченным человеком, даже при нацистах его не тронули, только запретили печататься. Но биография поэта снаружи не видна, ад у пишущего внутри:
Тесно и криво словно в кишке! Ракета пошла / Величественна и светла. Поле мукой побелело / На миг. И вновь ночь. Пока призрачный палец прожектора / Не ощупает в тысячный раз зону смерти.
Генрих Лерш для Западного Берлина был слишком «рабочим», а для Восточного – «деклассированным буржуа», к тому же поддержавшим Гитлера. Строки его стихотворения «Прощание солдата» стали эпитафиями на многих могилах, но поздние исследователи отнесли его творчество в третий ряд, посчитал «эхом Уитмена» и «истощённым Шиллером». Но читая его «Богородицу в окопах», я вспоминал «Богородицу военнопленных» Константы Ильдефонса Гальчинского (которая придёт в следующую Мировую войну):
О Богородица, обойди стороною хоромы богатых / и посети нас в убогих землянках и хатах. / Бедных и праведных ты усади от себя одесную, / тех, что тебя призывают на передовую.
Английского аналога Тёркина во втором томе антологии я не нашёл, но встретил возможность такового у «канадского Киплинга» Роберта Сервиса в «Человеке с Атабаски» (шестидесятилетний индеец, служащий в Иностранном легионе):
Вечерами вкруг садились, и я плёл свои побаски / про холодные просторы, где живут овцебыки, / Про оленей большерогих на равнинах Атабаски – / И раскрывши рты, как дети, мне внимали мужики; Всех цветов глаза и кожа, и в упор глядят зрачки! В английском каноне, составленном Робертом Грейвзом, тремя величайшими английскими поэтами Первой мировой названы Уилфред Оуэн, Айзек Розенберг и Чарльз Сорли. В целом английское наследие, ориентированное на классическую литературу, мне показалось более бледным, а из военной троицы заинтересовал исключительно Розенберг, своею близостью эстетике немецких экспрессионистов:
Шальная Земля! Кишки твои мечутся с воем, / В огне раскалённой железной любви, / В шторме свирепой любви. / Земля и Небо! в газовом дыму, /Когда целуете безмолвный дух / Гром сердца, начинённого взрывчаткой, / Рождает труп, что сам себя хоронит. Крупнейший английский критик Эдвард Томас, друг Роберта Фроста, уязвлённый его стихотворением «Неизбранная дорога», несмотря на непризывной возраст, пошёл на войну добровольцем. Погиб сразу же по прибытию на фронт. И эта смерть создала ему такую репутацию, что крупнейший британский поэт ХХ века Тэд Хьюз назвал Эдварда Томаса «Отцом всех нас». Гордый стоицизм как знамя:
Блажен мертвец, омытый этим ливнем; / Но я молю, чтоб этой ночью те, / Кого люблю я, не умирали или / Не бодрствовали, слушая тот дождь, / Не мучились, не вызывали жалость, / Бессильны средь живых и мертвецов, / Как стылая вода средь камышей, / Разорванных на тысячи обломков, / Как я, с которого смыл дикий дождь / Любовь любую, кроме страсти к смерти…
Томаса Эрнеста Хьюма называют в числе зачинателей англо-американского модернизма. Наследие его ничтожно по объёму, но благодаря дружбе с Эзра Паундом сохранился «миф поэта», создавший параллельную «сынам Эдварда Томаса» дорогу:
Туда-сюда по линии фронта / Люди снуют, как по Пикадилли, / Пролагают тропки во тьме, / Через лопнувшие конские трупы, / По брюху мёртвого бельгийца. / У немцев есть ракеты. У англичан нет ракет. /
За линией фронта пушка, спряталась за много миль отсюда. / За линией фронта хаос; / Мой мозг – коридор. Мозги вокруг меня – коридоры.
Говард Филипс Лавкрафт тяжело переживал неучастие США в Первой мировой, собирался пойти добровольцем, но под натиском матери признал свою негодность по здоровью. На вступление своей страны в военные действия разразился громкой пафосной одой: Мы, потомки Колумбии, чей праведный гнев / Бросил вызов монарху, страну основали, / Против братьев-британцев клинок свой воздев, / И с тех пор поражений позорных не знали; / И должны теперь мы, / Столь храбры и прямы, / Разогнать облака наседающей тьмы: / Ведь уже не враги нам Британии дети, / И восславят они нас за подвиги эти!
Но для детей Британии американские союзники остались (по меткому замечанию Редьярда Киплинга в стихотворении «Виноград») персонажем евангельской притчи, «работником одиннадцатого часа», пришедшим в самом конце работ и получившим равную награду со всеми остальными (МФ. 20: 12–16). И даже литература этого отношения не изменила. Важнейшим поступком Антона Чёрного и Артёма Серебренникова стал созыв под общую обложку не только британцев и американцев, но и канадцев, шотландцев и ирландцев, что на их родинах до сих пор немыслимо. Поэзия сквозь «Войну и сострадание Войны» проросла. С нетерпением жду вероятные следующие тома этой серии, в том числе заново собранную историю Русской Поэзии 1914-1917-х годов.
Мария Малиновская. Каймания: стихи. / Предисловие Виталия Лехциера – Самара: Цирк Олимп+TV, 2020 – 96 c.
В процессе обучения литературному мастерству на семинаре Андрея
Санникова я вместе с другими учениками внимательно изучал творчество душевнобольных как неконтролируемую творческую энергию: поэт либо берёт свой Дар под строгий контроль, либо гибнет. Потому что Бездна всегда близко. И заглядывать в неё – искушение. С большим испугом я открывал книгу Марии Малиновской, в которой собраны свидетельства таких Бездн. Что в этой книге является Поэзией? Именно контроль: мера усекновения речи, гармония коллажа. Книга состоит из трёх частей. В первой рассказываются истории реальных людей, находящихся на учёте в психиатрических клиниках, нарезанные из личной переписки (иногда с сохранением времени писем):
Однажды «посватался» Король белой жемчужины. / Не знаю, что это, но звучит красиво. / После него стало ясно, что со мной «работают» / уже только высшие силы, / чтобы попасть в какое-то место – континиум. / Континиумы пронумерованы, / но некоторые имеют названия: / Земля, Солнце, Америка, Исландия / (в ней голоса всегда мёрзнут, / находится на грудине). / Самое красивое название – Средизорье, / сразу после страны великанов. Во второй собраны свидетельства реальных людей, переживших феномен «подселения» (человек осознаёт, что его физическая оболочка является пристанищем более, чем одного разума): недавно повстречала женщину / при просмотре вижу как богомола огромного / это вполне разумный богомол / он в ней живёт и полностью захватил управление / эта женщина вполне успешно занимается бизнесом…
Третья часть основана на документальных записях людей, зафиксировавших «речь» слышимых ими голосов. «Стихотворения» этой части перемежаются рассказами других людей о жизни с этой проблемой: будешь писать – я обижусь, я тебе сказал прекрати / чтоб найти меня используй ник мой «Господ Шива» / а если не боишься оставайся я доведу тебя до беспамятства / у тебя будут проблемы с лёгкими сегодня / слышь ты… прекращай взаимодействовать со мной / слышь ты… прекрати связываться со мной / я тебе жизнь сломал и знаю об этом Из рассказа Ирины: голоса могут преображать концовки звуков в слова, и тогда мы слышим слова, которые ходят по нашей личности. хорошо подражают любому человеку, любому стилю, имеют свою базу знаний. поначалу говорят загадками. это будоражит психику, не даёт жить. но нужно терпеть. чем дальше, тем тяжелее. главная их цель ваш позор. опоют – и вы пустое место. убить вас, отобрать у вас годы жизни…
Очень тяжело воспринимать данную книгу чисто эстетически. Но автор не идёт против этики, он, следуя ответу Пушкина Вяземскому, ищет исключительно Поэзию, и ищет там, где линия фронта пролегает через человеческую психику (или душу?).
Константин Кравцов. Заостриться острей смерти. Мастер-класс быстрой езды, или школа Дениса Новикова. – М.: СТиХИ, 2019, – 150 стр. с ил. – Серия «Praenomen». Книга первая.
Однажды на моих глазах за праздничным столом схлестнулись профессиональный психотерапевт и кавалер наградного знака святого преподобного Симеона Верхотурского «За Богоугодные труды» на тему существования «православной психиатрии». Для доктора подобная дисциплина была немыслима, она шла в разрез со всем тем, чему его учили и чему он служил. Для общественного деятеля, журналиста и поэта напротив было понятно, что воцерковлённый человек находится в иной ценностной парадигме, задаёт иные вопросы и ищет иные ответы. Спор разрешился прекращением праздника, а я много лет не понимал сути конфликта, пока не раскрыл книгу, выпущенную в новой серии товарищества поэтов «Сибирский тракт», предназначенную исключительно для критики и публицистики: отец Константин Кравцов представил труд по «православной филологии».
Чем православная филология отличается от привычной? Нет, не цитированием библейских текстов, а рассмотрением того, как последовательно автор уподобляется Христу, какие именно христианские добродетели и подвиги реализует в своём творческом пути. Светскому читателю многие выводы покажутся абсурдными, а то и бессмысленными, но для читателя, живущего христианскими истинами, такой разбор полон радостных узнаваний:
– Жизнь и поэзия соединены по принципу Халкидонского догмата неслитно и нераздельно. Поэт, таким образом, живёт двумя жизнями, в двух существующих самостоятельно, но не порознь, планах бытия, и они для него равнозначны. – Да, моральные предписания были бы действенны, будь человек целиком и полностью сознательным существом. Но кроме разума, у него есть то, что называется бессознательным, а вот этих гнездящихся в подкорке зверей укоротить может только лира Орфея (Орфей совсем не случайно был катакомбным и, возможно, первым изображением Христа).
– А потому и вся полная «падений» жизнь поэта – крестный путь.
<…> Христос помогает нести поэту его «скорби», как когда-то Симон из Киринеи помогал нести крест «Царю иудейскому».
Касаемо Дениса Новикова, что такой ракурс позволяет увидеть нового? Раскрыть тёмные места во многих его стихотворениях (хотя бы дать трактовку), объяснить его отстранённость от литературной жизни, обосновать смерть в Святой земле. Не так уж и мало. «На фронтах Мировой Поэзии люди честные все святы», – пел Александр Башлачёв. Вот отец Константин
Кравцов и вносит имя Дениса Новикова в списки Ангельского воинства, в свои личные поэтические святцы.
Примечание:
Сергей Ивкин – поэт, художник, редактор. Автор 10 книг стихотворений. Член Союза писателей России. Лауреат премии “MyPrize” (2018). Член жюри Литературной премии им. П. П. Бажова. Живёт в Екатеринбурге.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.