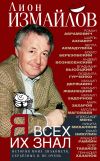Текст книги "Сергей Иванович Чудаков и др."

Автор книги: Лев Прыгунов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
VI
«Националь»
И снова Осетинский. Я пользуюсь его цитатами только для того, чтобы показать, насколько мал, тесен и недолговечен круг наших знакомств, передвижений и связей – и как всё переплетено между собой!
«Живу у легендарного Виктора Горохова у метро «Аэропорт»… Пишу роман под названием «Штучный человек»… Роман, естественно, под двумя фамилиями. Моя задача – писать каждый день три страницы гениального текста. Задача Виктора, жаждущего славы, – набить холодильник жратвой и водкой… Уговор – десять рублей страница. Писать трудно – романтическая квартира есть большой соблазн – ведь везде, только встань из-за машинки и выйди из подъезда – сказочные русские девы – пугливые и огненные! Но – уже сорок страниц написаны. Все читают и балдеют. (Из-за сорока страниц этих меня уже возили в Ленинград, поили Шлепянов, Рейн и Авербах, показывали, как московскую диковину – писатель-вундеркинд. А в Ленинграде ведь тоже – удивительные дамы!)» («Витька-дурак. История одного сценария», стр. 22)
Я, как и любой завсегдатай «Националя», прекрасно знал Виктора Соломоновича Горохова – славившегося в основном тем, что не было дня, чтобы он не сидел в кафе «Националь», если, естественно, был в полном здравии. Это был милый, интеллигентный человек, инфантильный и тщеславный, и от этого всего важный и напыщенный – впрочем, лишь поначалу.
Но – через пять минут разговора, после того как он произносил фразу: «Когда я получил Сталинскую премию за книгу о Поле Робсоне…» – он тут же успокаивался – планка была уже закреплена – и становился славным и довольно остроумным человеком. Он иногда звонил мне (когда я жил в комнате или квартире с телефоном) и голосом, полным достоинства, спрашивал: «Лёва, вы не смогли бы одолжить мне две тысячи рублей?» Я ахал, охал: «Виктор Соломонович, вы что, совсем охренели?»
Тогда он задавал второй вопрос: «А рублей десять?» В «Национале» он появлялся часов в двенадцать, не раньше, и иногда небрежно бросал: «Я уже часа четыре поработал…» А наш общий друг Сергей Богословский как-то сказал, что Горохов на самом деле иногда встаёт часов в восемь, садится за свой письменный стол, берёт бумагу, заправляет ее в пишущую машинку, но потом кладёт голову на руки и… засыпает. И спит часа три. И так почти каждый день, так что на сукне письменного стола чётко проступили потёртости от его локтей.
Он знал, что я дружу с Ерёминым и Виноградовым, и однажды рассказал мне историю, как они у него ночевали. Это было как раз в 1962 году – или до, или после нашей жизни у Чудакова. «Они мне позвонили вечером и попросились переночевать. Я знал, что они замечательные и талантливые ребята, и, конечно, их пригласил. Поставил чай, накрыл стол и приготовился к интересным разговорам и прочее.
Они позвонили. Я открыл дверь – стоят два мрачных человека – один с палкой, другой с псориазом. Я им говорю: «Проходите, пожалуйста!» Они молча прошли. Ерёмин спросил: «Где мы будем спать?» Я говорю: «На кухне, я уже там всё приготовил». Не говоря ни слова, они прошли на кухню, закрыли за собой дверь и легли спать. Вот и весь вечер».
И ещё продолжение Осетинского: «И я иду в квартиру Горохова на третьем этаже, а на первом живёт Михаил Аркадьевич Светлов. Мы подружились и частенько вместе отправлялись на «уголок», в тот бывший «Националь» с метрдотелем Мусей, подругой Ю. К. Олеши – моего учителя. Другая история!» («Витька-дурак. История одного сценария», стр. 23)
Я стал бывать в «Национале» в 1961 году, а Олеша умер в 1960-м. Но вот Михаил Светлов на самом деле бывал там часто. Один раз мы даже оказались за одним столом, и я запомнил его смешное замечание. В «Националь» вошёл молодой человек, очень «заметно» раскланялся со Светловым, и, когда он садился за стол в конце зала, Михаил Аркадьевич сказал: «Смотрите – сейчас он будет говорить, что поздоровался со Светловым». Молодой человек тут же стал что-то возбуждённо говорить и кивать на наш стол. Это было смешно и точно.
Лично я никогда не видел в «Национале» Осетинского со Светловым, но зато был свидетелем нескольких скандалов, связанных с Олегом.
Однажды он вошёл в кафе и, увидев там Андрея Тарковского, стал кричать на весь зал: «Вот – посмотрите – перед вами сидит вор! Этот вор – Тарковский! Он меня обокрал!» Тарковский вскочил и тоже стал что-то кричать в ответ. А Осетинский продолжал своё, прибавляя только самые любимые свои слова: «Мерзавец! Ничтожество!» и т. д., и полез в драку, но, слава Богу, его остановили и вывели из кафе. Минут через пять он снова оказался в зале и уже без скандалов просто сидел за столиком и только иногда отпускал в сторону Тарковского оскорбительные реплики.
(Из Осетинского: обращаясь к Андрону Кончаловскому: «Ты ведь знаешь, как я на премьере фильма в Доме кино, сев на кресло и загородив выход на парадную лестницу, крикнул Тарковскому – «Эх вы, …, даже украсть как следует не умеете!..» Да, кстати, а с кого я получал деньги в ВААПе, когда вы с Тарковским пытались присвоить мой сценарий как бы законно? Не вышло, благодаря честности М. Ю. Блеймана, эксперта и других?!» («Витька-дурак. История одного сценария», стр. 150)
Тут я должен встать на сторону Осетинского – к сожалению, я не помню, о каком сценарии идёт речь, но отлично помню, как мы в «Национале» обсуждали эту историю. И тут же вспоминается другой скандал с Тарковским и Кончаловским – Василий Ливанов предложил Андрею Тарковскому уже готовый замысел сценария об Андрее Рублёве с условием, что Рублёва будет играть Ливанов. Но проходит всего месяц или два, и Тарковский с Кончаловским пишут сценарий и снимают фильм без Ливанова, полностью используя концептуальную сторону замысла Ливанова. Для Васи (я могу его так называть, поскольку мы об этой истории говорили с ним и в 60-е годы, и совсем недавно) это было не только творческой потерей, но и потерей друга детства – Андрона Кончаловского. Тарковский, без всякого сомнения, режиссер великий. Пикассо тоже был великим художником, однако, когда он намеревался прийти в мастерскую какого-нибудь художника, тот немедленно прятал свои лучшие работы. И тут дело вовсе не в плагиате – любую идею гений Пикассо «перемалывал» своей уникальной личностью и энергией до неузнаваемости. Так что гениям все можно!
И ещё Осетинский: «Вступление в Союз кинематографистов защищало тебя автоматически, но бесконечное количество приводов за драки в ЦДЛ, ВТО и родном ресторане – не выношу грубости и хамства, лезу в драки до сих пор! – непочтительное поведение с начальством и запреты кума не давало мне, несмотря на все премии и восторги, возможности вступить в Союз…» («Витька-дурак. История одного сценария», стр. 47)
Ещё один скандал, более грандиозный, тоже случился на моих глазах. У художника Сергея Богословского был замечательный друг, которого все мы звали Митичка Виноградов. Он был сыном Ольги Ивинской – любимой женщины Пастернака, и я счастлив, что однажды, благодаря дружеским отношениям с Митичкой, я провёл за одним столом в ресторане Дома кино целый вечер с этой удивительно красивой, умнейшей и мужественной женщиной. А в «Национале» примерно в 1966–1967 году мы с Митичкой сидели вместе – это было летом, днём, но почему-то Серёжа Богословский сидел отдельно от нас в самой середине зала. И вдруг в зал заходит Осетинский и сразу начинает «поливать» Богословского всё теми же словами: «Бездарь! Ничтожество! Негодяй!..» Но тут уж Серёжа мгновенно встаёт, и начинается классическая драка «в салуне» из ковбойского фильма. И Осетинский, и Богословский – хорошие бойцы, летят столы, бьётся посуда, в зале переполох, официанты пытаются их остановить, мы с любопытством наблюдаем – кто кого, кто-то вызывает милицию, и Сергей, который, в общем, выиграл битву, вынужден уйти, потому что в то время у него были какие-то явные нелады с милицией. Очень быстро появляются два милиционера, мы с Митичкой их встречаем и на глазах у Осетинского «объясняем», что пришёл какой-то хулиган, затеял здесь драку и ушёл, – в полной уверенности, что Осетинский нас поддержит, хотя бы для того, чтобы не оплачивать разбитую посуду. И тут вдруг Осетинский кричит: «Я знаю этого хулигана! Это Сергей Богословский! Он тунеядец! А живёт он на Ленинградском проспекте, дом 18, квартира 101!» Мы с Митичкой так и ахнули! Вот и приехали. А через час, оказавшись в одной «клетке на колёсах», они помирились и всех в милиции «заболтали».
О «Национале» можно говорить бесконечно, жаль, что пока никто не написал о нём что-то особенно интересное. Попробую очень коротко и без всяких претензий описать только общую картину нашей замечательной жизни в этом кафе, будто специально подаренной нам Господом в бездарные советские времена.
В «Национале» было как бы три поколения, каждое из которых смотрело на более младшее с некоторым пренебрежением, а младшее, наоборот, с восхищением на старшее. Старшее со средним, как правило, перемешивалось, в зависимости от талантов и способностей тех и других. Врачи, адвокаты, подпольные цеховики, «каталы», т. е. профессиональные картёжники, литераторы и поэты всех возрастов, художники и скульпторы, режиссёры, драматурги, фарцовщики-валютчики-иконники, кагэбисты и стукачи, которые могли быть одновременно всеми перечисленными, проститутки, сутенёры, и прочее и прочее. И почти все почти про всех почти всё знали или догадывались, но предпочитали в чужие дела не вмешиваться. «Наша» компания как-то сразу перешла в «середняки», а самыми младшими были в основном студенты факультетов журналистики и психологии; последний находился прямо за углом, за «Интуристом», и двор их назывался «психодромом», потому что там уже тогда вовсю курили анашу, глотали кодеин, тазепам и кололись чёрт знает чем.
В 1962 году в «Национале» я вдруг и сразу подружился с Романом Капланом, который сбежал из Ленинграда от какого-то преследования, и потом все десять лет, пока Роман не эмигрировал в Израиль, мы были с ним ближайшими друзьями. Дружили как-то парами и тройками: я, Виноградов и Ерёмин, когда он был в Москве, я и Виноградов, я и Роман Каплан, Роман Каплан – я – Миша Ерёмин, Сергей Богословский – Роман, Лёва Шнейдерман и я. Чудаков заходил в кафе не очень часто, но всегда бурно и заметно, и так же бурно исчезал. Виноградов не любил Каплана и Чудакова. Каплан не любил Виноградова и был совершенно равнодушен к Чудакову. Я с восхищением, но и с большой опаской относился к Саше Рабиновичу (ныне Гранту). И с противоречивой, но постоянной любовью (ещё «из прежней жизни») был связан с Богословским в жизни «нынешней», несмотря на наши пустые разлады и глупые ссоры. И всегда самой яркой и наглой, можно сказать, «звёздной» парой были Сергей Богословский и Саша Рабинович – одни из самых блестящих людей тогдашнего «Националя». У меня были тёплые отношения с Анатолием Брусиловским, которые длятся до сих пор; с компанией Феликса Соловьёва – красавцами и пижонами, да к тому же обладателями «Фольксвагенов Жуков». У Феликса была очень редкая по тем временам коллекция джазовых пластинок, на квартире у него побывали все наши знаменитые джазмены, и он очень многих и просветил, и перезнакомил, и приобщил к настоящему джазу, в том числе и меня. Именно у него я «закрепил» своё знакомство с уникальным музыкантом и философом Алексеем Козловым, с которым мы дружим по сей день. В начале 90-х Феликс пережил смерть любимого сына, а ещё через год при свете дня был убит у дверей своей мастерской (он был замечательным фоторепортёром). Одной из неофициальных версий причины убийства был тот факт, что Феликс каким-то образом сумел заснять «сходку» тогдашних бандитов с тогдашними депутатами и известными представителями власти.
Другом Феликса был один из самых ярчайших и стильных людей Москвы Володя Берёзкин, называвший себя «пятидесятником», – худенький, небольшого роста, всегда безукоризненно одетый, он приходил в «Националь» в течение десяти лет с очередной красавицей-женой, каждая из которых навсегда оставалась для нас Берёзкиной, сколько бы мужей она потом ни поменяла. А любовь к джазу у «националистов» была поистине великой и переходила иногда все дозволенные границы.
Каждый день после тренировки в бассейне «Москва» в кафе приходил мастер спорта по плаванию, красавец и добрейший человек Миша Фарафонов. Говорили, что его коллекция пластинок была не меньшей, чем у Феликса Соловьева. Новые пластинки, особенно американские, стоили тогда очень дорого – цена некоторых двойных альбомов могла доходить до 500 рублей. Как-то Мишин приятель попросил у него «на пару дней» подобный альбом, но долго тянул с отдачей, а потом вовсе придумал, что его у него украли. Миша пришёл к приятелю домой, привязал его к стулу и стал пытать горячим утюгом. Я не помню точно, вернул ли он свои пластинки, но за любовь к джазу он получил около пяти лет лагерей.
Метрдотель Муся, которую вспоминает Осетинский, была удивительно милой и доброй женщиной, и года через три у нас со всеми официантками и швейцарами установились прекрасные, почти родственные отношения, так не похожие на обычное ресторанное советское хамство. Однажды, одолжив у кого-то рубль, я купил любительской колбасы, пришёл в «Националь», зашёл на кухню и попросил её поджарить. Официантка вынесла мне шикарное блюдо жареной колбасы со всеми возможными гарнирами.
Самым широким и щедрым человеком, которого я когда-либо встречал в жизни, был и остаётся Сергей Богословский, и именно это его замечательное свойство характера заставляло меня иногда увеличивать дистанцию между нами – я никогда бы не смог сравниться ни с его широтой и щедростью, ни с его энергией, и мог выдержать его тогдашние ночные и дневные марафоны (из ресторана в ресторан, из квартиры в квартиру) не больше недели, а потом просто сбегал и ровно неделю приходил в себя. Я же всю свою молодость прожил почти в полной нищете – в Ленинграде жил только на стипендию (23 рубля в месяц) и на деньги, которые отрывала мама из своей пенсии (она получала 48 рублей). Подрабатывать было невозможно, потому что приходилось работать в институте с восьми утра и до поздней ночи, включая выходные. В Москве мне тоже приходилось считать копейки – те 20–30 рублей, которые уходили на квартиры, комнаты и подвалы, были ощутимой потерей в бюджете. Ставка на «Мосфильме» годами была у меня самой низкой из-за скандала на картине Де Сантиса, а «качать права» с «советскими» мне всегда было противно. Так что я давно прекрасно понимал, что рассчитывать могу только на себя, и к этому привык. А в «Национале» были очень демократические цены: кофейник вполне приличного кофе на несколько чашек стоил то ли 37, то ли 34 копейки, сто граммов армянского коньяка – 1 р. 20 коп.; окунь на сковородке – 80 коп.; судак «Орли» – около рубля и т. д. По всему этому у меня была уже закрепившаяся привычка не выходить из дома, если у меня в кармане было меньше трёх рублей. А зарабатывать как-то по-другому я не умел, да и не хотел. Но стоило только зайти в «Националь», заказать кофейник кофе, услышать обязательное предупреждение любой официантки, сколько бы раз она ни приносила кофейник: «Придерживайте крышечку!», заказать 150 граммов коньяка, и через пятнадцать минут стол обрастал замечательной компанией, а питьё кофе и коньяка затягивалось до ночи. Я горжусь тем, что именно за нашим столом – сидели я, Сергей Богословский, Саша Рабинович, Роман Каплан и, возможно, кто-то ещё – родился общими усилиями чудный «национальевский» анекдот, который тут же был рассказан официантке, очень на него обидевшейся: «Хоронят официантку «Националя», опускают гроб в могилу, и её коллеги говорят хором: «Придерживайте крышечку!»
Но я также был свидетелем самого невероятного для совкового сознания факта, акта, действа, сейчас бы сказали «перформанса» в середине 60-х, в центре Москвы, напротив Кремля, в кафе «Националь». Тогда только что появились в «Берёзке» фломастеры, и Саша Рабинович, «скосив» под иностранца, купил их целую партию. И однажды за нашим столиком, вокруг которого уже сидело человек десять, Рабинович торжественно заявляет, обращаясь к Богословскому: «Дорогой Серёжа! Я хочу сделать тебе самый драгоценный подарок!» Вынимает из кармана свой паспорт, берёт самый яркий фломастер и пишет через две страницы прямо по фотографии что-то вроде – «Серёже, другу – на вечную память!»
На что Серёжа немедленно вынимает свой паспорт, берёт Сашин фломастер и пишет на своём паспорте нечто такое же, но ещё более ярко! У нас у всех – рёв восторга и некоторый шок: да это же акт внутреннего освобождения, прыжок за флажки – на свободу! И никому даже в голову не приходило, что на другой день можно было зайти в отделение милиции, заявить о потере паспорта и через неделю получить новый! Но самое замечательное было потом – и Богословский, и Рабинович ещё долго ходили с подаренными друг другу паспортами, и когда их просили предъявить документы, каждый из них нагло и как ни в чём не бывало протягивал подаренный паспорт, и на вопрос – что это за балаган? – на милиционера обрушивался преувеличенно возмущённый монолог: Как? Вы что – против самого святого на свете? Вы против дружбы? Да мы – братья по крови! Это наша клятва! И т. д., и т. п. И, бывало, под невероятным напором наглости «центровых» шикарно одетых молодых людей менты-провинциалы терялись и, не желая с ними связываться, отпускали их восвояси. У меня было несколько удивительных знакомств в «Национале». Однажды я сидел за столом со скромным, незаметным, но очень умным человеком, и как-то постепенно мы стали понимать друг друга с полуслова. Ему было лет пятьдесят, и мне он казался почти стариком. Как-то раз он вручил мне свёрток с книгами: «Лёва, обязательно это прочитайте». В свёртке были самые махровые антисоветские книги и журналы. Подобные свёртки он мне давал раза четыре, никогда не требуя их вернуть. Потом он признался мне, что он – полковник КГБ и работает в аналитическом отделе.
Большего антисоветчика можно было найти только в нашей компании. И когда он дал мне прочитать «Penkovsky’s papers», я понял, что он сам очень похож на Пеньковского. Больше всего он ненавидел «впавшее в маразм Политбюро, которое не хочет ничего ни видеть, ни слышать». А когда мы встретились после моего приезда из Черновиц, где я снимался во время оккупации Чехословакии, он сказал: «Это конец. Они уничтожили страну». И у меня по этому поводу осталась запись в дневнике от 27 сентября 1968 года: «…Это же надо так! Глупая и подлая власть, которую, как псы, охраняют гебисты, губит страну и государство, и при этом те же гебисты называют себя «Комитетом Государственной Безопасности! Да когда же наши дураки поймут, что власть и страна, то есть Родина, – не одно и то же!» Потом этот полковник так же исчез, как и появился.
Но самым замечательным знакомством, да ещё полностью изменившим мою жизнь, было знакомство с Люсиком Гардтом – «каталой», «цеховиком», дважды избежавшим расстрела. Это был поразительного ума и внутренней силы человек – родом из Одессы, со всеми одесскими шуточками и прибауточками – ростом около двух метров. У него было два прозвища (среди своих) – «гиббон» и «железный Люсик». Трижды друзья по несчастью полностью выгораживали его из «расстрельных» статей, и он выходил на свободу прямо из зала суда, потому что все его подельники знали, что и они сами, если окажутся в тюрьме или лагере, и их семьи всегда будут в порядке, если Люсик будет на свободе. Мы уже были с ним приятели по «Националю», когда я женился, и тут происходит удивительное совпадение – любовница Люсика оказывается близкой подругой моей жены! Но об этом чуть позже.
Была у нас и своя баня – совсем рядом с «Националем», на улице Станкевича, с одной из самых лучших парилок в Москве. Называлась она «Чернышевские бани». Потом, к сожалению, её снесли. Самым заядлым посетителем её был Роман Каплан, а поскольку он к тому же больше года снимал комнату буквально в двадцати метрах от этой бани, а я ночевал у него много раз, мы бывали там каждую неделю, и после парной вся наша компания отправлялась, конечно же, в «Националь».
В 2002 году, ровно в сорокалетие нашей с ним дружбы, Роман Каплан справлял свой юбилей в его собственном ресторане «Русский самовар» на 52-й улице в Нью-Йорке, на Манхэттене, и я послал ему следующее поздравление:
Послание Роману Каплану в день его 65-летия
Роман – Амор! За этот палиндромон —
Разгадку сущности твоей —
Готов я пить с тобой, ей-ей,
Сто с лишним лет в Нью-Йорке или дома!
Ах, Рома!
Плевать на время – наш палач!
Ему-то уж на весь наш плач
О быстротечности и проч. – насрать.
Зато нас – рать,
Всех любящих тебя в ответ!
А потому и смерти нет.
А время – вспять —
В совдеповскую срань, —
В парилку «Чернышевских бань»…
What does one wall say to another?
В «Националь»! Туда, где надо
Иметь всего лишь три рубля,
И ты в порядке, вплоть до бля…
Там Богословский, Брусиловский,
Тарковский вместе с Konchalovsky,
И Рабинович, ныне Грант,
Оттачивали свой талант.
Бывали там и Рейн, и Бродский,
И даже парру рраз Высоцкий,
И Прыгунов, и Чудаков,
И много разных мудаков.
И там, за столиком в углу —
Я был свидетель, не солгу —
Роман Аркадьевич Каплан
Лелеял грандиозный план:
Перенести «Националь»
В демократическую даль.
(Вот так родился «Русский самовар» и, между прочим, ЭТА штука – посильней, чем «Фауст» Гёте –
АМОР побеждает МОР!) 23. 12. 02.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?