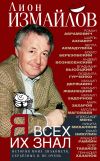Текст книги "Сергей Иванович Чудаков и др."

Автор книги: Лев Прыгунов
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
VII
Леонид Виноградов
В подвале на Фурманном переулке я прожил ровно два с половиной года, за исключением перерывов, когда я перебирался к Чудакову.
Хозяйка – Любка-алкоголичка – была одновременно смешная, омерзительная и жалкая. Ей было лет сорок, не больше, она была тощая, совершенно плоская, беззубая, вечно пьяная и выглядела лет на шестьдесят. Говорила пропитым и прокуренным голосом, всё время выпрашивала у меня деньги на водку и раз по десять на дню «шутила», обращаясь ко мне: «Лёвка, не будь артистом!», причем каждый раз истерически хохотала над своей шуткой. У неё был сын Юрий девятнадцати лет – чем он занимался, не помню. Несколько раз я просыпался от криков и воплей и бежал на кухню – там дрались мать с сыном, и я всегда опаздывал их разнять: у Любки каждый раз под глазом уже красовался фингал. Юра не сразу признался мне, что мать всё время лезет его насиловать.
К тому времени Лёня Виноградов стал моим самым близким другом. Это был своеобразный симбиоз, выгодный нам обоим, а для внешнего, не всегда дружественного мира мы были мощным непобедимым тандемом. У Виноградова был аналитический ум, осторожность, умение спорить и доказывать; он был, как и вся их ленинградская компания, очень эрудирован и обладал прекрасной памятью. Но при этом он был нищ, ленив, своё представление о реальности всегда ставил выше самой реальности и, как уже было сказано, упрям как осёл. У меня же был всегда взрывной темперамент, мне очень нравились его шутки, я как губка впитывал всю информацию, которая в моей молодости прошла мимо меня, и к тому же я становился известным актёром, и, самое главное, к 1966 году я стал зарабатывать более или менее приличные деньги, которых хватало на нас обоих. Но самое главное, за что я всегда буду ему благодарен, за то, что он вылечил меня от тяжелейшей депрессии, в которую меня ввергли те советские уроды, лишившие меня моей профессиональной работы и нормальной человеческой жизни.
Однажды за бутылку в месяц мы отвоевали у Любки крохотную комнатку, более или менее сухую, в которой она держала мётлы и лопаты, и Лёня стал там очень часто ночевать, а потом и вообще туда перебрался. Как-то я познакомился на улице Горького с молодой американкой и прежде всего повёл её в «Националь», чтобы она сразу поняла мой «статус» в молодой московской богеме. Мы много гуляли по Кремлю, ходили по музеям и т. д. И на третий или четвёртый день я пригласил её в кинотеатр, в котором показывали фильм Де Сантиса «Они шли на восток». Она уже знала, что я – актёр, но когда она увидела меня в большой роли иностранца, да ещё в иностранном фильме, на неё всё это произвело огромное впечатление. И, наконец, я решил её позвать к себе в подвал на Фурманный, заранее подготовив её к такой неожиданности. Мы пришли около часу ночи, а в подвал ко мне надо было спускаться точно по таким же ступеням, по каким спускались в подвал Марчелло Мастроянни с молодой Анук Эме в «Сладкой жизни». Только мой подвал был раз в двадцать меньше феллиниевского. Она сначала решила, что это шутка. Потом долго не верила. Когда, наконец, поверила, то села на ступеньку и… горько заплакала. Я, как мог, пытался её успокоить, даже рассмешить, но от этого она плакала ещё горше. Наконец, всхлипывая, она сказала, что боится начинать со мной «love affair», потому что чувствует, что это будет для неё очень сильной травмой. Пришлось отвезти её в гостиницу. А через месяц я получил открытку на мой «неофициальный» адрес: «Москва, К-9 До востребования», – где по-русски была написана просьба позвонить по такому-то телефону. Оказалось, что она с кем-то послала мне небольшую, но очень ценную для меня посылочку – две пары американских джинсов – белые и синие, и в каждом из задних карманов были пачки очень красивых фотографий её двухэтажной виллы с бассейном и вырезки из американских газет, в которых были рецензии на фильм Де Сантиса «Italiani bravo jenti» («Итальянцы бравые ребята»), где фильм ругали, но меня хвалили: «Lev Prygounov – apparently Russian». Каждое упоминание обо мне она жирно подчеркнула красным флюоресцентным карандашом.
В это время у меня наконец-то стали появляться деньги – я не отказывался ни от каких проб (меня тогда пробовали в массу фильмов), а за них платили полставки – т. е. в «Детях Дон-Кихота» у меня была ставка 16 рублей 50 копеек, так что за пробу я получал 8 рублей. Кроме того, я научился «растягивать» свой бюджет, потому что у меня на шее сидел Виноградов, который ничего не зарабатывал и только однажды получил весьма скромный гонорар за «Винни-Пух и все-все-все» – пьесу, которую они написали втроём – Ерёмин, Виноградов и Лёша Лифшиц, да ещё там был Борис Заходер, с которым они разругались в пух и прах, – так что этот гонорар был по праву «только его». Когда я, к примеру, говорил: «А не пойти ли нам в «Националь»? Или в ВТО?» – у Виноградова всегда был наготове ответ: «От нас это не зависит», – который полностью перекладывал всю ответственность за это решение только на меня.
К тому же Виноградов когда-то придумал хитрую игру, в которой я всегда проигрывал. Игра называлась «дисциплина». Если у нас возникала какая-нибудь проблема – убраться в комнате, сбегать за водкой, вынести мусор и т. д., то первый, кто скажет: «Дисциплина!» – перекладывал эту проблему на другого. Я всегда забывал о нашем уговоре, а Виноградов с его еврейско-цыганскими мозгами всегда успевал сказать это волшебное слово первым. Но зато он готовил завтраки, развлекал меня своими историями и своеобразными шутками, и только благодаря ему я выучил румынский язык.
Перед моим отъездом в Румынию на съёмки фильма «Туннель» Лёня сказал мне следующее: «У меня есть для тебя задание. Дисциплина! За эти два месяца в Румынии ты должен выучить румынский язык!» Несмотря на эту дурацкую игру, «дисциплина» была для нас словом чести. И когда я сел в поезд «Москва – Бухарест», со мной в купе оказалась кагэбистка-переводчица, в которую я с первой же минуты буквально вцепился – «Чей аста? Чей аста?» (Что это такое? – рум.), и она с удовольствием двое суток учила меня румынскому языку, удивляясь про себя моему странному рвению. Когда нас встречали на вокзале в Бухаресте румыны, все были поражены, как много румынских слов и предложений я уже знал. Через неделю наш директор, с которым у меня с первого дня установились безнадёжно враждебные отношения, показывал меня всем как чудо – вот видите, какие у нас артисты – всего неделя, а он уже вовсю по-румынски болтает! С Франчиском Мунтяну (режиссёром фильма) мы подружились очень быстро – он тоже пытался всю жизнь обмануть систему и сразу увидел во мне «своего». Они с его помощником каждую ночь таскали меня по ночным барам, у меня начался бешеный роман с очаровательной румынской певицей, и уже через месяц на просмотре какого-то румынского фильма я имел наглость поправить нашу переводчицу, чем вызвал бурную радость румын, знавших русский язык, и лютую ненависть переводчицы. Но это уже, как говорит Осетинский, «другая история»!
Во всяком случае, когда вся наша группа приехала через два с половиной месяца в Москву снимать павильоны, я пригласил в «Националь» нашего партнёра – знаменитого румынского певца и актёра Иона Дикисяну, и на глазах у Виноградова и всей нашей братии мы с Ионом абсолютно свободно болтали по-румынски! Браво, «дисциплина», браво, Виноградов!
Жили мы в подвале богемно и вольно. Любка-алкоголичка реагировала на наших тогдашних подружек очень радостно: ей всегда доставалась «нечаянная» выпивка. А Динара переживала это очень болезненно, но ничего умней, как прийти в подвал и сказать: «Я здесь остаюсь», – она придумать не могла, и мы с Виноградовым разбегались в разные стороны. Я, как обычно, возвращался к Чудакову. Вот отрывок из письма маме в декабре 1965 года: «…И ещё – мог бы приехать в Алма-Ату на Новый год, времени свободного полно, да опять всё упирается в деньги. Долгу двести сорок рублей (я купил себе в Румынии очень хорошую меховую дублёнку и отличные туфли). Опять я попал в неприятное положение – картину растягивают до июня месяца, а денег, сволочи, не прибавляют (причём только мне, но скандалить или выпрашивать у них эти деньги мне просто противно). Зато весной надо будет ещё раз ехать в Румынию на два месяца. Настроение у меня прекрасное – очень много читаю, смотрю лучшие фильмы, совсем не пью, курю мало, живу у Чудакова, но собираюсь снять комнату после Нового года, мне уже обещали. Практика показала, что жить в одной комнате, да ещё в тесном подвале с Динарой мне невозможно. Она милый человек, я очень хорошо к ней отношусь, но… задыхаюсь…».
Чудакову очень понравилась моя дублёнка, но покуситься на неё он уж никак не мог – всё-таки совесть у него тогда ещё была. А вот мои итальянские зимне-осенние туфли из отличной кожи и с непромокаемой подошвой ему до такой степени приглянулись, что, проснувшись у него однажды, я не нашёл своих туфель – на их месте стояли стоптанные башмаки Чудакова. Не было в квартире и Серёжи. Пришлось в чудаковских башмаках идти на Фурманный, где меня, слава Богу, ждали мои замечательные американские ботинки. Потом я вяло и безуспешно пытался «вырвать» свои туфли у Чудакова, но в конце концов сказал, что так уж и быть, я ему их дарю.
Но настроение у меня в ту зиму было чудовищное. Вот письмо маме (осень 1965 года): «…В Италию не пустили. Никогда не думал, что это я так тяжело буду переживать. Ну бог с ними!» И более подробно сестре (январь 1966 г.): «…Живу я сейчас довольно странно, а в Румынию съездил весьма и весьма неплохо. Дело всё в том, что в этом «змеином» году у меня была, да и сейчас ещё осталась очень тяжёлая, затянувшаяся депрессия. На меня страшно и опустошительно повлияла эта история с Италией – из-за приглашения на съёмки и этого «непускания». Я, во-первых, лишился и театра, и нескольких прекрасных фильмов, а во-вторых, что самое страшное, получил довольно ощутимую травму – стал вялым, уставшим и до предела равнодушным человеком. Они меня попросту убили. А сейчас пока очень много читаю. Сейчас прочитал Кафку – как раз к моей депрессии. Прекрасный и жуткий писатель. Читаю Пруста. А это надолго…»
Как ни странно, именно Кафка хоть как-то поставил меня на ноги. После него я понял, что всё могло быть куда хуже. Ну и Виноградов – мой тогдашний душевный лекарь.
Съемки в «Туннеле» тем летом оказались, благодаря Виноградову, очень смешными и, даже можно сказать, триумфальными. Перед моим отъездом Виноградов дал мне ещё одно задание – абсолютно невыполнимое ни теоретически, ни практически. Я должен был стать за этот период пребывания в Румынии лучшим другом моих самых лютых врагов – директора картины и переводчицы! И я вынужден был включиться в игру и, главное, выполнить виноградовский наказ – «дисциплина»! Только моё понимание, что это всего лишь игра, заглушало во мне мою ненависть к ним и моё отвращение, да ещё поддерживало меня и очень веселило.
С переводчицей было всё просто – подарки, цветочки, два-три «покаянных» тоста за столом и несколько танцев под оркестр в ресторане «Лидо». А вот с директором… Он был заядлый игрок в карты, и мне тут же посоветовали проиграть ему 500–600 лей. Он обычно смягчался к тем, у кого выигрывал деньги. И я сел с ним играть. Но что бы я ни делал, на какие бы уловки ни шёл, чтобы проиграть ему, мне, как назло, шла такая фантастическая карта, что я выиграл у него 800 лей! Он был в ярости, а я смеялся в открытую только потому, что искренне хотел ему проиграть, но за столом нас было четверо, играл я в карты всегда неважно и никак не мог повернуть игру по-своему.
В другой раз посол СССР в Румынии пригласил нас на ужин в свою резиденцию – трёх актёров, актрису Валю Малявину, режиссёра с нашей стороны и директора. От посольства было два генерала с жёнами и кто-то ещё. Мой директор сидел прямо напротив меня. В Румынии мы все привыкли пить так называемый «шприц» – белое вино, разбавленное газированной водой из сифона. На нашем столе стояли бутылки с вином и большие бутылки с газированной водой. Но ни одного сифона не было. Обычно в таких случаях закрывают большим пальцем бутылку, встряхивают её несколько раз и тонкой, мощной струёй направляют воду в бокал с вином. Когда официант сообщил, что сифона нет, я вызвался совершить подобную операцию. Я зажал своим большим пальцем отверстие бутылки, как следует её потряс, и вся мощная струя воды почему-то пошла не в бокал, а прямо в лицо моему директору! Я от неожиданности даже не мог остановиться – несколько секунд струя воды била ему в лицо, все хохотали, посол был в полном восторге, а я сполз под стол и оттуда со смехом кричал: «Клянусь – это случайно!» А директор, белый, как та салфетка, которой он утирался, сквозь вымученную улыбку с зубовным скрежетом шипел что-то вроде: «Ну, заяц, погоди!..» И самым смешным было то, что вся группа, зная наши с ним отношения, до конца была уверена, что я таким образом над ним поиздевался. И всё-таки к концу съёмок я кое-как выполнил наказ Виноградова, и наш директор время от времени говорил: «Вы только посмотрите, что делает коллектив! Вы видите, как изменился Прыгунов!»
А в первый свой приезд на любое его замечание я всегда огрызался: «Раз выпустили, теперь кушайте!» И наш так называемый коллектив на самом деле ничего не понимал. А ведь осенью вся группа объявила мне бойкот за якобы «недостойное советского человека поведение за границей», хотя я ни разу не приходил на съёмку пьяным, как большинство членов нашего «советского коллектива», включая актёров (все они пили дешёвый спирт, экономя суточные), ни разу не опоздал на съёмочную площадку и ни с кем не ругался, кроме директора и переводчицы, которые «доставали» меня по любому поводу. Так что Виноградову я обязан ещё и совершенно осознанным смирением и искренним вниманием даже к ненавистным мне людям. Вернулись мы в Москву, конечно, не друзьями, но и совсем не врагами и всегда, встречаясь на «Мосфильме», с удовольствием вспоминали наши поездки в Румынию.
Когда у меня закончились съёмки в Бухаресте, директор румынской киностудии попросил меня (почему именно меня, я до сих пор не понимаю) отвезти директору «Мосфильма» Владимиру Николаевичу Сурину довольно плотный пакет с какими-то уникальными саженцами роз. И тут у меня возник план: передать этот пакет прямо в руки Сурину и сунуть ему на подпись заявление о вступлении в только что организованный мосфильмовский кооператив – это был единственный шанс, что когда-нибудь я обрету своё собственное жильё. Я уже прощупывал такую возможность, но мне категорически ответили, что я могу об этом только мечтать, потому что к «Мосфильму» я не имею никакого формального отношения. И когда я в воскресенье утром по телефону сообщил Сурину, что его драгоценные розы находятся у меня, он довольно сухо ответил, чтобы я оставил их у его секретарши. Я сказал, что его румынский коллега «просил передать розы только в ваши руки, и я дал ему слово, что так и сделаю». Сурин едва сдерживал своё раздражение, а я продолжал блефовать: «У меня через три часа самолёт в Алма-Ату, а я нахожусь как раз напротив вашего дома у ресторана «Арагви». И ему ничего не оставалось, как назвать свою квартиру. Он чуть приоткрыл дверь и протянул руку за пакетом с розами, но тут я, поставив ногу, чтобы он не мог закрыть дверь, внаглую сказал, что мне очень нужно поговорить с ним всего две минуты. И тут он расхохотался и пригласил меня выпить чаю. Владимир Николаевич оказался невероятно добрым и умным человеком, стал расспрашивать меня о моих румынских «грехах» (мой директор написал на меня чудовищный донос в КГБ, где обвинил меня во всём, кроме убийства и скотоложства, и Сурин, конечно же, был в курсе). Слава Богу, что он очень хорошо знал моего директора, и за чаем он с удовольствием подписал моё заявление, да ещё сказал, чтобы в случае чего я тут же обратился к нему. Но мне повезло и дальше: директором кооператива был назначен мой хороший знакомый, который оформил мне прекрасную двухкомнатную квартиру с лоджией аж в двенадцать метров! Правда, ждать моего собственного жилья мне пришлось почти пять лет.
Вот отрывок из письма маме (июль 1966 г): «Румынский фильм получился неплохой, а моя роль – одна из лучших (тьфу-тьфу!!!). Из своего театра я ушёл – он мне окончательно опротивел. Лучше быть свободным – я и маразмом заниматься не буду, и денег больше смогу заработать. Живу пока в подвальчике на Фурманном, но сейчас думаю найти хорошую комнату со всеми удобствами, пусть это будет стоить дороже, но зато буду жить по-человечески… Я сейчас в великолепной форме, на здоровье нет никаких жалоб. Беспокоит только одно: заметно постарел. Уже 27 лет. Это не шутка. Недавно дней десять жил в Киеве – ездил на кинопробы, но, в основном, к своему лучшему другу Виноградову… За границу не пускают. Приглашали ещё раз в Италию сниматься. И в Данию – на главную роль. Не пустили. Ну и чёрт с ними».
В Киеве в это лето был с гастролями театр Эфроса, где Лёня пытался репетировать пьесу «Совещательная комната», написанную вместе с Ерёминым. Там у нас образовалась смешная компания: Тамара Надирова – декоратор театра, знакомая нам ещё по «Националю», режиссёр Геннадий Ялович, неописуемой красоты юная Ира Печерникова, Виноградов и я – в белых американских джинсах, в красной с короткими рукавами американской рубашке и в моих любимых бордовых ботинках – «старик» двадцати семи лет!
После возвращения в Москву я оказался на мели, и мы с Виноградовым пошли «рыскать» по «Мосфильму» в поисках возможной работы – как бы невзначай я заглядывал в каждую группу и спрашивал о каком-нибудь мифическом ассистенте оператора – вдруг кто-нибудь что-нибудь и предложит. Всё казалось безнадёжным – меня не пригласили даже ни на одну пробу. И вдруг меня радостно останавливает молодой человек – режиссёр с «Беларусьфильма» и предлагает завтра же ехать в Минск на пересъёмки главного героя в уже снятом фильме. Почему-то Госкино он не понравился. «Сколько у него было съёмочных дней?» – спросил я. «Но мы должны снять за двадцать». Я пошел на наглый, по советским понятиям, шантаж: «К оплате 30 съёмочных дней, плюс две репетиции и повышение ставки на картину – 20 рублей за съёмочный день. (К тому времени ставка у меня была 16 рублей 50 копеек.) И ещё одно условие: мой друг – Леонид Виноградов – гениальный сценарист. Он будет улучшать все мои сцены, и если вы придумаете вместе с ним небольшую роль для него рублей на пятьсот, то я согласен. Иначе, – тут я сделал паузу, – у меня уже есть предложения на две главные роли». Через два дня я получил телеграмму: «Ваши условия приняты. Срочно выезжайте». И мы выехали.
У Виноградова были две яркие способности – смешить и раздражать. Смешил он немногих, но очень эффектно и виртуозно, а раздражал почти всех просто фактом своего существования – особенно своей мелочностью и формальной дотошностью. Мы приехали и поселились в роскошном полулюксе гостиницы «Минск», ходили завтракать и ужинать в тамошний первоклассный ресторан, и на третий-четвёртый день нас возненавидели все: метрдотель ресторана, официантки, директор гостиницы, все стукачи, менты, охранники и дежурные на этажах. И всё из-за Лёни. У нас никогда в жизни не было так много денег, и мы все истратили за месяц – причём не пьянствовали, не устраивали загулов, не собирали больших компаний, но и ни в чём себе не отказывали. Только Лёня каждый раз проверял каждый счёт, как ревизор из ОБХСС, каждый раз находил факт обсчёта, каждый раз вызывал метрдотеля, и каждый раз всё заканчивалось бурным скандалом. Лёня был принципиален. Но всеобщая ненависть перешла прежде всего на меня, потому что все понимали, что в этой истории главный – я.
Однажды, примерно через неделю после нашего с ним приезда в Минск, мы подошли к дежурной по этажу, я взял ключ и всеми фибрами своего существа почувствовал неладное: около дежурной стояли метрдотель ресторана, замдиректора гостиницы и ещё какие-то странные, напряжённые люди. Лёне это тоже показалось подозрительным, и на этот раз его интуиция нас спасла. Дежурная сразу по-хамски стала спрашивать, куда из номера подевалась «накидушка», – так у них называлась кружевная тряпка, которой накрывали подушки. Я вспыхнул от её хамства, что-то ей сказал и в это время почувствовал, что Виноградов потихоньку берёт у меня ключ от номера. Внимание всех присутствующих было приковано только ко мне, и Виноградов совсем незаметно зашёл за угол коридора, где находился наш номер. Я увидел на тупых и напряжённых лицах сговор – все очень плохо играли какие-то плохо приготовленные роли, причём тут же откуда-то появился милиционер и заявил, что «надо бы проверить, куда подевалась «накидушка». Я обомлел, стал заикаться, и в этот момент тихо, как чёрт или ангел, появился Виноградов и сунул мне в руку ключ. Лицо его сияло только мне одному заметным торжеством. «Что значит – проверить? – спросил я. – Вы что, собираетесь меня обыскивать? У вас есть ордер?» – «Нет, мы просто зайдём в ваш номер с понятыми». – «А кто понятые?» – «Вот – мы», – хором ответили сразу пять человек, которые стояли раньше как посторонние.
Метрдотель – отъевшаяся, плотная баба – злорадно и победоносно глядела на нас с Лёней. Мы переглянулись, и Лёня подмигнул мне. «Что ж, пошли», – сказал я, и вся орава ринулась впереди нас, точно зная расположение нашего номера. Когда я открыл дверь, все кинулись к нашим кроватям и остановились как вкопанные: на обеих наших подушках красовались убогие провинциальные «накидушки». Немая сцена. Как в «Ревизоре». И никто не знал, что теперь говорить. А всё было до глупости просто, и если бы не Виноградов, который мгновенно всё понял, открыл мой чемодан и где-то в глубине нашёл эту самую «накидушку», они раздули бы своё примитивное лжесвидетельство в уголовное дело, и неизвестно, чем бы всё это могло кончиться, но в любом случае нам пришлось бы съезжать из этой гостиницы. А мы с Лёней с первого дня жизни в Минске всех белорусов интуитивно стали называть «партизанами».
Из письма маме – начало августа 1966 года: «Закончились съёмки на Минской студии – там у меня дурацкая главная роль, которая кое-как получилась, хотя сценарий был неважный. Но мы с Виноградовым кое-что переделали и поправили. Говорят, что первого ноября я полечу в Румынию в составе делегации и буду там до десятого ноября, а в конце ноября решится вопрос о моей работе во французском фильме «Белое и чёрное» по роману Стендаля – там я или буду, или не буду играть одну из главных ролей. Если всё будет удачно, я поеду на два месяца в Париж».
В Париж меня, естественно, не пустили, а вот в Румынию я съездил прекрасно – в Румынии только что пришёл к власти Чаушеску, и «наши» лезли из кожи вон, чтобы с ним подружиться. Меня вызвали в отдел культуры ЦК «на собеседование». Я решил, что меня будут стращать, предупреждать и т. д., и вдруг меня встречает необыкновенно доброжелательный человек и говорит, что на мне лежит единственная задача – со всеми румынами говорить на румынском языке на любые темы – весело и непринуждённо. «Мы знаем, как они вас любят. Да и роль у вас в «Туннеле» получилась очень интересная». Тут я должен заметить, что роль у меня «получилась» только в румынском варианте – мы с моим партнёром Флорином Персиком говорили на «народном языке» со всякими непристойностями и ругательствами, и даже в советском варианте (с нашей стороны автором был Георгий Владимов) были прекрасные диалоги, но наша цензура вырезала всё самое живое и яркое.
Нашу делегацию возглавлял Сергей Герасимов, а за десять дней «Туннель» показали раз двадцать (мы объехали полстраны), и однажды Герасимов, посмотрев фильм, разговорился со мной и, узнав, что я – «свободный художник», предложил устроить меня в штат «Мосфильма». Я был счастлив, но когда я позвонил ему уже в Москве, он мне довольно строго сказал, что, поскольку я «недостойно вёл себя в Румынии», то даже он ничем помочь мне не может!
Сразу после съёмок в Минске мы решили «вылезти» из подвала и переехать в большой дом на Новой Басманной улице, построенный для инженеров Курской железной дороги ещё в конце XIX века. У нас было два варианта: один прекрасный, но надо было ждать три месяца, а другой похуже, но можно было переезжать в любой момент. Мы выбрали последний, с надеждой через три месяца оказаться в лучшем.
Мне ещё оставалось озвучить свою роль в белорусском фильме, и в день, когда надо было уезжать в Минск, я собрал все свои вещи, плотно уложил их в большой чемодан и в тапочках, в старых рваных джинсах и в майке пошёл ловить такси. Любка-алкоголичка пьянствовала в соседней комнате с какими-то двумя мужиками. Когда я подъехал в такси к дому и спустился в подвал, я ахнул – в комнате моего чемодана не было, а окно было распахнуто. Я кинулся к Любке, а она, не дожидаясь моих вопросов, завопила, что ничего не знает, что она ничего не брала и т. д.
Милиция, которую я вызвал, среагировала на всё очень просто – разбирайтесь сами! Я прекрасно понимал, что уже никогда не увижу своих драгоценных вещей, доставшихся мне с таким тяжким трудом (больше всего мне было жаль мою дублёнку, роскошный тёмно-синий «штатский» костюм, купленный по счастливой случайности в комиссионке на улице Герцена – в нём я только один раз щеголял на фестивале в Констанце – и ни разу ещё не надёванных белых и синих джинсов, присланных мне американской девушкой). Но зачем им понадобился мой портрет, написанный Мишей Кулаковым, – один Бог знает. Слава Богу, документы и билет в Минск лежали в тумбочке, и нам ничего не оставалось, как где-то и у кого-то выпрашивать для моей поездки в Минск более или менее достойную одежду. Так в 27 лет я оказался нищ и «гол, как сокол», и я очень хорошо знаю, что это значит – начинать жизнь с полного нуля. Когда я рылся в своих письмах и дневниках, относящихся к «подвальным» годам, я написал стих, который так и называется: «Вспоминаю подвал на Фурманном». Вот он:
Вспоминаю подвал на Фурманном…
О, блаженные те года!
С чистым сердцем, пустым карманом,
а в окне – чьи-то ноги всегда.
Покосившаяся колокольня,
улиц шум, пьяный говор дворов,
во дворе как в каменоломне —
эхо смеха и бранных слов.
Двор мой пуст. Душный день отработал.
А в подвале моём как в гробу:
сумрак, тишь и одна лишь забота —
как проклятую эту судьбу
переделать, стереть до дырки,
а ещё б – улететь как дым!
Говорят, сбежать из Бутырки
удалось лишь двоим-троим.
Дни мои шелестят, как листочки
из блокнотика-черновика.
Я давно уж дошёл до точки,
до последней, наверняка.
Может, так и остаться в подвале?
Может, разницы никакой?
Там – до гроба карабкаться к славе,
здесь – уже
тишина и покой.
Мать у Лёни, по его словам, была цыганка, работала она проводником в поезде «Ленинград – Симферополь» и всегда предлагала мне ездить в Ленинград бесплатно в её вагоне. Звали её Юзефа. Юзефу мы очень любили, и все – и я, и Миша Ерёмин, и даже её дети – Лёня и Олег – называли её Юзефой, и ей это очень нравилось. Жили они в Ленинграде втроём в большой комнате в коммунальной квартире на улице Радищева. Загулы у нас в этой комнате были феерические, и, как я очень быстро понял, никакого уголовного дела на Виноградова там не заводилось. Я был у Юзефы любимчиком, и только мне и «мелкому» (младшему брату Лёни Олегу) Юзефа позволяла приводить с собой девиц и оставлять их на ночь. В Москве мы с Лёней несколько раз встречали Юзефу на Курском вокзале, где она передавала нам всякие крымские вкусности. Поезд всегда приходил поздно ночью – часа в два или три. От Фурманного переулка до Курского вокзала было совсем близко, и наши ночные прогулки по пустынному Садовому кольцу были всегда шумны и радостны. Я шёл прямо посередине широченного асфальта и во весь голос орал песни Фрэнка Синатры, а Лёня мне подпевал и тоже не скрывал своего восторга.
Как-то зимой 1965 года мы пришли на вокзал встречать Юзефу и сразу познакомились с очень милой девушкой, которая, возможно, тоже кого-то ждала. Стоя посреди зала, мы спокойно болтали с ней. Вдруг к нам подскочил какой-то шустрый и мерзкий комсомолец с повязкой на рукаве и стал нагло и вызывающе требовать у нашей девушки билет, как будто нас и в помине здесь не было. «А в чём, собственно, дело?» – только успел спросить я, и он ни с того ни с сего бьёт меня по лицу, но промахивается – я успеваю отвести голову и мгновенно наношу ему по челюсти короткий хук, отчего он просто обмякает и садится на пол. Всё это произошло за две-три секунды, и тут же на мне повисают человек пять таких же уродов. Как оказалось, всё было заранее подстроено – я чем-то (а чем – понятно: на мне была новёхонькая дублёнка и роскошные итальянские туфли) им не понравился, и они решили меня «проучить». Как потом мне объяснил Виноградов, который читал ВСЕ газеты, два дня назад был подписан указ о строжайшей ответственности за нарушение порядка и о повышении полномочий «дружинников». Комсомольцы потащили меня в отделение вокзальной милиции, а Лёня как-то тихо отошёл в сторонку.
Отделение милиции оказалось большим залом с десятком милиционеров. Первый хмырь противным голосом всё время визжал: «Буяна привели! Смотрите, какой буян! Буяна привели!» И прямо на глазах у всей советской милиции он размахивается, как кулачный боец, и снова пытается меня ударить. Я автоматически левой рукой блокирую удар, а правой бью его, как когда-то в подвале на Чернышевского бил свою тяжеленную грушу. У него – полный нокаут, а у меня появляется актёрское вдохновение – я хлопаю по столу кулаком, вынимаю из кармана записную книжку с авторучкой и кричу на всё отделение поставленным баритоном: «Немедленно назовите фамилию этого негодяя!» И тут произошло чудо – ко мне очень почтительно подошёл офицер и тихо сказал: «Идите лучше отсюда подобру-поздорову». Думаю, что на милиционеров тогда подействовало всё сразу: и нокаут, и моя дублёнка, и, по всей вероятности, мой голос, за которым (как им показалось) было ЧТО-ТО! У поезда я встретил Лёню, который уже не думал увидеть меня сегодня. На мой вопрос, почему он не подошёл в отделение, чтобы хотя бы стать свидетелем в случае неизбежных ложных обвинений со стороны комсомольцев, Лёня снова стал объяснять, что ему никак нельзя было появляться в милиции. И я понял, что Лёня просто трус.
В «инженерный» дом на Новой Басманной мы попали только к зиме 1966/67 года, а до этого каждый жил, где мог. Очень хорошо помню, как мне в «Националь» в начале ноября принесли билет в Бухарест, куда я должен был ехать ни много ни мало с правительственной делегацией. И я закричал: «Ура! Теперь мне есть где ночевать целых четырнадцать дней!» (Я включил ещё проезд в мягком международном вагоне.) А ближе к морозам я почувствовал, что вдруг, сразу, сильно заболел, и, не найдя никакого комфортного ночлега, около часа ночи позвонил Серёже Чудакову. У меня уже была температура, и меня трясло, как в лихорадке.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?