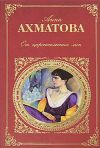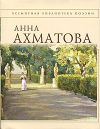Текст книги "Дом Поэта"
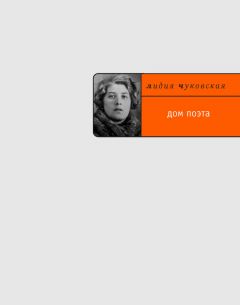
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Центром первой части «Поэмы» стала окаянная пляска Козлоногой. За нею следует драгун. «Сколько горечи в каждом слове, / Сколько мрака в твоей любови, / И зачем эта струйка крови / Бередит лепесток ланит?» Ахматова несколько раз переспрашивала меня, что сказал Пастернак о «Поэме», а Пастернак сказал, что она похожа на танец. Вот ее кульминационный пункт:
Словно с вазы чернофигурной
Прибежала к волне лазурной
Так парадно обнажена…
Сначала маскарад, «танец придворных костей», «этот Фаустом, тот Дон-Жуаном». Потом центр действия всей первой части: две фигуры на авансцене, только две. Он и она, пляшущая актерка и обреченный на смерть драгун. К ним двоим – главным носителям действия в первой части «Поэмы» – и обращены два первых посвящения «Поэмы без героя». Первое кончается словами: «Все ближе, ближе… Marche fenebre…[225]225
Траурный марш (франц.).
[Закрыть] Шопен…» Похоронный марш над тем, кто застрелился и чье самоубийство навеки слилось в сознании Ахматовой с 1913 годом… Второе – к актерке О. А. Глебовой-Судейкиной, которая тоже для Ахматовой 1913 год, женщина той эпохи. «Все мы тогда такие были». Это посвящение тоже кончается строками о самоубийстве Князева:
…отдам на память,
Словно в глине чистое пламя
Иль подснежник в могильном рву.
Известно, что в годовщину похорон Блока Ахматова и О. А. Судейкина бродили по Смоленскому кладбищу и искали могилу драгуна. Но не нашли. Вместо подснежника в могильном рву Ахматова подарила О. А. Глебовой-Судей-киной – второе посвящение к «Поэме» и похоронный марш из первого. Эти два посвящения так же тесно связаны между собой, как персонажи сцены «Через площадку».
6
Анна Андреевна не раз говорила об одной особенности, отличающей ее работу над «Поэмой». Об одной странности: «Всегда я свои стихи писала сама. А вот “Поэму” иначе. Я всю ее написала хором, вместе с другими, как по подсказке». Что означало это «вместе» – реально? «Поэму без героя» кто-нибудь помогал ей писать? Переделывал строки, редактировал, рекомендовал, подсказывал? Правил? Упаси Боже. Говоря о том, что «Поэма» написана вместе с читателем, Ахматова имела в виду совсем иное. Поэма писалась в бою с читателем. В борьбе с непониманием читателя. В борьбе за читателя. Случилось так, что читатели, обычно понимавшие Ахматову (или, как им казалось, понимавшие ее), перестали ее понимать. Не только в смысле недоброжелательного отношения к «Поэме» (как Надежда Яковлевна и мн. др.), но и в самом простом: не понимали, что происходит.
Если человек не понимал, какие богатства светят и переливаются в шкатулке, – это не смущало Ахматову, она была слишком самобытна и слишком хорошо знала, кто она, чтобы смущаться этим – шкатулка на то и заветная, чтобы не каждый имел к ней золотой ключик; но когда читатель оказывался не в силах понять действие – это Анну Андреевну смущало, и она вновь и вновь переделывала старые и вставляла новые строфы, подчиняя работу пониманию или, точнее говоря, – непониманию читателя. «До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях “Поэмы без героя”, – писала она в предисловии. – …Ни изменять ее, ни объяснять я не буду. “Еже писахъ – писахъ”». Это звучит гордо, но не соответствует истине.
Гораздо более правдивы два письма к NN. Первое написано в 1955 году, а второе не знаю когда. (Первое письмо к NN сначала задумано было Ахматовой как примечание к «Поэме»; место второго неведомо мне. О первом она сказала, что оно обращено ко мне, со вторым я ознакомилась только после смерти Анны Андреевны. Разумеется, это обращение – чистая условность, как и самая форма писем – в примечаниях.)
Интересно в обоих этих письмах то, что в них излагается борьба с читателем и противостояние ему. Подобно Надежде Яковлевне, многие из старинных почитателей не любили «Поэму».
«…И Вы, зная обстановку моей тогдашней жизни, можете судить… лучше других, – писала Ахматова в первом письме к NN. – Вы не можете себе представить, сколько диких, нелепых и смешных толков породила эта петербургская повесть. Строже всего, как это ни странно, ее судили мои современники, и их обвинения сформулировал, может быть, точнее других, в Ташкенте X., когда он сказал, что я свожу какие-то старые счеты с эпохой (десятые годы) и с людьми, которых или уже нет, или которые не могут мне ответить… Другие – в особенности женщины, считали, что “Поэма без героя” – измена какому-то прежнему идеалу и, что еще хуже, разоблачение моих давних стихов, которые они “так любят”».
Им она и отвечала: «ни изменять, ни объяснять я не буду. “Еже писахъ – писахъ”». Потому что они, подобно Надежде Яковлевне, не понимали самой сути «Поэмы», ее глубины и широты исторической правды, многослойности, а на нет и суда нет. «Имеющий уши, да слышит», а кому ушей не дано, тому все равно не втолкуешь. И их Ахматова объяснениями не удостаивала. Но читатель – молодой, пробудившийся, любящий поэзию, – с мнением этого читателя она считалась, к его мнению прислушивалась и желала быть понятной ему. На несколько десятилетий ее от читателя оторвали. Затем, полуотбросив ждановскую непристойность, стали Ахматову печатать. Но не «Поэму без героя». Потом стали печатать «Поэму» лишь в разрозненных отрывках, что для этого произведения убийственно, потому что полнота звука и смысла дана ей только целиком.
Каким же образом могла она проверить ее воздействие на читателей? Только читая ее или даря в машинописи. Я не знаю ни одного произведения Ахматовой, которое она столь настойчиво и упорно читала бы. И в Ташкенте – когда существовал только первый вариант. И в Москве. Мои «Записки об Анне Ахматовой» полны записей о том, как Анна Андреевна проделывала опыты над «Поэмой» и над читателем. И к чему эти опыты приводили.
Конечно, многие поправки диктовались тем, чем вообще диктуются любые поправки в любом произведении: авторским ощущением несовершенства. Вот где-то повторился эпитет. Я очень любила всегда тот кусок, с которого началась жизнь «Поэмы»:
Ты в Россию пришла ниоткуда
……………………………………
И подсвечники золотые,
И на стенах лазурных святые —
Полукрадено это добро…
(А. А. выговаривала «подсвешники».) И вдруг я услыхала: «В стенах лесенки скрыты витые».
– Почему? – спросила я.
– Близко серебро[226]226
[То есть строки в следующей главе:
И серебряный месяц яркоНад серебряным веком стыл.]
[Закрыть].
Затем сильно изменилась строфа о Владыке Мрака. Раньше он был Нечистым Духом. Анна Андреевна объяснила мне, что «сухо – ухо» рифмуется в другой строфе – и вот во избежание повторения возникли «фалды фрака» и «Владыка Мрака». Это были обыкновенные, так сказать, естественные исправления. Но для работы Ахматовой над «Поэмой» характерны другие поправки и добавки. Те, что вызваны непониманием читателя. Мелкие и крупные. И крупнейшие.
Мои «Записки об Анне Ахматовой» пятидесятых и шестидесятых годов полны заметок об этих опытах над читателем и «Поэмой». Так, в строфе, изображающей самоубийство драгуна: «Вспышка газа и в отдаленьи / Ясный голос: “Я к смерти готов”» – слова «Вспышка газа» сначала были заменены ею словами «Запах розы»; потом – словами «Вопль: не надо!». На мой вопрос о причинах такой перемены Анна Андреевна ответила:
– Я переменила потому, что обнаружила: нынешние читатели воображают не газовое освещение, а газовую плиту. Сначала я сделала, было, «запах розы», но тогда слишком близко оказалось: «на площадке пахнет духами». А «Вопль: не надо!» – это она увидела: он вынул пистолет.
Так непонимание читателя заставило изменить строку. Но эта поправка вела лишь к устранению непонимания чисто внешнего. Не о таких поправках говорит Ахматова, что она пишет «Поэму» как бы «вместе с читателем».
Непонимание читателя вело Ахматову к переменам гораздо более значительным. 21 мая 1962 года Ахматова рассказала, что проделала над «Поэмой» очередной эксперимент… Давно уже она намеревалась показать «Поэму» кому-нибудь, кто ее не читал никогда. Ей приискали астрофизика: «Все говорят – образованный, литературный, умный, и так оно и есть. Дала ему экземпляр.
– Пришел, принес. Понравилось. Читал четыре раза. Я задала два простые вопроса – не ответил. А я-то надеялась, что сюжетная конструкция у этой вещи стальная».
Нет, читатель, подобно воображаемому редактору, не понимал, кто влюблялся, кто стрелялся, кто жив остался, прочитав последнюю фразу, «не поймешь, кто в кого влюблен». Однажды она сказала мне, что собирается удалить из третьей главы «Лирическое отступление», которое я сильно люблю. Я стала ее отговаривать. Оказалось: ту могилу, о которой там поминается, читатели принимают за могилу застрелившегося драгуна… В конце концов, после моего отчаянного сопротивления, Ахматова оставила Камеронову галерею, но убрала строки о могиле – чтобы читатель не путая ее с могилой одного из персонажей первого действия – могилой драгуна.
Самая настойчивая поправка, которую внес в «Поэму» читатель – это добавление строф о Блоке. Блок – третий носитель развивающейся фабулы в «Поэме», тот счастливый соперник, из-за которого покончил с собою драгун. В первых вариантах «Поэмы» он существовал только в следующих строфах. В спальне героини:
На стене его твердый профиль,
Гавриил или Мефистофель,
Твой, красавица, палладии.
……………………………………
Побледнев, он глядит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы
И как враг его знаменит.
……………………………………
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все таинственно в пришлеце.
Читая «Поэму», Ахматова убедилась, что в этом таинственном пришлеце читатель не узнаёт Блока, а портрет его, висящий в спальне у актерки, принимает за портрет драгуна. После нескольких месяцев разлуки я побывала у Ахматовой в Ленинграде в декабре 1959 года; она пожаловалась мне на это непонимание.
– Ну и пусть себе, – сказала я необдуманно. – На всякое чихание не наздравствуешься.
Анне Андреевне не понравился мой ответ. Она произнесла поучительным голосом:
– Я пишу для людей. Для людей, Лидия Корнеевна, а не для себя.
И прочла мне новые строфы о Блоке, до такой степени прозрачно-ясные, что лишь тот, кто никогда не читал Блока, мог не узнать его и спутать его с кем бы то ни было. Строфы эти были насквозь пронизаны цитатами из наиболее знаменитых блоковских стихов: из стихов «В ресторане» и «Шаги командора».
Строфы эти были вставлены столь искусно, будто и век стояли тут. Ими фабула в самом деле становилась железной, а измена актерки обосновывалась еще новыми строфами:
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра
Он увидел. Рухнули зданья…
И в ответ обрывок рыданья:
«Ты – Голубка, солнце, сестра!..»
…Злоупотребление словами Мандельштама «Я к смерти готов», которые Ахматова отдала Князеву (это один из упреков Надежды Яковлевны) и замена инициалов Мандельштама – другими в первом посвящении («моя обида») было вызвано не тем или другим отношением к нему (которое осталось неизменным), а потребностями новой формы, созданной Ахматовой в «Поэме без героя». Сценическое действие, его фабула во что бы то ни стало должны были быть понятны читателю. Носителем фабулы Мандельштам никогда не был. Князев был им. Он, как и актерка, были балериной и танцором в первой части. К ним и отнесла Ахматова свои посвящения. Когда Ахматова писала воспоминания о Мандельштаме, она рассказала, что слова «я к смерти готов» сказаны были ей Мандельштамом, предчувствовавшим свою мученическую лагерную гибель. В «Поэме» их произносит совсем по другому поводу и совсем в других обстоятельствах самоубийца-драгун. Ахматова не отняла их у Мандельштама и не пропускала Мандельштама и Князева ни через какую мясорубку и не делала из них никаких двойников – ни в жизни, ни в биографии, ни в «Поэме без героя», ни в смерти нету между этими двумя лицами решительно никакой связи. Первой части «Поэмы без героя» так же не требуется в качестве персонажа Мандельштам, как всем стихам Ахматовой, посвященным Мандельштаму, – Князев.
Инициалы над первым посвящением были заменены Ахматовой вместе с читателем, желающим понимать фабулу.
7
О Блоке.
Ахматова и в самой «Поэме без героя», и в прозе о «Поэме», и в разговорах о ней называла первую часть «гофманианой». «Ту полночную Гофманиану / Разглашать я по свету не стану». Или – «О самой Поэме… Ее связь с петербургской гофманианой». Гофман-то Гофман, но мне представляется, что первая часть «Поэмы» с таким же основанием может быть названа «блоковианой». И не только потому, что Блок один из персонажей первой части, один из носителей фабулы: он – счастливый соперник корнета, из-за него стреляется корнет, он – виновник совершившегося преступления, из-за него возникает и требует плача, мучений совести, глядит из рамы тот самый «до сих пор не оплаканный час». Блоковианой я назвала бы «Петербургскую повесть», первую часть «Поэмы без героя» потому, что не одни лишь строфы, подающие читателю знак, что соперником корнета был не кто иной, как Блок (строфы, как бы цитирующие известные блоковские стихи):
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале,
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
Нет, я думаю, что «блоковианой» первую часть «Поэмы» можно назвать потому, что она Петербургская и потому что Петербург 1913 года немыслим без Блока, а Блок – без Петербурга. Блок создатель и носитель петербургского мифа и самое полное его воплощение. Кроме сознательных цитат или полуцитат из Блока – в первой части поэмы, носящей название «Девятьсот тринадцатый год. Петербургская повесть», еще и вся она написана на фоне блоковской поэзии – блоковского предчувствия гибели, блоковского ощущения Петербурга как города, первым обреченного на гибель, блоковского ощущения греховности старого мира, блоковских метелей, блоковской Невы… Мейерхольдовы арапчата, Анна Павлова, «Петрушка» Стравинского, а за всем этим —
Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой —
у Блока и
А мы живем торжественно и трудно —
у Ахматовой.
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник? —
у Блока и
Гранитный город славы и беды —
у Ахматовой.
Я нарочно беру не совпадения ритмов и даже не совпадения образов, а нечто, что глубже связывает поэтов, чем ритмы и образы; в данном случае я ищу не перекличку цитат, полускрытую или открытую, а нечто еще более глубокое и менее называемое – общность событий, времен, катастроф, подставленных эпохой и Блоку (старшему), и Ахматовой (младшей). Между Блоком и Ахматовой было десять лет, но оба они жили под знаком Цусимы, 9 января, в городе Медного всадника, над торжественной Невой, Ахматова же еще и на фоне гениальной блоковской лирики.
«В окончательной редакции отрывок о Блоке, – пишет В. М. Жирмунский, – расширен добавлением… трех строф… Для общей концепции образа Блока и всей эпохи в поэме особенно знаменательно включение в эту цепь аллюзий стихотворения «Шаги Командора» (1910–1912):
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
И в этом стихотворении, изображающем осужденного на гибель Дон-Жуана, «изменника» романтическому идеалу единственной и вечной любви, звучит тот же мотив надвигающегося возмездия или расплаты:
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.
Что изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены…
Неслучаен отголосок этого мотива в поэме Ахматовой:
Крик петуший нам только снится…
«Блок ждал Командора», – записала Ахматова в своих материалах к поэме: это ожидание – также признак людей ее поколения, обреченных погибнуть вместе со старым миром и чувствующих приближение грядущей гибели. Не случайно и Коломбина, как сообщается в прозаическом введении ко второй главе, некоторым кажется Донной Анной (из «Шагов Командора»). Перекличка эта явственно начинается уже в предпосланном всей поэме «Девятьсот тринадцатый год» итальянском эпиграфе из оперы Моцарта «Дон-Жуан».
Таким образом, место Блока в «петербургской повести» особое: он ее сюжетный герой (Арлекин), и он выступает в ней как высшее воплощение своей эпохи («поколения»), – в этом смысле он присутствует в ней цитатно, своими произведениями, – но тем самым, как поэт, он в некоторой степени определил своим творчеством и художественную «атмосферу» поэмы Ахматовой. С этой атмосферой связаны многочисленные, более близкие или более отдаленные, переклички с его поэзией. Но нигде мы не усматриваем того, что критик старого времени мог бы назвать заимствованием: творческий облик Ахматовой остается совершенно непохожим на Блока, даже там, где она трактует близкую ему тему»[227]227
В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука, 1973, с. 161–164.
[Закрыть].
Надежда Яковлевна пишет: «Жирмунский сказал как-то Анне Андреевне, что “Поэма” написана так, как хотели бы, но не могли писать символисты, и это ей почему-то очень понравилось».
Надежде Яковлевне непоятно почему. А я думаю, потому понравилось, что Жирмунский был прав. Не в своем «хотели, но не могли» (произвольное, разговорное, неточное выражение мысли; в печати академик В. М. Жирмунский выразил бы ее, наверное, точнее), а в основе мысли, которую я позволю себе выразить так: акмеизм заявлял себя течением, отрицающим символизм, опровергающим его, но в действительности он не только опровергал его, но и продолжал. (Частое явление в искусстве.) Ахматова писала: «Между Гумилевым и Блоком всего 7 лет, но между ними пропасть. Мы были людьми нового века и не хотели оставаться в старом». Известен и манифест акмеистов[228]228
Н. Гумилев. Наследие символизма и акмеизм // Аполлон, 1913, № 1; С. Городецкий. Некоторые течения в современной русской поэзии // Там же.
[Закрыть], известна и неприязнь Блока к новой школе (статья «Без божества, без вдохновенья»). В этой высмеивающей акмеизм статье Блок делал исключение для одной Ахматовой. Через несколько десятилетий Ахматова написала о Блоке и о его последнем стихотворении, в котором он взывал к Пушкину и прощально кланялся Пушкину:
Как памятник началу века
Там этот человек стоит, —
то есть воплощением первого десятилетия века признала Блока (настоящий некалендарный XX век начался, по Ахматовой, как мы знаем из Поэмы, с войны, с 1914 года); Блок, таким образом, был для нее воплощением, завершением эпохи кануна, той эпохи, которой и посвящена первая часть «Поэмы без героя». Не только потому я называю ее блоковианой, что Блок, соперник драгуна, занимает в ее фабуле огромное место, приводя в движение действие – его портрет в спальне героини, он протягивает героине розы, и, наконец, из-за него драгун решается на самоубийство —
Недвусмысленное расставанье
Сквозь косое пламя костра
Он увидел. Рухнули зданья…
И в ответ обрывок рыданья:
«Ты – Голубка, солнце, сестра!
Я оставлю тебя живою,
Но ты будешь моей вдовою,
А теперь…
Прощаться пора!»
Так вот: не только потому я осмеливаюсь назвать первую часть «Поэмы без героя» – блоковианой, что Блок играет в сюжете ее огромную роль и что Ахматова ощущала личность Блока как воплощение того времени, о котором написана вся первая часть «Поэмы», а потому, что сама эта часть, ее образный строй, ви́дение города, времени, выраженное в ней, ее предчувствия, покаяния, страхи насквозь пропитаны Блоком – Блоком нелюбимого Ахматовой «Возмездия» и любимым ею «Третьим томом» с отделами «Страшный Мир», «Ямбы», «Итальянские стихи», «Арфы и скрипки».
…Теме «Ахматова и Блок», «Блок и Ахматова» посвящено так много ценных работ, специальных статей: В. М. Жирмунский. «Анна Ахматова и Александр Блок», Д. Максимов. «Ахматова о Блоке»; ставится эта тема почти всеми, кто пишет об Ахматовой и уж во всяком случае исследователями «Поэмы без героя» (см., например, работу Т. Цивьян «Ахматова и музыка»). Могу сказать, что теме этой в нашем литературоведении повезло: подробно и квалифицированно обследованы и история знакомства Ахматовой с Блоком (с использованием Дневников и Записных Книжек Блока и воспоминаний Анны Ахматовой), и «переклички» в стихах, и переклички в «Поэме без героя», явная перекличка известных строф «Поэмы» с «Шагами Командора».
Но мне хочется подчеркнуть нечто большее, чем ритмико-синтаксические совпадения или совпадения отдельных образов. Прав был Жирмунский, сказавший, что Ахматова написала свою «Поэму» так, как хотели бы писать символисты. Но сузим это выражение; в моем понимании вся первая часть «Поэмы» написана по способу конкретизации – дальнейшей конкретизации – блоковского третьего тома. Как известно, в третьем томе Блок, сохраняя вихревую, а порою и отвлеченную основу своей лирики, пришел к конкретизации жизненных образов.
О конкретности ахматовской лирики – хлыстике, перчатках, пере на шляпе, муравьином шоссе на стволе дерева, свечах за окнами спальни, протертом коврике под иконой и т. д. и т. п. написано без конца. Так вот, мне представляется, что Ахматова, принадлежавшая к течению, воевавшему с символизмом, приняла его наследие в наиболее высшем его проявлении – то, которое хранится в третьем томе Блока, то, которое уже и само по себе антисимволистично, и сделала следующий шаг: превращения всего отвлеченного, символистского в Блоке, от чего он и сам в конце концов отходил, в насыщенное жизненной реальностью, живое, конкретное, чему поклонился Блок, «уходя в ночную тьму» и кланяясь Пушкину.
Характерно в этом смысле, что оценил Блок в книжках Ахматовой? В статье Жирмунского приведены отчеркнутые Блоком строки с положительным знаком.
«…на ряде страниц книги, – пишет Жирмунский, – Блок внимательно отметил такие строки… которые представляют специфическую особенность нового, “ахматовского”, стиля, – стиля, во многом противоположного романтической манере самого Блока – точного, вещественного, раскрывающего за неожиданной реалистической подробностью психологическую глубину простого и подлинного человеческого чувства»…[229]229
В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок // Русская литература, 1970, № 3, с. 62–63.
[Закрыть]
Это те же «прозы пристальной крупицы», которые оценил впоследствии в поэзии Ахматовой Пастернак. И это те «прозы пристальной крупицы», которые отличают третий том самого Блока.
В первой части «Поэмы без героя» героиня встречается с Блоком и любовная эта встреча кончается гибелью мальчика-драгуна, истинно любившего «коломбину десятых годов», единственного, любившего всем сердцем, открыто, без маски.
А за ней в шинели и в каске
Ты, вошедший сюда без маски…
(«Он был лучше их, потому они его убили», – сказал Ахматовой один читатель, а она мне.) Любовная встреча актрисы и знаменитого поэта должна была кончиться злом, потому что он, сам столько раз уже к тому времени написавший о себе как о мертвеце, затесавшемся среди живых, он, явившийся на любовное свидание «с мертвым сердцем и мертвым взором», сам, прежде чем погибнуть, должен был принести смерть и принес ее. Вспомним еще раз портрет Блока в «Поэме»:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все таинственно в пришлеце.
………………………………
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице…
Блок в «Поэме без героя» и носитель зла, и носитель высшей одухотворенности. Он весь двойной (Демон и Тамара в одном существе), весь – обольстительный, и гибнущий, и несущий гибель. И именно потому, что в сознании Ахматовой (как, впрочем, и в сознании самого Блока) он таков – воплощение эпохи расцвета и предощущение гибели – в ее подсознании, до-сознании, предсознании так много блоковского воплотилось или мерцает в «Поэме без героя».
Кроме совпадений, на которые уже указывали – и Жирмунский, и Максимов, и Цивьян, и Тименчик, – мне хочется указать не на прямые, а на косвенные совпадения. Надежда Яковлевна пишет что-то о двойничестве, зеркальности, о мясорубке, сквозь которую Ахматова якобы пропустила Князева и Мандельштама, и прочую чепуху. Мне же хочется, откинув подальше от себя и читателя эти рационалистические рассуждения, эту вздорность, прикидывающуюся мышлением, вспомнить звук и воздух блоковской лирики, которой питалась Ахматова.
Да, да, зеркальность. Да, да, двойничество. То, да не то.
У Ахматовой:
И во всех зеркалах отразился
Человек, что не появился
И проникнуть в тот зал не мог…
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
………………………………
Все унеслось прозрачным дымом,
Истлело в глубине зеркал…
И вот уж о невозвратимом
Скрипач безносый заиграл.
Зеркало – магия, колдовство, сохраняющее и уничтожающее, магическая дверь в прошедшее, а иногда и в будущее.
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Да, «такие таятся чары в этом страшном дымном лице» – такие чары в страшной, гибельной и светлой поэзии Блока, что чарами ее проникнута и лирика Ахматовой, и ее лиро-эпическая «Поэма без героя». Разве не растет ее двойничество и ее зеркальность из блоковских строк —
Но если гибель предстоит?
Но если за моей спиною
Тот – необъятною рукою
Покрывший зеркало – стоит.
Блеснет в глаза зеркальный свет,
И в ужасе, зажмуря очи,
Я отступлю в ту область ночи,
Откуда возвращенья нет.
И откуда, окунувшись в нее – в блоковскую черную ночь, в «ветер с залива», в «ночь Петербурга» возвратилась к нам, зеркалом и смертью омытая, «Поэма без героя».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.