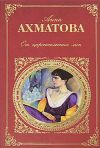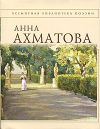Текст книги "Дом Поэта"
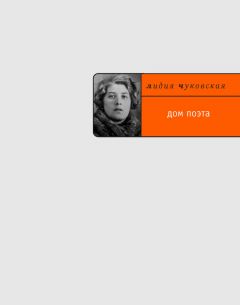
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Обращены эти стихи к женщине, которая далека (в пространстве? во времени?), а завершаются строками о политическом преступнике, друге, который подвергнут изгнанию. Утрата любви столь же незабвенна для Пушкина, как последнее объятие, которым довелось ему обменяться с другом.
Надежда Яковлевна, хотя иногда и с хвалебными оговорками, в общем не одобряет любовные стихотворения Анны Ахматовой. Ранние за то, что среди почитателей ахматовской любовной лирики в изобилии встречались пошляки, а поздние за то, что написаны они, когда Ахматовой уже было более семидесяти, и, по мнению Надежды Яковлевны, она не умела «вовремя поставить точку» (410) [372]. Разумеется, Надежде Яковлевне прекрасно известно, когда именно и где, и после чего следовало Ахматовой поставить точку. Повезло нам, что Анна Андреевна не вняла увещаниям Надежды Яковлевны: иначе мы были бы лишены такого шедевра, как «Полночные стихи», а быть может и «Сожженной тетради», («Шиповник цветет») и той, еще никогда не звучавшей в ахматовской лирике, ново-открытой гармонии, какая зазвучала в отрывках из «Пролога»… Надежда Яковлевна, потешаясь над «Песней последней встречи», перчатки уступает дамам, а себе берет «струю отречения и гнева» (280) [256]. Как будто в любовных стихах Анны Ахматовой не сливаются обе эти струи: отречение и гнев! Как будто в лирике большого поэта возможно отделить гражданский гнев от «личного», а в сугубо личных стихах кротость и нежность не переливаются в презрение и гнев!
Гневное («личное»):
воскликнуто с той же интонацией, что и гневное «гражданское»:
«Гражданское»:
произнесено с не меньшей торжественностью, чем любовное:
«Нам было не до любви в нашей страшной жизни» (280) [256] пишет Надежда Яковлевна. К счастью, и в этом случае «нам», «мы» – призрак, мираж, мифотворчество, ложь. Людям (если они в самом деле люди) всегда «до любви», а в «страшной жизни» – особенно. «“Дамское” в Ахматовой было наносное, – объясняет Надежда Яковлевна. – Если оно и прорывалось в стихи (а это, конечно, бывало, и часто), то оно самое слабое в ее поэзии». «Окруженная женщинами, которых называла “красавицами”, она поддавалась их лести и начинала изображать из себя даму» (280) [256J[141]141
Через всю книгу Надежды Мандельштам проходит лютая ненависть к красавицам. Отчего бы это?
[Закрыть].
Я же нахожу, что т. Жданов, желая унизить Ахматову, употребил слово более выразительное: «барынька». «Барыня» и «дама» – это похоже, это стоит одно другого. Было ли в личности и поведении Ахматовой барское или «дамское» – я судить не берусь: не застала. Я застала лишь нищее, брошенное. (Год, с которого начались наши частые встречи – 1938-й.) Я застала мужественную женственность, духовную силу, противостоящую нищете, брошенности, гибели. «Красавиц» возле Ахматовой я тоже не видала (видела всего лишь одну, О. А. Глебову-Судейкину, но, к сожалению, лишь мельком, в 1923 году). Мне могут возразить: ну, а до того, как с Ахматовой познакомились вы? Утверждаю: все равно дамского в ней не было и не могло быть: речь ведь идет о поэте. «Существо это странного нрава»[142]142
БВ, с. 317.
[Закрыть], – сказала о поэте Ахматова. В Ахматовой ничего не было «дамского», как в Пушкине – камер-юнкерского. Никакие перья на шляпе, экипажи или поклонники не делали из Анны Андреевны «даму». Лермонтов оставался Лермонтовым в эполетах и бурке. Личность Ахматовой слишком особенная, от всех отдельная, редкостная; «барыня» или «дама» – это понятия общие, принадлежность к известному кругу, Ахматова же в каждом кругу, интеллигентском, дворянском или разночинном, дореволюционном или послереволюционном, оставалась собою, «беззаконной кометой». Я сказала бы, что в ранние ее стихи – в сущности еще до-ахматовские – прорывалась иногда не «дамскость», а безвкусица, свойственная девяностым годам и рубежу века. Случалось это не часто, как утверждает Надежда Яковлевна, а на удивление редко, потому что Ахматова наделена была безошибочным вкусом, и если в журнальных публикациях мелькали иногда – в пору, когда Ахматова не осознала себя Ахматовой – заглавие «Дама в лиловом», или стихи о какой-то маркизе, о каком-то графе, или какаду, то из журналов в сборники они почти никогда не проникали, устраненные ее же непреклонной рукой; в жизни Ахматовой и в стихах не было ровно ничего маркизьего, графского и парадного: всё подлинно, всё всерьез, и неподалеку от смерти. В ахматовской любовной лирике царствует не «дамское», а женское: «дружбы светлые беседы», приближающие часы первой нежности, и жертвенно-женское, и негодующе-женское: нежность, верность, негодование и безутешное вдовство. От «дамы» и «барыни» за тысячи верст.
Ахматовская любовная лирика – одна из вершин великого горного хребта русской поэзии: вершина эта сияет не менее высоко и ослепительно, чем любовная лирика Пушкина, Тютчева, Блока.
…Слова «друг», «любовь», «дружба», «подруга» – чуть не в каждой строке. Написанные с маленькой буквы, они всегда звучат так, будто написаны с большой. То гордо, торжественно, в упоении осуществленной мечты:
Или:
Или в торжественной горечи любви, которая рухнула:
Или:
Тут речь о той дружбе, которую, «за неименьем лучшего названья»[147]147
Журнал «Простор», 1971, № 2, с. 101 [ «Мы запретное вкусили знанье…»].
[Закрыть] люди зовут любовью.
А вот о дружестве в прямом, обыденном смысле слова, – может быть, о братстве, товариществе:
в понимании Ахматовой дружба – при несокрушимой верности – это независимость, свобода души. В противоположность любви:
Ахматова не единожды говорит о любви как об оковах, неволе, прирученности, духовной тюрьме. А дружба – это свобода.
На страницах «Второй книги» Надежда Яковлевна отдает должное способности Анны Андреевны быть преданным другом, стойким товарищем по несчастью. Дружеское расположение Анны Андреевны к Надежде Яковлевне мне ведомо не с чужих слов – я сама имела случай наблюдать его; да и без моих подтверждений свидетельств достаточно. Но, по правде сказать, сейчас, через семь лет после кончины Ахматовой, читая «Вторую книгу», я перестаю верить собственной памяти, собственным ушам и глазам; глаза мои видели их обеих вместе, уши, случалось, слышали их беседы, но теперь мне не только смешно читать, будто Анна Андреевна и Надежда Яковлевна представляли собою некое содружество, некое общее «мы» – (слишком эти люди различны и слишком уж много злости изливает Надежда Яковлевна на Анну Андреевну, дождавшись ее кончины), но я и вообразить себе не могу того, чему сама была свидетельницей: обыкновенной, заурядной беседы между этими двумя людьми… Да еще беседы о стихах. Каких бы то ни было. Чьих бы то ни было. В особенности ахматовских.
Язык, на котором изъясняется Н. Мандельштам, противостоит поэзии Анны Ахматовой – а значит и ахматовскому духовному миру. Несовместим с ним, противоположен ему… Быть может, они объяснялись между собою не словами, а знаками? Нет, мне помнятся разговоры. Как же это они могли разговаривать? Непостижимо.
Любовная лирика Анны Ахматовой при кажущейся простоте, при легкости – для читателей – восприятия и запоминания, необычайно сложна, глубока, многослойна; сложность – ее основное свойство; любовные стихи Анны Ахматовой выражают чувства не однозначные, а переменчивые, переливчатые, превращающиеся одно в другое, смертельно счастливые или насмерть несчастные, а чаще всего счастливо-несчастливые зараз. При этом все чувства напряжены, доведены до полноты, до предела, до остроты смерти: свиданье, разлука.
Любовная лирика Анны Ахматовой, которую Надежда Яковлевна старательно отделяет стеною от других ее стихов, в действительности от них неотделима, с ними неразлучима; собственно же любовные строки требуют анализа весьма тонкого; они так сложны и токи посылаемы ими из такой глубины, что грубым инструментом их не исследуешь: даже естественное, казалось бы, деление на стихи о любви счастливой и о любви несчастной для них непригодно. Счастливую любовь в стихотворениях Анны Ахматовой далеко не всегда отличишь от несчастной. В переплетении счастья-несчастья – один из источников жизненной верности и драматизма поэзии Анны Ахматовой. Любовная лирика Ахматовой драматична почти всегда; спокойствие, затишье, тишина, знаменующая счастье, в ней редкость; в любовных стихотворениях Ахматовой вихрь, буря, борьба.
сказано ею об одной из ее любовей; но каждая любовь почти всегда оборачивалась для нее борьбой. В ахматовском слове чаще всего запечатлены минуты «рокового поединка», – того, тютчевского:
…Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И… поединок роковой…
Нет, кажется, ни одной минуты в «роковом поединке», которая не была бы настигнута, уловлена, схвачена ахматовским словом. Каждое влюбленное сердце прочтет в ее книге о себе; каждый читатель на которой-то странице «Бега времени» подумает: «Так было и со мной. Это для меня – и ближе, чем “для” – это про меня». Каждое сердце узнает в котором-нибудь из ее стихотворений свою разлуку, свою встречу, свое предчувствие встречи и «жизнь после конца»[151]151
БВ, с. 446 [ «Меня, как реку, суровая эпоха повернула…»].
[Закрыть], и предчувствие новой жизни. Узнавание это быть может и мнимое, с читателем совсем не то, о чем рассказала, говоря о своей героине, Ахматова, но создает эту мнимо-общую память осязаемость и емкость пережитых поэтом чувств. Они так емки, что читатель принимает их за свои, подставляет под них свои.
Разрыв:
Случалось в жизни со всеми, а в поэзии случилось единожды: в стихотворениях Анны Ахматовой. И «случилось» с такою осязаемостью выражения, что каждый, читая, думает: это про меня.
Все оттенки чувств: смирение, кротость, робость, негодование, нежность, ревность, предчувствие любви, предчувствие разлуки, мольба о прощении, страсть («а бешеная кровь меня к тебе вела…»[153]153
Там же, с. 281.
[Закрыть]), нераскаянность и исступленное раскаяние. Союз двух душ и поединок двух душ: поединок с возлюбленным и с собою. Любовная лирика Анны Ахматовой по преимуществу драматична, оттого покой в ней редкость, по преимуществу это борьба: с чужим да и с собственным сердцем. Неразделенную любовь приходится из сердца насильственно удалять. Сколько у Ахматовой стихотворений, посвященных этой трагической хирургии!
«Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа девятнадцатого века», – писал Мандельштам[154]154
О. Мандельштам. Сочинения. Т. 3, с. 34.
[Закрыть]. И он же: «Сочетание тончайшего психологизма (школа Анненского) с песенным ладом поражает в стихах Ахматовой наш слух <…> Психологический узор в ахматовской песне так же естественен, как прожилки кленового листа:
И вот в эту ахматовскую «торжественную ночь», в «Зазеркалье», в мир бессонниц, вещих снов, незримых трауров, канунов и годовщин, в мир предчувствий, знамений и тайн, где счастье не отличишь от несчастья и «только слезы рады, что могут долго течь», в мир «небывших свиданий» и «несказанных речей», в мир предопределения, рока, где любовь зажглась
в огромный мир сложнейших человеческих отношений, где каждый поворот головы – событие, в мир ахматовской любовной лирики,
в человечный мир, наследующий психологию отношений между людьми в романах Тургенева, Достоевского, Гончарова, Толстого, или в стихах Тютчева и Анненского входит развязной походкой всепонимающая Надежда Яковлевна.
Миру этому она совершенно чужда хотя бы потому, что, по ее увереньям, она смолоду «выдрющивалась как хотела», то есть в любви была победоносна. У Ахматовой любовь, даже счастливая, сплавлена с болью. О себе же Надежда Яковлевна, снова неизвестно почему сопоставляя себя с Цветаевой и Ахматовой, сообщает:
«Цветаева и Ахматова умели извлекать из любви максимум радости и боли. Им можно только позавидовать. Я ведь действительно не знала боли в любви и не ценила боль. Меня наградили другой болью – никому не пожелаю» (521) [472].
Читатель, как же ты читаешь? Тебе ведь, хотя и понаслышке, а все же известны биографии Анны Ахматовой и Марины Цветаевой… Первый муж Ахматовой – Гумилев – был расстрелян; Пунин погиб в лагере, сын Ахматовой и Гумилева, Лев, был в лагере полжизни… Муж Цветаевой, Сергей Эфрон, был расстрелян; дочь провела в лагере и ссылке много лет… Читатель, какой же это другой болью (не любовной) наградили, в отличие от Ахматовой и Цветаевой, Надежду Яковлевну, чей муж, Осип Мандельштам, погиб в лагере? Пусть Надежда Яковлевна не знала боли в любви, а извлекала из нее, в отличие от Ахматовой и Цветаевой, одни удовольствия – но во вдовьей судьбе, характерной для миллионов женщин нашей страны, какая же между Ахматовой, Цветаевой, двумя замечательными поэтами и Надеждой Яковлевной, женою поэта – разница?
Вот тут-то они и сестры, вот тут-то и заложена причина постоянной заботы Анны Андреевны о Надежде Яковлевне.
Вот тут бы мемуаристке и повести речь о союзе – не «тройственном», а многомиллионном! – союзе женщин, о которых у Ахматовой сказано:
По ту сторону ада мы…
…Но вернемся к боли любовной, которой, в отличие от Цветаевой и Ахматовой, не довелось изведать удачливой Надежде Яковлевне – даже в те минуты, когда она в припадке ревности била тарелки.
Если ты никогда не испытала боли в любви, зачем ты вообще читаешь Ахматову? Да и не одну Ахматову – всю любовную лирику мира!
…Надежда Яковлевна прикасается к узорам кленового листа, как ей мнится, смелой, дерзновенной, а на деле всего лишь грубой и равнодушной рукой. Она и тут верна себе – бесчеловечью, которому ее научило время. Ее суждения о любви и стихах ничуть не менее трамвайно-грубы, чем суждения об уволенных с работы евреях-математиках или о детях арестованного нэпмана. Они, эти суждения, по глухоте и грубости, мало чем отличаются от критики РАППа или т. А. А. Жданова, хотя во «Второй книге» рассуждают о стихах не рапповцы и не Жданов, а вдова поэта, выдающая себя за первого слушателя и настоящего ценителя.
Расправляется она с любовной ахматовской лирикой без всякой попытки проникнуть в ее тайны, чудеса и многосложности.
разбираться в каких-то там чудесах на ладони Надежда Яковлевна не собирается. В психологических сложностях – тоже.
Мы же для понимания поэзии Ахматовой попробуем вникнуть если не в чудеса, то хотя бы в психологические отношения между людьми в таком, например, внешне очень спокойном и совершенно простом стихотворении Анны Ахматовой:
Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.
Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга,
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.
Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы![159]159
БВ, с. 60.
[Закрыть]
Не правда ли, «простые» стихи? Губы – любы, вино – окно, противопоставлены луна и солнце – кто так не рифмовал, кто не делал подобных противопоставлений? Но до чего же сложен в этих простых стихах «психологический узор», о котором писал Осип Мандельштам – и какими словами, кроме тех, которыми навеки говорены эти стихи – можно изобразить отношения между четырьмя людьми, здесь поминаемыми? Странен, единственен, неповторим, многосложен, счастлив-несчастлив загадочный, волшебный недуг. Таинственный костер,
…которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.
Каким же ключом отпирает сокровищницу тайн, чудес, примет и предзнаменований любовной ахматовской лирики Надежда Яковлевна, никогда не испытавшая боли в любви? Каким инструментом прикасается к прожилкам кленового листа?
Элементарнейшим. Измеритель ею выбран тот, какой был в ходу у первых комсомолок. На книге Надежды Яковлевны всей своей жирной пятерней отпечаталось время. Она и тут верна времени и себе: поэзия Ахматовой человечна, глубока и проста, – бесчеловечны, грубы и элементарны прилагаемые Надеждой Яковлевной мерки.
Простота, энергия, сжатость выражения при сложности, богатстве, тонкости, противоречивости мыслей и чувств – подвиг художника, быть может величайший изо всех, совершаемых в искусстве; художник к единому знаменателю – к простоте – приводит разносторонность, многозначность, множественность ассоциаций, связывает в один тугой узел сложнейшие петли и узоры жизни; с элементарностью простота ничего общего не имеет – ни в жизни, ни в подходе к людям, ни в подходе к искусству; всякая попытка свести сложное, духовно-богатое к элементарному – приводит к гибели человеческое общество и к растлению или уничтожению искусство.
Послушаем Надежду Яковлевну; ее мысли о любви и жизни, о любви и поэзии:
«…Для моего поколения безнадежно устаревшим казался “культ дамы”, душевных переживаний, возникших от случайной встречи, “друга первый взгляд” и те полу отношения, которые культивировались женщинами на десяток лет постарше меня… Честно говоря, я не верю в любовь без постели и не раз шокировала Ахматову прямым вопросом: “А он вас просил переспать с ним?” Есть еще один измеритель, вызывавший всеобщее возмущение: “Сколько он на вас истратил?” Возмущались и “дамы”, иначе говоря, ободранные кошки, и энергичные девицы новых поколений. Иначе говоря, я попадала в цель» (159) [146].
Иначе говоря, что это за излишние переживания на пустом месте! Предчувствие встречи, первый взгляд, первое прикосновение, первый поцелуй, прощальная встреча.
Сколько вздора! То ли дело – без всяких таинств – откровенность «Второй книги»:
«В Киеве, как я говорила, мы бездумно сошлись на первый день, – сообщает Надежда Яковлевна о себе, современно бездумно обращаясь с грамматикой: «сошлись на первый день» – чего же это был первый день? – …и я упорно твердила, что с нас хватит и двух недель, лишь бы “без переживаний”» (156) [144].
Каждому свое, я не спорю, но если ты твердишь «лишь бы без переживаний», то не следует заводить дружбу с женщиной, которая принесла в русскую лирику всю сложность русского романа, прибавив к ней психологическую сложность таких поэтов, как Тютчев и Анненский, и пуще всего не следует беседовать с этой женщиной о любовных стихах. Если единственный измеритель любви, признаваемый Надеждой Яковлевной, «честно говоря», есть постель, зачем же ей вслух размышлять о стихах:
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.
Читать бы ей лучше не Анну Ахматову с ее психологическими узорами и не Марину Цветаеву, а Елизавету Стырскую – была такая поэтесса в 20-х годах. В 1922 году, тогда же, когда и «Anno Domini», вышла в свет книга Стырской «Мутное вино». Там тоже, как и у Анны Ахматовой, стихи про любовь и про поэзию. Но никаких тебе сложностей, никаких, ни «светлых бесед» дружбы, ни «первых нежных дней», ни встреч, которые разлуки, ни разлук, которые встречи: все гораздо элементарнее и много дельнее:
Долог путь от строк к надменной славе,
Краток путь от строчек до софы…
Это – Стырская. Не то что у Ахматовой… Такой долгий путь:
Нет! К чему тут слова!
Я да ты изломанной чертой
Вычерчены страстью на постели…
Действительно, к чему канителиться? «Не будем терять драгоценного времени».
Пышных кос горячие перины.
Мне от страсти даже днем темно.
Пью из губ любимого мужчины
Темной неги мутное вино.
(На здоровье!)
Надежда Яковлевна хочет уверить нас, будто о любви она беседовала не с Елизаветой Стырской, а с Анной Ахматовой. И при этом будто бы беседа протекала в таких тонах: «Я… не раз шокировала Ахматову прямым вопросом: “а он вас просил переспать с ним?”». И будто бы Ахматова была этим прямым вопросом шокирована. Не шокирована, думаю я, она была, а удивлена: вопрос предполагает, кроме нахальства, полную глухоту жены ее друга, поэта Осипа Мандельштама, к ее, ахматовским, стихам. Впрочем, читатель, наверное, уже догадался, что Надежда Яковлевна подобных вопросов Анне Андреевне никогда не задавала, что это есть кристально чистая ложь.
Вообразим себе на минуту – Ахматова будто бы читает:
У меня есть улыбка одна:
Так, движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.
Надежда Яковлевна, прослушав, будто бы справляется для ясности: «А он вас просил переспать с ним»?.. Если бы Надежда Яковлевна на самом деле подобный вопрос задала – вот тут немедленно была бы выставлена за дверь – с хлопаньем или без хлопанья, не знаю. Вернее без шума – одним чуть видным движением губ, руки́, глаз или подбородка.
В стихах Анны Ахматовой мы постоянно встречаемся со словами «подруга», «друг», «дружба»:
…Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова, —
имела она смелость сказать о себе. В книге Надежды Яковлевны постоянно встречается слово «подружка» – и тоже во всех смыслах (кроме нежного пушкинского обращения к няне: «добрая подружка»), во всех разнообразных значениях этого слова: своя или чужая приятельница или чья-то любовница. Мандельштам, повествует она о своей семейной жизни, «перестал бояться, что я удеру в его отсутствие в кабак, на аэродром или к подружке, чтобы почирикать» (295) [270].
«Подружек» у Анны Ахматовой не бывало; у нее, кроме жестоких врагов, были надежные друзья и, как у всякого прославленного человека, множество знакомых, поклонников, посетителей, собеседников. Однако «чирикать» она была неспособна: ни в светской беседе, ни в дружеском тесном общении: гортань не та.
«Мандельштам из меня, случайной девчонки, упорно делал жену, – откровенничает Надежда Яковлевна. – Роль «жены» мне не подходила, да и время не способствовало образованию жен. Жена имеет смысл, если есть дом, быт, устойчивость, а ее не было в нашей жизни, а может, никогда больше не будет. Все мы жили и живем на вулкане… В наши дни подружка была сподручнее жены» (159) [147].
О доме и быте и, главное, о тех людях, которые пытались его устроить, Надежда Яковлевна отзывается весьма пренебрежительно на всех семистах страницах своей книги. Дело вкуса; но меня поражает, что ей ни разу не пришла на ум простейшая мысль: уклада, дома и хотя бы относительной устойчивости быта требуют не муж и жена, не друг и подруга, и уж, конечно, не случайная девчонка или подружка – а ребенок; от кого бы он ни был рожден. Это он, самодержавный властелин семьи, требует уклада, распорядка, презренных предметов обихода вроде кровати, стола, стула. Это он властно кладет предел приятному бытовому нигилизму. Что же касается «случайных девчонок» и «подружек», то и тут Надежда Яковлевна пребывает в заблуждении. Почему это «подружки сподручнее» лишь на вулкане? Они сподручнее везде, всюду, всегда, у всех народов и во все времена; они успешно выполняют свои функции в любое время и на любой почве: вулканической или мирной. Они были, есть, будут. На них можно не тратить ровно ничего, «ни крупицы души» – ни секунды презираемой Надеждой Яковлевной психологии – первая улыбка, вторая улыбка, встреча, невстреча. Разве что деньги, о которых Надежда Яковлевна, по ее уверению, якобы привыкла осведомляться у дам – «то есть ободранных кошек» – или энергичных девиц: «Сколько он на вас истратил?» (159) [146].
Задавала ли она подобный вопрос Анне Андреевне, из текста не видно. Уж очень текст на странице 159 в этом смысле невнятен. Если читать доверчиво, не критически, то из текста можно вывести, будто и ей задавала. Но не будем пользоваться правами, предоставляемыми нам невнятицей. По-видимому, о том, сколько кто на кого истратил (проблема, сделавшаяся у нас модной во времена НЭПа), чирикала Надежда Яковлевна с кем-то из своих подружек, а не беседовала с Анной Ахматовой. С Анной Андреевной рассуждения ею велись больше по части постели. Дадим волю воображению.
Ахматова:
Вот дурак. Сказал бы попросту: «переспать с тобой». А то разводит какие-то «полуотношения».
А не надо, так зачем и ходить без надобности. И вопросы задавать. То ли дело Елизавета Стырская. Вот там воистину дельные, роковые вопросы:
И отчего у женщин ноздри
Дрожат от близости мужчин?
Вот с кем всласть почирикать бы Надежде Яковлевне о тайнах любви и постели.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.