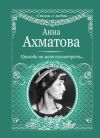Текст книги "Дом Поэта"
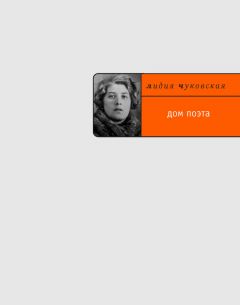
Автор книги: Лидия Чуковская
Жанр: Критика, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Стройно, ясно, последовательно. Ведь их было трое, только трое, а потом двое, только двое – она и Ахматова – и у них был общий жизненный путь.
Осип Мандельштам простился, Ахматова простилась, они простились, я простилась, мы простились. Простились с морем. И вот тут и настигает читателя загадочная фраза.
«Нельзя же считать морем пресный светло-серый залив недалеко от Комарово в советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой».
Очень изящное завершение общего жизненного пути. Психологически-географическое.
«Искусственно, вернее насильственно, оторванные от всего, что нам было дорого и близко…»
«Мы только и делали, что поминали и прощались» (529) [479].
(В стране, где поколение за поколением обречено лагерям, пережившей две революции, коллективизацию, гражданскую войну и две мировые – все, а не мы двое или мы трое, «только и делают», что прощаются и поминают.)
«Мы на минутку… Мы только и делали…» Но если заняться биографией Анны Ахматовой, какие сведения в конкретном, прямом смысле извлечет биограф из этих слов: «мы на минутку остановились»? Какая стоит за ними реальность? Конечно, по сравнению с вечностью и столетие «минутка»; я не знаю, сколько времени в Комарове провела Надежда Яковлевна; об установлении этой даты пусть уж позаботятся биографы Н. Мандельштам, но Анна Ахматова на берегу Финского залива, в дачном поселке Комарово, проводила каждый год по несколько месяцев – то на литфондовской даче, то в Доме Творчества – ровно десять лет: с 1955 по 1965. Десять лет для нее длилась минутка!
В ранг моря возвела Ахматова презираемый Надеждой Яковлевной Финский залив еще в 1922 году:
Оказавшись постоянной жительницей финского берега в пятидесятых-шестидесятых годах, Анна Ахматова, в отличие от Надежды Яковлевны, вовсе не ощутила это как нечто противоестественное, искусственное. Она родилась и провела детство и раннюю юность на юге, однако Северная столица – Петербург и Царское Село под Петербургом и «берег северного моря», «граница наших бед и слав» смолоду было воспринято ею как нечто родное и неотъемлемое.
В 1964 году она написала:
Общего с Надеждой Яковлевной презрения к ничтожеству Финского залива Анна Ахматова отнюдь не испытывала. Он не заменил ей, конечно, Черное море, воспетое в ее первой поэме, но она (не «мы», а она, Анна Ахматова, петербуржанка, ленинградка) полюбила комаровские сосны, и залив, и Приморское шоссе, по которому в сторону Выборга ее возили на автомобиле друзья, и свою крошечную дачу, которую называла «будкой», – где хозяйничали, по очереди дежуря возле нее, москвичи и ленинградцы, – и правильно поступил Л. Н. Гумилев, похоронив мать в том месте, где, по словам Надежды Яковлевны, «искусственно, вернее насильственно, оторванные от всего, что нам было дорого и близко», «мы остановились с Ахматовой на минутку». Теперь Ахматова там навсегда, и берег Финского залива навсегда стал ахматовским. В этом месте и об этом месте за десять лет Ахматовой написано столько стихов, что я уверена: оно обречено ее имени посмертно и навечно, как Переделкино обречено Пастернаку.
И это нисколько не умаляет ее привязанности к Херсонесу, Севастополю, Кавказу.
Что же значит в биографии Ахматовой загадочная «минутка», проведенная ею вместе с Надеждой Яковлевной в Комарове? А ничего не значит. Эта минутка-загадка – всего лишь виньетка для завершения «общего жизненного пути». Мнимо общего.
Путаница с непонятной минуткой вредна, но не злокачественна: уж очень ее легко распутать. Ахматовой о Комарове и в Комарове написано много стихов, они почти все напечатаны, и под ними проставлены даты. «Минутка» без больших исследовательских усилий неизбежно превращается в месяцы определенного десятилетия, а мнимое «мы» в подлинное «я» Анны Ахматовой. Пренебрежительные строки «нельзя же считать морем пресный светло-серый залив» – заменяются благодарными строчками:
или строками благодарно-прощальными и скорбно-восторженными:
Путаница вокруг Комарова, внесенная в биографию Ахматовой сбивчивым монологом Надежды Яковлевны, распутывается просто: возьмите в руки «Бег времени». Гораздо злокачественнее путаница, которую Надежда Яковлевна вносит в ту часть ахматовской биографии, которая связана с судьбой Л. Н. Гумилева.
Тут уж проваливаешься в зыбучие пески по колено. «Лева освободился после XXII Съезда, когда поехали специальные комиссии, выпускавшие лагерников», – пишет она (660) [596–597]*. XXII Съезд происходил, как известно, осенью 1961 года, а Л. Н. Гумилев был освобожден весною 1956-го. Анна Андреевна в очередной раз приехала из Ленинграда в Москву 14 мая 1956 года; 15 мая, к Ардовым на Ордынку, зашел справиться о матери Лев Николаевич – и они встретились. При чем же тут 1961? Само по себе освобождение каждого человека – дата, достойная памяти; Л. Н. Гумилев – востоковед, специалист по истории народов Центральной Азии, человек трагической судьбы: сын Ахматовой и Гумилева, то есть расстрелянного отца, он уже одним этим, по сталинскому регламенту, обречен был на лагерь, тюрьму и ссылку. «Органы безопасности» брали на учет детей в семьях расстрелянных и, когда дети вырастали, объявляли их «мстителями» – ведь сыну так естественно мстить за отца! Их арестовывали, обвиняя в чем попало, и их тела покоятся ныне где-то в городах или на голом Севере в безымянных могилах:
…Ты спроси у моих современниц:
Каторжанок, стопятниц, пленниц,
И тебе порасскажем мы,
Как в беспамятном жили страхе,
Как растили детей для плахи,
Для застенка и для тюрьмы.
Сталин мыслил масштабно, на поколения вперед. Готовились ли списки подрастающих внуков? Мне представляется этот вопрос интересным. Сколько еще лет мы растили бы детей для застенка, если бы Сталин не умер в 1953 году?
«Россия лежала безгласно, замертво, в синих пятнах, как несчастная баба у ног своего хозяина, избитая его тяжелыми кулаками»[101]101
А. И. Герцен. Собр. соч.: В 30 т. Т. 10. М.: Изд-во АН СССР, 1956, с. 42.
[Закрыть].
По-новому звучит для нас слово «хозяин» в этой древней цитате из «Былого и дум». Герцен имел в виду Николая I.
«Хозяином» в интимном кругу осмеливались с дружеской фамильярностью величать Сталина его подручные.
Россия лежала безгласно и замертво? Во всяком случае – без сознания.
Л. Н. Гумилев был арестован в 1935 году, но после письма Ахматовой к Сталину – кто знает почему? – освобожден. В 1938 году Л. Н. Гумилева арестовали опять; затем из Туруханского края, куда он был сослан после заключения в лагере, он ушел добровольно на фронт; в 1949 году его арестовали снова (в 1948—49, когда кончались сроки осужденных на 8 и 10 лет и некоторые возвращались в родные края, их арестовывали заново; назывались эти люди «повторники», потому что их сажали вторично за преступления, не совершенные и впервые). В 1949 году Л. Н. Гумилев из разряда «мстителей» попал, видимо, в разряд «повторников». Сталинская плющильная машина работала исправно и по плану. То, что в промежутке между двумя арестами Л. Н. Гумилев сражался за спасение отечества, «органы безопасности» отнюдь не смутило. Сын Гумилева, как бы он себя ни вел, все равно оставался для блюстителей безопасности – «опасным».
Судьба сына была непрекращающейся пыткой для Анны Ахматовой; хлопоты о нем в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы – основным содержанием жизни. Не забуду дня, когда я пришла к ней на Ордынку после ее встречи с сыном. Он только что от нее ушел; в комнате было накурено. Вот отрывок из моей тогдашней записи:
«Любо видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос.
Мы вошли в маленькую комнату. Там – клубы папиросного дыма.
– Накурил Левка! – сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым – сказала таким домашним, мило-ворчливым, материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой» (15 мая 1956) [102]102
[Записки. Т. 2, с. 219].
[Закрыть].
Мне так не хочется расставаться с этим счастьем – с памятью о годе возвращений, – что я, не расставаясь, приведу копию одного документа:

Сообщаю, что дело, по которому в 1950 г. был осужден ГУМИЛЕВ Лев Николаевич, проверено.
Установлено, что ГУМИЛЕВ Л. Н. был осужден неосновательно. По протесту Генерального Прокурора СССР определением Военной Коллегии Верховного суда СССР от 2 июня 1956 г. постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 13 сентября 1950 г. в отношении ГУМИЛЕВА Льва Николаевича отменено и дело на него за отсутствием состава преступления прекращено.
ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ОТДЕЛА ГВП
подполковник юстиции
п/п (КУРАСКУА)
Итак, дата последнего ареста – 1949 год, дата осуждения – 1950-й, дата отмены приговора – 1956-й. Откуда же тут взяться XXII Съезду партии – то есть 1961 году – после которого якобы «освободился Лева»? (660) [596—597]*.
Путаница в датах ставит иногда под сомнение целые эпизоды, бойко и правдоподобно излагаемые Н. Мандельштам. Взять хотя бы центральный эпизод главы «Они». С большой журналистской хлесткостью Надежда Яковлевна объясняет, кто такие «они», дает портрет одного из «функционеров», руководивших в пятидесятые годы Союзом писателей и объясняет, кто, собственно, руководил им самим. Затем с правдивыми подробностями изображены комната секретаря рядом с кабинетом «функционера» в Союзе, ожидающие его литераторы и тот необычайно любезный прием, который оказал «функционер» ей, Надежде Яковлевне, и Э. Г. Герштейн. Разговор шел о посмертной реабилитации Мандельштама, об освобождении Л. Н. Гумилева и об устройстве Надежды Яковлевны на работу (655–658) [591—595]. Одним звонком министру просвещения «функционер» устроил Надежду Яковлевну преподавателем в Чебоксары. И горячо обещал заняться реабилитацией О. Мандельштама и Л. Гумилева. «Для Ахматовой, Мандельштама и Гумилева я сделаю всё, что могу» (658) [595].
Далее, на странице 659 [595], читаем:
«Я уехала… с обещанием… через год предоставить мне комнату в Москве и принять меры к печатанью Мандельштама. Вскоре он назначил комиссию по наследству Мандельштама, не считаясь с тем, что по первому делу в реабилитации отказали. Это случилось сразу после событий в Венгрии, и отказ непосредственно связан с ними». Функционер «было приступил к выполнению обещаний, но эпоха больших надежд кончилась и мне пришлось наблюдать, как происходит отречение…» Прежде всего тот, кого Надежда Яковлевна именует «функционером» отрекся от Левы Гумилева. Он сказал: «С Гумилевым дело сложно – он, вероятно, мстил за отца» (660) [596].
Видали, видали мы на своем веку «функционеров», видим и теперь: они и в самом деле ежедневно отрекаются от своего слова. По команде любезны, по команде грубы или – как принято сейчас – уклончивы. Но отчего же Надежда Яковлевна выбрала непригодный пример? Зачем «функционеру», изображенному ею, было после событий в Венгрии отрекаться от хлопот об Л. Н. Гумилеве, если Л. Н. Гумилев, как мы видели выше, был освобожден весною 1956, а события в Венгрии разыгрались осенью? Ко времени венгерских событий Гумилев был уже относительно благополучен: на воле и реабилитирован. Отрекаться от него не было нужды… И зачем Надежда Яковлевна сама уподобляется изображаемому ею «функционеру»: в первой книге она сообщает о его благородном поступке, во «Второй» – берет свои слова обратно. Совсем как тот, кого она поносит. Но что приличествует чиновнику, то недостойно представительницы «тройственного союза». Да и повнимательнее следовало бы Надежде Яковлевне обращаться с биографией женщины-поэта, которой она отдала «единственную вакансию». («Остальным по шапке».)
Повнимательнее к текстам цитируемых стихов.
Повнимательнее к датам стихов и событий жизни.
И разве не следовало, «отдав вакансию» поэту, научиться понимать его стихи? Тем более, что, как заявлено Надеждой Яковлевной, ее назначение в «тройственном союзе» в том и было: схватывать с голоса, оценивать, понимать.
Как она схватывала стихи, мы уже видели. Посмотрим, как понимает она поэзию женщины-поэта, – Анны Ахматовой, которой «с ходу» отдала «единственную вакансию».
2
«Мандельштам и Эренбург говорили при мне о Цветаевой, но я отмахивалась и от нее», – сообщает Надежда Яковлевна (512) [454]. Вот до какой степени была она предана своей единственной избраннице – Анне Ахматовой! Впоследствии она удостоила симпатией и Марину Цветаеву. Искренне жалеет о несостоявшейся встрече, восхищается некоторыми стихами, с естественной скорбью говорит о ее страшной судьбе. Затем выносит резолюцию:
«…Ахматова и Цветаева великие ревнивицы, настоящие и блистательные женщины, и мне до них, как до звезды небесной» (520) [471].
Это замечание уже не представляется мне естественным. Удивляет самое сравнивание себя с ними. Разумеется, Надежде Яковлевне до каждой из них, как до небесной звезды: они ведь поэты, она нет. Она жена поэта. Стало быть, она сравнивает лишь способность к ревности. Чтоб ревновать, кому ума недоставало? Судя по «Второй книге», ревновать прекрасно умела и Надежда Яковлевна: обращаться к мужу с криком: «Я или она!», укладывать чемодан и т. д. Разница между Цветаевой и Надеждой Яковлевной, Ахматовой и Надеждой Яковлевной не в том, что Цветаева и Ахматова «великие ревнивицы», а она будто бы нет, а в том, что, ревнуя, они создавали стихи, она же била тарелки.
Обратимся к стихам. К тому, как понимает Надежда Яковлевна поэзию Анны Ахматовой – женщины-поэта, которой она отдала свою единственную вакансию.
К поэзии Анны Ахматовой Надежда Яковлевна как-то на редкость глуха. Об этом свидетельствует разбор «Поэмы без героя», отрывков из поздней пьесы «Пролог», мимоходом вынесенная резолюция по поводу цикла «Полночные стихи» – и многое, многое другое.
Особенно глуха Надежда Яковлевна к ахматовской любовной лирике. Основана эта неспособность понять и услышать, думается мне, на разном отношении к любви. Презрительно оставляет Надежда Яковлевна поклонницам ахматовских любовных стихов «Песню последней встречи» (256), а о своих собственных вкусах сообщает сначала, что меркой для нее служит струя самоотречения в поэзии Ахматовой, а потом – степень неистовости в противостоянии вместе с Мандельштамом «дикому миру, в котором, мы прожили жизнь» (280).
Самая попытка Н. Мандельштам разделить ахматовскую поэзию на две части: одна любовная, «личная» (со струей самоотречения или без струи), а другая – та, что противостоит дикому миру – самую попытку этого разделения я полагаю неправомерной. Такого разделения в ахматовской поэзии не найдешь. «Все есть личная жизнь», – писал в 1844 году Огарев[103]103
Н. Н. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения: В 2 т. Т. 2 / Подбор, подготовка текста к печати и примечания Я. 3. Черняка. М.: Гос. изд-во полит, лит-ры, 1956, с. 338.
[Закрыть]. «Общее» – «противостояние дикому миру», иными словами, события общественные, исторические, российские, всемирные – были пережиты Анной Ахматовой интимно, «лично», а любовь – разрывы и встречи, все повороты и крушения на дорогах любви подняты на высоту событий. Не происшествий, не «крутни и развлечений», как выразилась однажды, рассказывая о своей молодости, Надежда Яковлевна (156), а событий. Если встреча или «небывшее свиданье», если первый взгляд или первый поцелуй и первые нежные дни, если разрыв и разлука – это события, а не «крутня», то естественно, что жизнь преисполняется памятными датами, праздниками, траурами: недаром в заглавиях или в первых строках любовной лирики Анны Ахматовой так много календарных дат и годовщин. Дат в истории любви.
Памятные даты, предзнаменования, предвестья грядущей встречи, так же как приметы «убывающей Любови», щедро запечатлены ахматовским словом. Ведь предчувствуется не какая-то там «крутня», а великое событие, надвигающееся на жизнь. Неудивительно, что в знаменьях принимают участие и деревья, и воды, и небо.
Всё обещало мне его:
Край неба, тусклый и червонный,
И милый сон под Рождество,
И Пасхи ветер многозвонный,
И прутья красные лозы,
И парковые водопады,
И две большие стрекозы
На ржавом чугуне ограды.
И я не верить не могла,
Что будет дружен он со мною,
Когда по горным склонам шла
Горячей каменной тропою[105]105
БВ, с. 118.
[Закрыть].
Предчувствие любви. Ее тайные знаки: тропы в горах, стрекозы, водопады в парке. А вот приметы совершившегося разрыва – в нем тоже принимают участие силы природы, вселенной:
Каждому мгновению в истории любви, от предчувствия до первого взгляда, и от первого взгляда до прощального объятия, всем канунам встреч и годовщинам разлук, воздвигнут в лирике Анны Ахматовой памятник, как воздвигнуты ею арки, надгробья и столпы событиям историческим. «Поэма без героя» посвящена канунам двух войн: 1914 и 1941 года. Всё принимает участие в этих канунах: заветные свечи, зеркала, снег, сад, песня пьяного моряка, Россия, Тобрук, клен. Отчетливого деления между «общим» и «личным» в поэзии Ахматовой не найдешь. Ее лирика на редкость цельна; разлука с осажденным Ленинградом, разлука с возлюбленным, и «…встреча, что разлуки тяжелее…»[107]107
БВ, с. 415 [ «О, горе мне! Они тебя сожгли…»].
[Закрыть] (встреча с городом детства и юности после войны); мечта о встрече с тем, кто бросил, оставил навсегда, – о минуте, без которой, до которой, как она верует, не посмеет ее настигнуть смерть, – и «общее» и «личное» спаяно в единый сплав. «Всё есть личная жизнь», встреча с городом в развалинах и встреча с человеком, раньше которой нельзя умереть, всё есть личная жизнь, если личность огромна. Перечтите, например, ахматовские стихи разных десятилетий, обращенные к эмигрантам, такие как: «Я именем твоим не оскверняю уст…»; или «Высокомерьем дух твой помрачен…»[108]108
Сочинения. Т. 1, с. 168.
[Закрыть], или «Ты – отступник: за остров зеленый…»[109]109
Там же, с. 179.
[Закрыть]; или «Когда в тоске самоубийства…»[110]110
Там же, с. 185.
[Закрыть]; или «Не с теми я, кто бросил землю…»[111]111
БВ, с. 201.
[Закрыть]; или «Всем обещаньям вопреки…»[112]112
Там же, с. 440.
[Закрыть] – не каждый раз осознаешь, обращено ли стихотворение к возлюбленному, бросившему женщину, или к человеку, покинувшему родную землю… Но прощальный взгляд и голос всюду один: жалка не она, покинутая, как бы ни было ей горько и трудно, жалок он, покинувший, он навеки обречен помнить о ней (о земле? о женщине?) и, оборачиваясь, молить покинутую простить, заступиться, вспомнить, помнить. В ранних любовных стихах – та, что, как сказано в поздних, некогда блуждала в мире «льда суровей, огненней огня», произносит:
или – после того, как поняла, что ее бросили:
И не менее сурово, хотя и не безжалостно, глядят глаза вслед тому, кто оставил родную землю. Жалка не она, истерзанная, брошенная, жалок он, благополучный:
Она гордится и она жалеет:
…Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас[116]116
БВ, с. 201 [ «Не с теми я, кто бросил землю…»].
[Закрыть].
Или:
(Вспомним: «Глаза глядят уже сурово»!)
Или:
Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.
Да, не страшны ни море, ни битвы
Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать[118]118
Сочинения. Т. 1, с. 179–180 [ «Ты – отступник: за остров зеленый…»].
[Закрыть].
Ему не страшно: он в безопасности. Ему страшно: он в вечной разлуке. Оттуда, из своей безопасности, он ее, оставленную, ее, брошенную «в глухом чаду пожара», просит за него заступиться.
Одним голосом, с одной интонацией в поэзии Анны Ахматовой звучат «гражданские», витийственные строки и любовные, интимные.
Это – канун войны. И тем же голосом о прощании с другом – он оставляет и родную землю и женщину:
Поворотным, решающим мгновением в истории России XX века считала Ахматова войну с Германией – ту, первую, начавшуюся в 1914 году. Канун этой войны ощущала она как исторический порог:
…Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид… —
сказано ею о молодом поэте, драгуне, застрелившемся в 1913 году, накануне войны, на пороге возлюбленной:
…Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, —
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид…
Что же это был за порог? Какой открывался с возвышенности вид? Роковые мгновения в истории России. Война – и все, за ней последовавшее.
Гибель от неразделенной любви и гибель в Мазурских болотах, военное поражение и измена возлюбленной, поставившая человека на край смерти, слились в этих строчках в одном слове: «порог».
События «общие» – события истории человечества, пережитые Ахматовой как «личные», многочисленны и многообразны. По какому-то странному недоумию поэзию Ахматовой принято называть «камерной», между тем теперь, когда путь поэта окончен и наследие Ахматовой хотя бы в трех четвертях напечатано, – с особенной ясностью видно, как огромен был ее мир, какие разные события и эпохи обнимала ее лирика. Библия, античность, современность. Судьба жены Лота, дорого заплатившей за преданность прошлому; судьба Иакова и Рахили; Александр, сжигающий Фивы и обеспокоенный тем, чтобы цел остался Дом Поэта; изгнание Данте: поэт так и не прошел по улицам любимого города в покаянной рубахе; мировые войны и Гражданская война в России; две революции; сталинщина; разлука с арестованным сыном, с арестованными друзьями и разлука с осажденным Ленинградом; встреча и разлука с любовью (любовь в ахматовской поэзии почти всегда где-то по соседству со смертью) – всё проведено ее Музой «неспешно», «Сквозь жар души, сквозь хлад ума»[122]122
Александр Блок. Возмездие // Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М.; Л.: Гослитиздат, 1960.
[Закрыть], – всё: от смятения при встрече с любовью:
до горестных раздумий в месяцы победы фашизма:
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит…[124]124
Там же, с. 305.
[Закрыть]
Камерность – если она и присуща поэзии Ахматовой – вовсе не в узости, не в тесноте ахматовского мира, не в тихости и приглушенности звука, не в малом объеме пережитых событий; то, что на поверхностный взгляд представляется «камерностью», есть на самом деле глубина, заветность переживания: пережита ли Ахматовой любовная или историческая драма, она всегда пережита изнутри, лично, интимно.
Летом 1915 года, в пору смертельной опасности для России, Ахматова молилась, ощутив всенародную боль как собственную и жертвуя этой всенародной боли всем, что есть в человеческом сердце заветного, «личного»:
Какие же это стихи: камерные или общественные? Личные или гражданские? Стихотворение называется «Молитва». Что, казалось бы, интимнее молитвы? А может быть, «отыми и ребенка и друга» – это и есть настоящая гражданская, политическая лирика? Или, может быть, «туча над темной Россией» – личная жизнь?
В дни бомбардировок Ленинграда Ахматова написала маленькое стихотворение «Nox», – о статуе «Ночь» в Летнем саду, которую закопали в землю, чтобы она не погибла под бомбами.
«Протест» против «варварских бомбардировок»? Да, конечно, протест. Но не с плакатами и барабанами, а интимный. На слове «доченька» рыданием обрывается голос, потому что о статуе сказано словно о девушке: можно подумать, будто Ахматова опустила в могилу родную дочь и укрыла ее свежей землей.
Доченька!
Как мы тебя укрывали…
У нас в прессе, газетной и литературоведческой, часто употребляется словечко «откликнулся»: «поэт откликнулся» – ну, скажем, на Октябрьскую революцию или победу над Германией. Ахматова не «откликалась» на события, а жила ими, вот почему болью отзывалась в душе читателей ее боль.
«Das Allgemeine[127]127
Всеобщее (нем.).
[Закрыть] так же сделалось личным, как и все другое, – писал в 1844 году Огарев. – Любовь к женщине и любовь к человечеству равно составляют мой личный мир… Нужно изучать свое прошедшее и делать свою жизнь, свою историю»[128]128
Н. Н. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения: В 2 т. Т. 2 / Подбор, подготовка текста к печати и примеч. Я. 3. Черняка. М.: Гос. изд-во полит, литры, 1956, с. 338–339.
[Закрыть].
Поэзия Анны Ахматовой – это история одной души и записная книжка России. Отделять любовные стихи Ахматовой – хотя бы «Песню последней встречи» от «противостояния дикому миру» – значит поэзии Ахматовой не понимать.
В годы Первой мировой войны Ахматова писала о себе:
Страшной книгой, памятью народа – стала. Но, к счастью, память не опустела ни на гран, не сбросила «лишний груз». Гро́зы революций и войн и грозы любви, единство кровообращения – страна, мир, человек – их нельзя разделить в поэзии Анны Ахматовой.
…Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит…
О ком это сказано? Об умирающем ребенке? О возлюбленном? Нет, о Ленинграде.
По лаконизму, по мощности гражданского пафоса, это своего рода плакат РОСТА – по осердеченности «камерные», «личные» стихи. Молитва «отыми и ребенка и друга», предчувствия любовных встреч и разрывов, «Песня последней встречи» и та песня разлуки (из «Реквиема», которую «паровозные пели гудки»[131]131
Сочинения. Т. 1, с. 355 [ «Тот август, как желтое пламя…»].
[Закрыть]) – «личное» и «общее» слиты в ахматовском слове.
…7 августа 1940 года (девятнадцатилетняя годовщина со дня смерти Александра Блока) я навещала Анну Андреевну в Фонтанном Доме. Она много говорила о Блоке, о его жизни, личности, поэзии. Потом смолкла и прочла мне, как помечено в моих «Записках», «стихи о тишине в Париже», предупредив, что одной строки пока еще не хватает.
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит,
И только могильщики лихо Работают.
Дело не ждет…
Дочитав до конца, она помолчала и вдруг, после долгого молчания, произнесла, – имея в виду Францию, Париж, новую эпоху – победу фашизма:
– Какие там теперь разлуки…
Замечание глубоко человечное. Эпоха, страна, война видимы были ею всегда сквозь человека, через судьбу и боль человечьего сердца.
«Какие там теперь разлуки!» Она всегда видела сквозь отвлеченное слово «эпоха» живые судьбы людей. Одни уходят от врага, другие остаются в захваченном немцами городе. Разлуки с близкими! Ей ли было не знать, что такое насильственная разлука с тем, с теми, кого любишь:
Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном…
Или:
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей…
Однажды в середине июня 1942 года, в эвакуации, в Ташкенте, я заговорила с ней о силе ее стихов, обращенных к умирающему Ленинграду. В то время Ахматовой были уже написаны – «Клятва», начаты были в самолете и окончены в Ташкенте – «Птицы смерти в зените стоят…», написаны в Ташкенте – «Первый дальнобойный…», «Мужество», «Щели в саду вырыты…», «Постучи кулачком – я открою…», «Nox», «С грозных ли площадей Ленинграда…», «Глаз не свожу с горизонта…», – и я спросила у нее, как она думает, почему среди целого вороха умелых и в большинстве своем искренних стихов о войне именно ее стихам дана власть истязать и исцелять сердца – и не на минуту, я уверена, а на столетия вперед? В чем природа их власти?
– Не знаю, – ответила она, – будут ли мои стихи жить. Мое наблюдение над так называемой «патриотической» или «гражданственной» лирикой таково: «гражданские» стихи только тогда обретают власть над читателем, когда для поэта они «личные». Вспомните пушкинский «Орион». Это, конечно, «о декабристах», стихи гражданские, но тут и личная его судьба, и философия творчества, и мало ли еще что…
Далее моя запись продолжена так: «Я сразу подумала о “Ноченьке” и о “Первом дальнобойном” – тут, конечно, речь идет о бомбежках и обстрелах Ленинграда, это протест против уничтожения мирных жителей и культурных ценностей, но сколько тут личного, интимного, ахматовского! ее встречи, прогулки, ожидания в Летнем саду, под сенью этих деревьев, этой решетки, этих статуй.
и, конечно, ее память о Вовочке Смирнове, соседском мальчике, которого я столько раз видела у нее на руках. Вот почему статуя в Летнем саду, памятная ей еще с юности, превращена ее стихами в дочку, и сердце падает, когда читаешь заключительные строчки “Первого дальнобойного”:
Тут не только оборона родного города, тут и личная судьба Ахматовой, и живого, совершенно реального ребенка, которому она показывала картинки в “Баснях” Крылова… И – и “мало ли еще что”»[135]135
В Ташкенте до Ахматовой дошел слух, будто в Ленинграде погиб Вова Смирнов – малыш, которого она носила на руках и который, едва научившись ходить, стучал кулачком в ее дверь. В действительности же погиб не Вова Смирнов, а старший мальчик, Валя, уже школьник, к которому Анна Андреевна тоже была сильно привязана.
[Закрыть].
Да, «все есть личная жизнь», если личность огромна. Примечательно в этом смысле, что в одном из ранних – ленинградски-ташкентского времени – вариантов «Поэмы без героя» (не машинопись, а тетрадь, вся, от первой до последней страницы написанная рукою Ахматовой) «Эпилог», где речь идет об осажденном городе, посвящен Городу и Другу, Другу с большой буквы.
Разлучение наше мнимо,
Я с тобою неразлучима —
обращение к городу, но эпиграф давал право обратить его к возлюбленному, к другу.
Любовь к России, к дому, к ребенку, к другу нераздробимы, нерасчленяемы, неразлучимы в поэзии Анны Ахматовой. Мир ее любви, то, что перечувствовано ею как свое, кровное, не узок, не камерен (сколько бы раз это ни повторяли!), а, напротив, огромен.
Ленинград и Россия, судьба их, неразлучная с ее судьбой, и трагедия Парижа, захваченного немцами, была пережита ею как «личная», своя, и судьба Лондона.
…Одно из самых дорогих мне любовных стихотворений Пушкина кончается так:
Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга,
Перед изгнанием его.
Стихотворение обращено к любимой женщине:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.